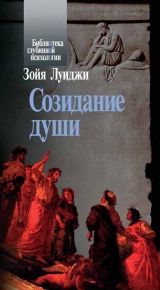
Текст книги "Созидание души"
Автор книги: Луиджи Зойя
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
1.2. Деструктивность: след личности в истории7
Прошлое
Фигура героя – один из наиболее устойчивых образцов в изменчивой западной истории. Несмотря на прошедшие тысячелетия, греческие герои для нас всегда остаются величайшим идеалом; и среди них Одиссей – наиболее сложный, наиболее полный, наиболее современный.
Но мы, жители Запада, утратили понимание наших агрессивных традиций, мы верим, что изгнали ненависть, насилие и войну из наших ценностей, и мы не знаем больше, что делаем, когда советуем нашим детям изучать «Одиссею».
В ХIX книге старая кормилица Эвриклея моет ноги нищему, гостю дворца Одиссея и Пенелопы; и читатель знает, что речь идет о переодетом Одиссее. Когда Эвриклея должна вот-вот узнать героя по старому шраму, Гомер прерывает действие, чтобы рассказать о происхождении этой раны. Но как ему и свойственно, он рассказывает намного более сложную историю. Так мы узнаем, что Одиссей унаследовал темперамент деда по матери, Автолика, «преуспевшего в обманах и ложных клятвах» (ХIX, 395–396). Но не только это получил он от деда. Автолик, используя игру слов, дал также имя новорожденному внуку: «Он пришел сюда – сказал он – odyssámenos (что означает: полный ненависти, ярости): пусть носит имя Одиссей» (ХIX, 407–409). От того же корня od-, согласно авторитетным этимологам, происходит латинское odium и все современные выражения, означающие ненависть.
Имя «Одиссей» означает «тот, кто ненавидит». Но и без обращения к лингвистам, для которых слова сохраняют следы первоначального смысла, о котором мышление не помнит, дети в наших школах очень хорошо знают эту ненависть. Если они прочли «Одиссею», они знают, что ее герой полон ненависти. Немногим позднее лук Одиссея уничтожит женихов одного за другим, несмотря на предлагаемый ими крупный выкуп и возмещение убытков. После окончания бойни еще более худшая участь ждет служанок и козопаса Мелантия, которые им прислуживали (ХХII).
Вот образец классического героизма, который мы все еще предлагаем нашим детям. Но, противореча сами себе, мы отвергаем агрессивные качества героя Одиссея. Они слишком далеки от ценностей, которыми мы пытаемся руководствоваться. Задумаемся, кто сегодня назвал бы собственного сына именем «тот, кто ненавидит»?
Если эпические прототипы приходят к нам от Гомера, первые моральные образцы мы находим в Ветхом Завете, и их язык несильно отличается. Во второй главе Второзакония содержатся правила войны. При завоевании отдаленного города «порази в нем весь мужеский пол острием меча», советует нам Второзаконие (Втор. 20: 13); однако если ты завоюешь ближайший город, из тех, которые тебе назначил Господь, «не оставляй в живых ни одной души» (Втор. 20:16).
Народ Иисуса Навина демонстрирует подобное рвение при взятии Иерихона: «и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом» (Нав. 6: 20).
Еще более агрессивны, как отмечается, германские религия и мифология, формирующие в Центральной и Южной Европе субстрат, на который привиты греко-римская и христианская культура. Достаточно напомнить о Вотане, главном божестве, который является богом войны. Его имя, так же как и Одиссея, происходит от слова Wut – ярость.
Если же мы двинемся в глубь веков, от исторического человека к доисторическому, то палеонтология и этология покажут нам, что человеческий вид составляет исключение среди живых существ, потому что убивает представителей своего вида8, то есть себе подобных с точки зрения зоологии и ближнего своего с христианской точки зрения. В материальных свидетельствах культуры неолита, мезолита и палеолита продолжают находить черепа, расколотые каменными топорами. У предметов, найденных при раскопках, мы спрашиваем, как далеко назад нужно продвинуться, чтобы найти потерянный рай Руссо, и не получаем ответа. Что мифы, что скальная роспись, которая древнее любого мифа, показывают нам людей, которые убивают других людей.
Метаморфоза
В античные времена весь человека обладал достоинством, а не только его добрая часть, Эта тотальность включала демонические комплексы, которыми человек, и в частности облеченный властью (мужчина больше, чем женщина), все еще отчасти обладает.
Этот тотальный человек, от которого неотделимы деструктивные страсти, получил свой эстетический статус в том, что наши современники назвали трагическим миром и что Гельдерлин, Ницше и Буркхардт признавали высшей точкой любой цивилизации.
Он – тотальный субъект, потому что признает полностью (смиренно, как сказали бы мы, если бы это слово не звучало по-христиански) свою двуликую натуру, креативную и деструктивную одновременно. «Я знаю, что я сделаю, но сильней моей воли страсть, причина величайших бед для людей» («Медея», 1078–1080).
Глубина размышлений трагической мысли о зле расчистила землю для посева и быстрого расцвета христианства в последующие века. Трагическая маска, которую надевало на себя уже описанное демоническое зло, была потом сдана в археологический музей. Христианство нашло смысл жизни в превосходстве добра над злом, а не в том, чтобы включать зло в единое целое, и возвело в истину устойчивые категории добра и зла, ясные и четко различимые, отвергнув судьбу, которая ввергала человека в амбивалентность. Это бескомпромиссное различение не было полностью христианским новшеством: оно было свойственно уже иудаизму, у которого его унаследовало христианство и которое обсуждалось в философии, а именно Платоном. Но оно оставалось истиной для избранных или для интеллектуалов, и только с приходом христианства становится истиной для всех слоев населения и для всего западного мира.
Итак, трагический человек, который знает и принимает свою деструктивность, уступает место идеалу – человеку добра. Целостный человек – человеку ясных категорий. Судьба – свободной воле.
Здесь нам не следует уповать на то, что этот процесс является эволюцией морали. Обратимся к другой проблеме.
Нас действительно интересует другая сторона. В театре, когда зрители концентрируют все больше внимание на сцене, менее видимой становится противоположная стена. Так и человек, порожденный христианской революцией, а затем революцией просветительской, а затем и научной (в отличие от трагического человека, который был совокупностью полутонов), все более точно и однозначно решает, что есть добро, и старается по возможности соответствовать этому.
Первая опасность – это потеря эстетическая. Подумаем о сложности архаической поэмы, такой, как «Илиада». Троянцы ничем не отличаются от греков: как те, так и другие – сложные человеческие существа, у которых перемешаны добро и зло; более того, любимый герой Гомера – Гектор.
Первый греческий историк, Геродот, имел прозвище philobarbaros9, потому что он ставил своих соотечественников и варваров на одну доску. В свою очередь, Эсхил, описывая в одной драме (которая так и называлась «Персы») греко-персидские войны, счел более важным вывести на сцену боль потерпевших поражение варваров, а не триумф греков. По сравнению с поэмами Гомера или с трагедиями Эсхила, шедевр христианской эпики «Песнь о Роланде» кажется удивительно бедным: там сарацины – грубые уродцы, но и христианские паладины, представляющие свет без тени, выглядят плоскими и предсказуемыми.
Более серьезная опасность, однако, – это потеря психологическая, избыточное упрощение, вызванное устранением зла. Постепенно агрессивные, мрачные, хтонические формы божественного были изгнаны из истории и ограничены фольклором. Демонический и деструктивный элемент, который ни одной культуре не удалось уничтожить как потенциал психического (который раньше или позже претворяется в реальное событие; и доказательством тому служит воистину трагическое воплощение марксистской утопии), находится по другую сторону от сцены, во тьме. С ним все труднее познакомиться, он все легче отвергается как видимый символ.
Как учит глубинная психология в целом, мы осуществляем цензуру тех наших качеств, которых больше всего боимся. Однако наиболее деструктивные инстинкты можно отвергнуть, но не уничтожить: мы начинаем замечать их в других как опасные качества. Недоверие, антипатия и необъяснимая ненависть – вот последние кольца деструктивной цепи, состоящей из устранения, отрицания, раскола, проекции этих качеств на противников. Безостановочный прогресс Запада все больше учил думать в ясных и позитивных категориях. Тем самым он вытеснил на обочину категории темные и негативные, и затуманил объемное видение в полутонах, которое давало возможность смотреть также и глазами Другого.
Греки убивали врага, но вряд ли последовательно ненавидели, потому что демонический комплекс не был оторван от субъекта и был полностью спроецирован на врага. И только в результате массового распространения ясных категорий добра и зла создаются психологические условия для крестовых походов, инквизиции, геноцида индейцев, мировых войн, истребления евреев, а также «железного занавеса».
Обычный человек переживает зло через посредника, вместо того чтобы узнать и преодолеть его. Преодоление мы оставляем святым: тем, кто не устраняет деструктивность, а познает ее в себе самом как темную сторону, порождаемую светом святости и закона; или, с другой точки зрения, как внутреннюю сторону трагической маски. Павел различает ее вполне ясно, когда говорит: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7: 15); «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7: 19).
Настоящее
Моральная эволюция Запада сопровождается с точки зрения видимых ценностей исчезновением демонических символов.
В истории психического это напоминает постепенную дезинфекцию верхнего этажа, которая приводит к скоплению бактерий в темном подвале личности: и там микробы размножаются, даже если ты их не видишь. Наряду со строго историческими, политическими и социальными факторами именно эта психическая инфекция ответственна за всеобщую деструктивность Первой мировой войны. После нее Европа была брошена на рабочий стол палача-портного, который, чтобы придать ей современный облик, раскромсал ее на куски националистическими ножницами и наспех сшил. Из этой «революции границ» произошла нескончаемая серия других войн. Поскольку еще сегодня мы пожинаем их последствия, а национализм становится все разрушительнее, мы можем подозревать, что и палач не был свободен от демонического импульса, который породил саму войну.
Европейская война ХХ века принесла новшество психологического рода. Впервые в истории на побежденные народы была возложена не тяжесть поражения, а бремя вины. Обычно не осознают тот факт, что военные репарации могут быть более или менее переносимыми, но при этом руки запускают всего лишь в карман побежденных; приписывание большой вины – это глубокое и революционное событие для психики, которое требует от субъекта обратиться к интерпретации или, как случается иногда, паранойяльным образом от нее уклониться. Таким путем первый послевоенный период разбудил демонический комплекс даже сильнее самой войны, перейдя без перерыва во второй мировой конфликт.
Поскольку мы вскользь упомянули о Вотане, стоит отметить, что немецкое военное возрождение и быстрое утверждение национал-социализма были интерпретированы не только как возмездие за эту вину, но именно как возвращение древнего германского бога войны, из культа которого чернорубашечники взяли немало ритуалов. Гитлеризм был также возвращением деструктивного язычества народу, который был к нему наиболее близок как христианизированный позже остальных. В этом смысле война соответствует бессознательному воплощению Рагнарека, последней битвы, в которой должны пасть все германские боги.
Что обычно не подчеркивается, так это почти уникальная особенность германских богов. Начиная с момента появления они не были бессмертными, и их мифология постоянно пронизана сознанием того, что придется умереть. Так, культ бога войны был не только культом деструктивной агрессивности, направленной на Другого. Он был пронизан ожиданием всеобщего разрушения, в том числе и разрушения себя. В гитлеризме идентификация с Вотаном соответствовала осознанию того, что война приведет к смерти всех: не только их, но и нас.
В соответствии с этой коллективной одержимостью богом Вотаном – призванным во имя смерти врага, но и своей собственной – военные кампании, которым поклонялся гитлеровский культ, ведя реальную войну, были направлены с растущей иррациональностью против растущего противника: чтобы в конце концов вызвать апокалипсис, в котором любая жизнь – главного героя и его врага, хорошая и плохая – будет уничтожена. Не случайно Гитлер, в отличие от обычных полководцев, составлял не только планы завоевания, но и план, подобный Nero Befehl (Приказ Нерона, марта 1945)10, который предписывал уничтожение еще действующих структур Германии: странное распоряжение, если рассматривать его как стратегический приказ, которое можно объяснить только как одержимость деструктивным божеством. Эта столь убедительная смерть последних германских богов была последним актом устранения символических форм демонического из сознательных ценностей. Этим последним распоряжением фюрер окончательно показал, что вел войну не в пользу немецкого народа, а во имя этих древних богов и для осуществления их трагической судьбы и смерти.
Во время второго послевоенного периода государственные стратегии, используемые многими политическими организациями, окончательно очистились от агрессивного смысла: военные министерства сменились министерствами обороны, органы шпионажа – контршпионажем. Однако агрессивность как психологическое и культурное качество не только не исчезла, но чувствовала себя настолько у себя дома в Европе, что жизнь организовывалась вокруг холодной войны и «железного занавеса»: демонизация противника, произведенная как на индивидуальном уровне, так и на уровне массовых коммуникаций.
За несколько лет эта обширная паранойя, лезвие которой разрезало страны и умы, превратила все в труху. Но тем самым мы вдруг очутились с нашим демоном в руках, не имея врага – сосуда, куда его можно надежно поместить. Мы привыкли идентифицировать себя с добром, отрицая наши деструктивные импульсы, которые приписываются врагам, потому что западная традиция, в отличие от, например, индуизма, уже устранила деструктивные формы из наших сознательных символов. Эта привычка очень древняя, так что трудно изменить ее в столь короткий срок. Однако после исчезновения врагов и введения контроля над атомным вооружением мы должны отдать себе отчет в том, что деструктивность все еще существует и живет в каждом из нас как потенциальный импульс. С этой точки зрения падение «железного занавеса» не только, как обычно думают, великое политическое событие, но и беспрецедентный повод для достижения психической зрелости.
Если мы ограничимся тем, что будем отрицать в себе формы демонического (которые в нас еще остались) и устранять их из официальной культуры, то можем ожидать появления все новых патологических форм, столь распространенных на Западе, то есть самом низком уровне, как псевдоили субкультуры, официально состоящие из фанатов футбола или определенного музыкального направления, но на самом деле – посвященные культу древних агрессивных божеств.
Показное благородство наших ценностей породило здесь свою противоположность: молодежь, которая снова обращается к культуре «Одиссеи», могла бы назвать себя «тот, кто ненавидит».
1.3. Истина11
Прежде чем употреблять такое важное слово, как «истина», мы должны выяснить, о чем идет речь. Все мы, в особенности психологи, принимаем серьезный вид, услышав это слово. При этом мы подразумеваем, что истина – это крайняя категория, которая служит обоснованием любой мысли или действия, сама же ни в каком обосновании не нуждается.
Чтобы сохранить верность психологической терминологии, нужно различать истину психическую и противостоящую ей форму внешней истины.
Первая соответствует тому, что происходит во внутреннем мире. Мои внутренние изменения и переживания, то, что меня волнует и затрагивает независимо от моих намерений, – психологически истинно, это реальность психическая (которую Юнг называет реальностью души). Такое понятие истины не имеет ничего общего с объективными доказательствами (verum-facere). Напротив, оно в некотором смысле основано на вере, даже если чуждо официальной религии. Оно связано с тем, что имеет смысл для меня, что вызывает у меня доверие (пробуждает fides, веру) и составляет мое кредо: процессы, не подчиненные рациональности или собственной воле. Истинное в психическом смысле – это нечто независимое от логических размышлений и чуждое сознательному намерению (и, следовательно, материальным доказательствам, поскольку оно не связано с отправной идеей): религиозная вера, вдохновение артиста, состояние влюбленности или даже бред психотика. Когда этот последний мы снисходительно определяем как «ложный», тем самым мы опасно недооцениваем психическую реальность, которая всегда имеет как индивидуальное, так и социальное значение. Применительно к индивиду мы должны хотя бы уважать этот бред как страдание, ищущее собственный смысл; с социальной точки зрения мы должны принимать в расчет негативный бред, который требует уничтожения опасных врагов и влечет за собой реальные тяжелые последствия. А если впавший в бредовое состояние обладает политической властью, то и прямо катастрофические.
В противовес этому внешняя истина – это мирская (светская) категория, которая регулирует объекты окружающего мира. Их атрибуты, о наличии которых мы знаем и в качестве таковых придерживаемся, незначимы для нашего внутреннего мира. Эта категория чужда вере и не создает смысл жизни. Несмотря на то что знание и наука постоянно расширяют понятие внешней истины, нам никогда не будет достаточно ее одной, она не может восполнить отсутствие иной истины. Истинной в этом смысле является, например, геометрическая теорема: говорят, что никто еще пока не умер за геометрическую теорему, в то время как издавна миллионы людей с радостью умирают за идеи абсолютно иррациональные, но полные субъективного смысла.
Можно, безусловно, констатировать, что нам всегда нужна какая-либо истина первого типа, в то время как без второй мы, кажется, можем спокойно обходиться. И не то чтобы она при этом перестала управлять окружающими объектами; просто это происходит при полном нашем неведении и равнодушии.
Первая истина, психическая, приходит к нам – и мы не можем сказать ни когда, ни где это произойдет – как некая высшая по отношению к нам сила: она занимает место в ряду религиозных сущностей. Только вторую мы способны выбирать по собственному желанию. Первая истина находит в психике тот орган, через который она может явить себя. Вторая выражает себя в универсальном органе – природе.
Только вторая истина – низкая, мирская, не психическая, – поддается рациональному управлению. День за днем бухгалтер составляет баланс фирмы, который, без сомнения, можно назвать верным. Однако в выходные он может отдалиться, отстраниться от этой истины, которая более его не затрагивает, а в понедельник вновь начать ее конструировать. Но тот же самый бухгалтер не может в отдельные дни недели разделять некую веру, (то есть ощущать ее как собственную внутреннюю истину), а в другие дни отделять себя от нее; или же, предположим, решить, что по средам он влюблен, а по четвергам – нет.
Два понятия истины имеют соответствие в двух понятиях закона: закон внутренний и закон природы. Пренебрегая законом первого рода, мы почувствовали бы себя в глубоком внутреннем противоречии с самим собой, практически независимо от того, опирается он на верное или ошибочное моральное суждение. Норма, которая управляет нами и нашей жизнью, имеет глобальную функцию: она призвана поддерживать равновесие не только в обществе, но и в нашем разуме, в нашем внутреннем мире. Законами природы мы можем не заниматься: они соблюдаются и без нашего вмешательства. Законы физики, химии и т. п. (и содержащиеся в них истины) регулируют жизнь человека, но не требуют нести за них ответственность или изучать их, так же как до возникновения человека они регулировали жизнь животных или неорганической материи.
По сути, мы говорим очень простую вещь. Некоторые истины «сами собой разумеются»; они существуют до того, как мы их обнаружим, и могут прийти в голову, но не в душу. Другие имеют отношение к нашему долгу. Создавать их – наша постоянная задача: они возникают в душе как некие независимые импульсы, которые задают направление нашим мыслям и отчасти влияют на поведение. Они могут отвечать коллективной потребности, как вера, или индивидуальной, как влюбленность, но их объединяет тот факт, что им нельзя сказать «нет».
Было показано со всей очевидностью12, что античность знала и хорошо различала два вида истины. Греческая культура ориентирована на познание и для своего времени носит светский характер; она обращается к чему-то, что уже каким-то образом существует и познается субъектом, когда он преодолевает препятствия, скрывающие это нечто: это открытие, a-letheia, выход из скрытого состояния13. Монотеистическая истина древних евреев – это приказ, заповедь; моральное качество самого субъекта, которое обнаруживается более в таких современных понятиях, как постоянство, принципиальность, твердость и т. п., чем в специфике содержания. Но также замечено, что (в процессе преображения иудаизма и универсализации его в христианстве) именно идея истины как религии, как заповеди придала форму истории, в которой мы до сих пор существуем. И в наши дни, услышав слово «истина», оказывается легче повысить голос или положить руку на нож.
Здесь уместно подчеркнуть один из глубочайших парадоксов современности. С точки зрения нашего современника, наука превосходит религию как неоспоримая и преобладающая истина. Но этот рациональный мир, лишенный очарования, который определяет свое благо только как следование по пути постоянного прогресса, под светскими одеждами скрывает свое глубокое тяготение к монотеизму, христианству и еще более древнее – к иудаизму. Причина, по которой утверждается доминирующая научно-техническая истина, лежит не вовне, не в автономии закона природы, который открывается естественным путем: истина – это все же завет, она возникает на восходящей лестнице цикла прогресса и проявляется в его бесчисленных плодах. Ни один из результатов прогресса сам по себе не важен; критерием истины выступает единственное, что никогда не отвергается, – акт веры в прогресс, который является его движущей силой; постоянное и чисто европейское и христианское стремление превратить любое благо в еще большее: не так важно, что это стремление носит светский характер и что это благо представляется состоящим из вещей этого мира. Религиозным продолжает оставаться героический порыв, с которым прогресс умножает число людей технического века: точно так же число верных должно было расти, умножаться и умножать в каждом благие дела. Соответственно, истина – это большее рациональное знание, больший опыт, больше поездок или связей с людьми, обладание большим числом вещей и т. д.
Парадокс открытого мира, созданного современной европейской культурой, в том, что этот мир вынужден генерализировать светский принцип и терпимость в окончательной форме, но при этом основывает свои устремления на религиозных и библейских корнях: как говорит один из персонажей Камю14, еще сегодня истина – это порядок. Этот мир заявляет, что движется к плюрализму, однако его подспудный движущий принцип – тоталитарный.
Мир становится окончательно открытым и безвозвратно современным, начиная с путешествия Христофора Колумба. Однако в том же году и в той же Испании выходит Гренадский эдикт, согласно которому изгоняются и лишаются имущества тысячи евреев. Христианская Европа уже считала, что обладает единственной истиной, но при несовершенстве своих технических и административных средств гостеприимно принимала также многочисленные локальные культурные и религиозные отличия. Парадоксальным образом именно в 1492 году, который обычно считается началом современной истории, начинается также нетерпимое и тоталитарное давление идеи истины, которое продолжается до Аушвица, но им не заканчивается.
Мы смотрим на тоталитарные режимы как на упадочные и крайние формы выражения некоего кредо. Но с точки зрения сопутствующей им психической динамики это не имеет значения. Они могут занимать глубинное пространство психики, как поток воды занимает емкость: это естественный процесс, который отвечает положению истины-завета как парадоксального источника современного светского мира. Марксизм занял место христианства, которое одряхлело и утратило гибкость; аналогично тоталитарный режим, возможно, оказался тупиковым этапом марксизма, находящегося в состоянии упадка. Одним из инструментов, при помощи которых марксизм совершил самоубийство в масштабах планеты, явилась именно его претензия на научную истинность, что сделало его уязвимым к любым противоречиям и неудачам. Иначе было бы, если бы он более последовательно провозгласил себя символом веры, метафизическим путем спасения.
Что касается нас, подобная опасность угрожает психоанализу. Он изучает законы, которые управляют психикой. Все дело только в том, что понимается под законами. Это не законы в смысле правил, которые описывают географию психического, как геометрия описывает правила, применимые для плоских фигур или твердых тел, а законы в смысле внутренних императивов. Не природные законы, определенные и стабильные, а формы того, что есть страсть, того, что имеет смысл, с бесчисленными вариациями в зависимости от эпохи, культуры и индивидуального темперамента.
Психическая реальность – это нечто не подлежащее программированию и объективной проверке. Ясно, что таким образом нам приходится отчасти иметь дело с внутренне противоречивым, иррациональным материалом, чего, казалось бы, можно избежать при наличии точных определений, заимствованных из естественных наук. Однако при установлении общего, определенного и окончательного критерия психической истины его неприменимость стала бы более очевидной: его нельзя было бы проследить в реальных фактах. Попытка получить его напоминала бы религиозную войну; парадоксальным образом архаический и фидеистический критерий психической истины в качестве внутренней религии предотвращает внешние религиозные конфликты и их тоталитарные проявления.
Нам никогда не удастся написать учебник по психологии столь же неопровержимый, как учебники по естественным наукам. Но сможем ли мы им не завидовать?
Здесь, на Западе, мы опасаемся, что главенство фидеистической истины над истиной объективной означает проигрыш или регресс. Но это не всегда так и зависит от контекста. В обществах, где привыкли верить, как, к примеру, в тех обществах, которые называют примитивными, может главенствовать только магическая истина как более истинная и более действенная по сравнению с объективной.
Обратимся к случаю, который приводит Ф.Боас15. Кесалид хотел стать учеником шамана не для того, чтобы действительно пройти посвящение, а чтобы выучить используемые шаманами трюки и разоблачить их претенциозное шарлатанство. Прежде чем подойти к больному, они кладут в рот какой-нибудь предмет; затем, после проведения церемонии и истерической части представления, наступает кульминационный момент лечения, когда шаман резко выплевывает этот предмет, в котором заключена болезнь, изгнанная им из тела больного. Кесалид выполняет то, что от него требуется, предвкушая торжество своей светской истины. Однако оно не наступает. Когда Кесалид заканчивает свой трюк, больной выздоравливает. Как это объяснить? Психическая и иррациональная истина традиции оказала воздействие на отношение между пациентом и целителем, даже если этот последний был убежден, что преодолел ее навсегда, и вследствие этого думал, что она никоим образом не участвует в выздоровлении.
Подобным же образом мы сейчас обращаемся к психотерапии. Вначале нас посвящают в истину Фрейда или Юнга, в которую мы верим, не задаваясь вопросами. Затем за годы работы мы незаметно теряем страсть и порыв вместе с убеждением, что базовые принципы, согласно которым мы действуем, всегда хороши и правильны; раньше или позже, как христианская церковь, которая постепенно вышла из скромных катакомб и приобрела светскую власть, мы позволяем ослабеть психической истине и заменяем ее отстраненным взглядом извне.
Пациенты, однако, продолжают выздоравливать: даже если мы сами больше и не верим в идеи, на основе которых мы работаем. Психическая истина, очевидно, является принципом настолько сильным, что побеждает даже нашу личную забывчивость.







