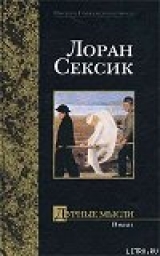
Текст книги "Дурные мысли"
Автор книги: Лоран Сексик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Меня взяли ранним утром, когда я спал, улыбаясь ангелам прошлого. Бесцеремонно разбудили и вывели наружу. Попрощаться с подругой я не успел, но, надо полагать, Маша была с ними в сговоре.
Мне завязали глаза и швырнули на заднее сиденье автомобиля. Мы ехали добрых два часа по каким-то извилистым дорогам. Я даже не пытался заглянуть в мысли своих стражей, чтобы выяснить цель поездки: маму я потерял, Машу тоже, и теперь мне было безразлично, куда покатится моя собственная жизнь.
Вскоре в окно повеяло морским воздухом. Мы ехали по берегу. Еще через минуту машина остановилась. Меня ввели в какой-то дом, на пороге сняв повязку с глаз. В конце коридора, в комнате с облупленными стенами, за письменным столом сидел человек мрачного вида, в военной форме цвета хаки. Конвоиры вышли, оставив нас вдвоем.
Мы долго молчали, сидя лицом к лицу и глядя друг другу в глаза. Незнакомец нервно постукивал по столу маленькой деревянной линейкой. В его мысли я проникнуть не мог. Они словно прятались за зеркалом, в котором отражалось лишь мое собственное сознание.
– Значит, в мыслях читать ты не умеешь, – произнес он наконец без всяких предисловий.
Я упрямо помотал головой.
– Твоя подруга Маша утверждает противоположное. Она лжет?
Я молча кивнул, огорченный открытием, что меня снова предала женщина.
Незнакомец достал из ящика стола кипу газетных вырезок и подвинул ко мне.
– А это что – антисемитская пропаганда? Там были все публикации обо мне из «Бильдцайтунг», полный обзор прессы. В некоторых статьях имелись и фотографии. Я понял, что сильно изменился. Время надо мной поработало.
Незнакомец поднялся, положил мне руку на плечо и сказал с притворным дружелюбием:
– Мы долго разыскивали тебя, Натан Левинский. И уж теперь никуда не отпустим.
Его называли «Моссад», то есть «Угрюмый», из-за его суровой внешности, низкого и монотонного голоса, а иногда еще – «майор Алеф». Но подлинного имени главы еврейской секретной службы не знал никто. Моссад был не из тех, кто дает обещания впустую. В течение года, какие бы поручения я ни выполнял, шагу нельзя было ступить, чтобы какой-нибудь капрал его маленькой армии не следил за мной. Я мечтал о путешествиях – и тут уж попутешествовал всласть. Я объездил всю Палестину, обошел пешком все арабские деревушки от равнин Галилеи до пустыни Негев. Исходил вдоль и поперек улицы священного города Иерусалима. Я заходил в дома, ночевал в полях, молился в мечетях – переодетый, под чужой личиной, чуждый самому себе.
Я стал агентом «Моссада».
Меня загримировали, волосы перекрасили в черный цвет. Одетый в бурнус и феску, я сливался с толпой. Однажды мне было велено посетить мечеть Эль-Аксах в Иерусалиме, возведеннную на руинах Великого Храма; в Писании сказано, что всякий еврей, осмелившийся вступить туда, немедленно падет бездыханным. Однако ничего не случилось, я только подвернул лодыжку, взбираясь по лестнице. Здание было чудесное, всюду резной мрамор и позолота под пламенеющим куполом. Там я был не Алисой, а Али в стране чудес.
Но приходилось вспоминать о своей грязной работе. Мне полагалось втираться в доверие важных лиц, подслушивать мысли собеседников и докладывать начальству о замыслах наших могущественных врагов.
Я был теперь внутричерепным шпионом.
Если бы я попался, моей маме доставили бы не только мое последнее ухо, но и всего меня, нарезанного аккуратными ломтиками. Еженедельно я возвращался и выкладывал свою добычу помощникам Моссада. Не планируется ли нападение на еврейские поселки? А может, замышляется убийство? Зреет новая организация? Не вспыхнет ли мятеж у ворот наших городов? Я перечислял имена, адреса, даты. Дальше действовать надлежало агентам – и они сеяли смерть и разрушение в лагере противника.
Лица тех, кого я предал, преследовали меня по ночам. Кошмар продолжался и днем, голова раскалывалась. Я страдал от душевной боли. Но когда я признавался начальству, что совесть меня мучает все сильнее, они оправдывали наши злодеяния: «Вопрос стоит так: они или мы. Выбирай, с кем ты!» Потом они заявляли тоном скрытой угрозы: «А если ты решишь, отойти в сторону, умножатся страдания твоего народа!» В снах жертвы еврейские являлись мне рука об руку с жертвами палестинскими. Меня окружали батальоны фантомов. Чувство вины одолевало меня, я был на грани нервного кризиса. Я уже не мог спать. В моей душе бушевал арабо-израильский конфликт.
Однажды утром я получил задание, рассчитанное на срок больший, чем обычно, и более опасное. Верхом на осле я пересек вражеские линии, проехал по долине Бекаа, по реке Литания до города Сайда, а оттуда – в Бейрут. Там я сумел «раствориться» среди телохранителей-черкесов и проник во дворец шейха Абдул-Азиза Мафтира, влиятельного предводителя рода Аллуитов. Согласно тивериадским источникам он намеревался вступить в союз с сирийскими войсками. Но Абдул-Азиз Мафтир покинул эти места и со всей родней перебрался в столицу Сирии. И я отправился в Дамаск.
Туда надо было несколько часов ехать поездом. Чтобы не привлекать внимания, я надумал переодеться женщиной. Спустя два часа в вагоне осталась только компания друзов – пьяные, они развалились на сиденьях и разглядывали меня с вожделением. Один из этих грубиянов поднялся и подошел ко мне с бесчестными предложениями. Возбудив таким образом впервые в жизни мужское желание, я осознал, что у женской половины человечества и впрямь есть основания жаловаться.
Меня выручил французский солдат. Произошла маленькая стычка. Мой спаситель выстрелил два-три раза из пистолета, и банда бежала.
Француз пригляделся ко мне, и во взгляде его мелькнуло удивление. Я испугался, что сейчас он разоблачит меня, однако спутники не дали ему времени на размышления. Они вышли, я остался один. На полу лежала газета, видимо, оброненная французом во время драки; ее страницы шелестели под ветерком, дующим в окно. Я наклонился, чтобы ее подобрать. На первой полосе была черная шапка:
«Германия выступила в поход на восток!»
14
До Европы я добирался тринадцать месяцев. Меня арестовали в Алеппо, посадили в тюрьму в Смирне. На берегах Евфрата я едва не умер от дизентерии. В Стамбуле меня прятали, на Кипре интернировали. Судно, на котором я плыл, потерпело крушение у острова Мальта. Но всякий раз находилась добрая душа, чтобы оказать мне помощь или приютить. Когда я уходил дальше, мне говорили, что это безумие. Но разве не была безумием и вся моя жизнь? Только ненормальный мог отважиться на путешествие по чужим разумам!
Поганый Монстр покушался на мою семью! В газетах, которые попадали мне в руки, обсуждалось, чем он руководствуется. Зачем полез на нашу землю? Покорять полудикие народы? Я один знал правду. Это была личная месть. Монстр хотел рассчитаться за поражение в «Бруденбаре». Он решил отыграться на моих родителях.
План мой был прост. По пути домой я в каждом местечке подниму по десять батальонов молодых хасидов. С Библией в одной руке и винтовкой в другой мы обратим в бегство орды Гитлера. У нас есть оружие, которым не обладает ни одна армия мира: мы знаем цену жизни человеческой, нами повелевает божественный промысел, и мы возлюбим Предвечного всем сердцем, всей душой. Ангелы-хранители, те, что открыли путь через Красное море сынам Израилевым, будут шествовать впереди наших рядов во всех битвах. Бог нас не оставит…
Ранним утром в апреле 1942 года моряк-корсиканец, который держал перевоз между островом и материком, высадил меня в пустынной бухточке к востоку от Ниццы. Он сунул мне в карман адрес знакомой женщины, у которой я смогу остановиться на несколько дней, чтобы набраться сил перед вторжением на оккупированные территории. На прощание напомнил, чтобы я избегал встреч с итальянскими солдатами. Еще раз окинув меня недоумевающим взглядом, он помахал рукой и отчалил.
По скалам между соснами и оливами вилась узкая тропинка. Я вскарабкался по ней и оказался на площадке, откуда был виден весь город. Я растянулся на траве. Только самозабвенное пение цикад да изредка пронзительные вопли чаек, круживших над холмом, нарушали тишину. Все было так мирно… Может, моряк наврал, что тут идет война? Он предупредил: «Будь начеку, может случиться так, что итальяшек сменят боши. И твое убежище превратится в мышеловку!»
Но как трудно представить, что под этим мирным небом грохот выстрелов может взорвать зачарованную тишину! Сколько хватало глаз, ни единое облачко не омрачало лазури. Море расстилалось спокойное, как огромное озеро, лишь мелкая рябь морщила гладь, и солнечные блики поблескивали на ней. Казалось, будто по воде рассыпаны бриллианты: их блеск слепил глаза.
Вершины Альп непреодолимы для варварских орд. Здесь вполне безопасно. Вот куда нужно будет притащить маму и отца, чтобы дождаться конца войны.
Мадам Женгини была дама приятная и простодушная. Она постелила мне постель, накрыла на стол: хлеб, яйца, помидоры; все это она покупала на черном рынке, у крестьян. Я мог оставаться здесь, сколько захочу. Муж ее умер уже давно, сын Алекс был в плену в Германии. А я был какая-никакая, а компания.
Не то чтобы мадам сильно любила евреев – скорее наоборот. По ее мнению, мы были виновниками всех зол: из-за нас и войну в тридцать шестом году не объявили, и ныне творятся всякие жестокости, и карточки ввели, и это всеобщее озлобление… От ее речей мое чувство вины расцвело пышным цветом.
И все-таки в ней не было расизма как такового. Она не чужда была чувства справедливости. Скажем, не считала меня лично виновным в распятии Христа. Мадам прекрасно понимала, что если разбираться по делу, эта теория хромает на обе ноги. Судя по мадам Женгини, человечество все же прогрессировало в смысле гуманности. Настала ночь, и тот, кого она приютила в своем доме, был уже не евреем-богоубийцей, а просто загнанным пареньком, на которого охотится весь мир.
С некоторого времени в мои сны стали наведываться Големы, веяли зловещие ветры. Я боялся того момента, когда темные силы ночи овладеют моей душой, и потому часами лежал без сна, выслеживая фантомы, чтобы отогнать их. Увы, как я ни старался, сон одолевал и повергал меня в пучину кошмаров.
По утрам мадам Женгини присаживалась на краешек кровати, и, видя, что я весь в поту, пыталась утешать. Она уверяла, что здесь мне ничто не угрожает. Скоро придут американцы. Если мне нужно непременно идти на восток, лучше дождаться их войск и идти следом за ними. А может, Эйзенхауэр даже предоставит мне самолет, чтобы спасти отца и маму?
В первые дни я ходил гулять на Английский бульвар, бродил по старому городу, взбирался в горы до Аспремона, и фальшивые документы, которыми снабдила меня мадам Женгини, аккуратно сложенные, лежали у меня в кармане. Я ничем особо не рисковал. Здешние жители все были вроде мадам Женгини: они ненавидели немцев и итальянцев куда больше, чем евреев. Никто не продал бы иудея за продовольственную карточку. Здесь всему знали истинную цену.
Я отдыхал, но усталость моя лишь усиливалась. По утрам я вставал все позже, с ужасной головной болью, и микстуры мадам Женгини не помогали. Стоило мне выйти на площадь Россетти, как начиналось головокружение. Стены большой церкви словно падали на меня. Приходилось возвращаться, держась за стены домов.
По вечерам меня терзали приступы лихорадки. Не успевал я забраться под одеяло, как постель становилась мокрой от пота. Вскоре я уже не мог ничего есть. Мадам Женгини отчаялась мне помочь. Она пыталась кормить и поить меня силой. Но я не мог сделать ни глотка. Эпоха стояла мне поперек горла. Спустя месяц от меня остались лишь кожа да кости. Я начинал терять рассудок. Однажды утром я так и не смог выйти из забытья, несмотря на мольбы хозяйки дома, пощечины и даже графин воды, вылитый мне на голову. Мадам Женгини додумалась позвать священника. И случилось чудо: когда кюре приготовился дать мне последнее причастие, я очнулся. Нет, я не видел ничего стыдного в том, чтобы умереть по-христиански! Но раз уж родился евреем, я хотел остаться им до конца.
Однажды я открыл глаза и не увидел света, пробивающегося через щели жалюзи. Не увидел ни картины на стене, ни ночника, ни столика, где всегда лежала Библия. Распятие над кроватью тоже исчезло. Я решил было, что ночь еще не кончилась. Однако с улицы доносился шум рынка, выкрики торговцев рыбой. Какая-то женщина пела во дворе. Я ущипнул себя за руку. Нет, не сплю. Я широко раскрыл веки – но так ничего и не увидел.
Я ослеп.
Сердце сильно, забилось. Руки задрожали. Тело внезапно выгнула судорога. Все мышцы затвердели, как камень. Слюна выступила в уголках губ. И тьма медленно, постепенно рассеялась. Зрение вернулось.
Но свет, увиденный мною, не был уже ярким солнцем Лазурного Берега. Едва брезжил пасмурный рассвет. Такой знакомый – как и местность вокруг. На вершинах гор лежал снег. Речка неспешно текла по долине. Мне даже показалось, что в воде шныряют карпы. Потом я обнаружил, что следом за мной идет Гломик. И тотчас же, еле сдержав великую радость, увидел рядом отца! Он медленно шел по грязи, лицо его избороздили морщины, волосы поседели, но отец был все тот же: сутулая спина и непреклонный взгляд. Как ни странно, никто не удивился моему появлению. Папа не принялся расспрашивать, как я жил все эти годы. Никто не попрекал меня долгим отсутствием. Все просто молча шли по раскисшему снегу.
Прядь волос упала мне на глаза; рука поднялась, чтобы отбросить ее. Я успел заметить кольцо на пальце. Это была мамина рука. Лицо отца склонилось к ее лбу, я услышал звук поцелуя. Прядь снова упала, на этот раз отец сам отвел ее. Папа прошептал: «Я люблю тебя, милая, я люблю тебя, Рахиль. Как-нибудь обойдется».
Теперь мне все стало ясно. Я смотрел глазами моей матери.
Я был в сотнях километров от мамы, но я видел все, на что падал ее взгляд, слышал то, что слышала она. Тело мое, исходящее потом и гноем, оставалось в Ницце, но дух вернулся к своим. Я наконец соединился с душою моей матери.
– Нас больше ничто не разлучит, – шепнул отец.
– Я беспокоюсь о Натане, – еле слышно откликнулась она, – Что с ним станет, если не будет нас?
Я хотел крикнуть что-нибудь ободряющее, но ни один звук не срывался с моих уст. Я был заключен в сознании мамы, но не мог общаться с нею. А с папой все было, как прежде: мы возобновили свой диалог глухих.
Мне хотелось погладить маму по щеке – но я не мог пошевелиться. Наверно, хоть надорвись я в крике, ее ушей не коснулся бы ни единый звук.
Несмотря на лихорадку, испарину, судороги, несмотря на невозможность связи, я чувствовал себя хорошо в этой чистой душе, в уюте святого материнства. Здесь со мной не могло случиться ничего плохого. О, если бы время могло остановить свой бег!
Мы идем по снегу – отец, мать и мой дух. Редкие хлопья уносит ветер. Капли пота смешиваются со слезами, туманящими глаза. Пальто не греет. Скрип шагов глухо разносится в тишине. Давайте вернемся туда, где поют цикады!
Здесь все жители местечка. Все они идут в одном направлении. Куда? В маминых мыслях на это нет ответа. Там – только глухое отчаяние. Рядом с Гломиком Всезнайкой тащится старый Мордехай. Двоюродный брат Шлома поддерживает тетю Шейну. Соломон задыхается и отстает. Все молчат, даже не молятся. Холод сковал тела, и страх отнимает язык.
Лай немецких команд наводит ужас на людей. Они идут, как автоматы – куда велят. Маму одолевают мрачные мысли. Она тревожится обо мне. Я здесь, мама! Посмотри же в глубину своего сердца! Я вернулся. Не плачь. Можешь отругать меня за то, что так долго не шел!
То и дело позади нас, в конце колонны, слышатся выстрелы, и на грязном снегу остаются тела. Мама не осмеливается оглянуться.
Между двумя большими белыми облаками проглядывает кусочек синего неба. В тот миг, когда он исчезает, яркий луч света падает на землю. Маме чудится в этом знамение Бога.
Пожатие папиной руки слабеет. Черты лица его, заострились, он бледен. Шаг его замедляется. Мама, наоборот, ускоряет ход. «Бодрись!» – шепчет она. Он делает над собою усилие.
Порой я слышу плач младенца, выброшенного в придорожную канаву, женский вопль и треск выстрела. Порой кто-то из мужчин останавливается и громко призывает Всевышнего.
Ответ – выстрел. Мы ступаем по снегу, залитому кровью.
Пусть мы замерзли и устали, но как же все-таки хорошо вновь оказаться среди своих! Конечно, я предпочел бы вернуться в других обстоятельствах. Скажем, к вечеру субботы или к свадьбе Руфи. Но с этим делом вечная проблема: стоит вам покинуть близких, и вы никогда не возвращаетесь вовремя.
Вообще, если бы я мог выбирать, то вернулся бы не в сознание, а в лоно матери. К исходной точке. И начал бы все по-другому. Исправил бы ошибки. Я не покинул бы вас. Я стоял бы на посту на околице местечка, а не на палестинских холмах, я мог бы предупредить вас обо всех опасностях. Мы успели бы вовремя бежать. Мой дар послужил бы вам, и я знал бы, что жил не напрасно.
Но не может один человек стать спасителем всего мира. Мы – лишь искры от соломы, горящей на ветру.
Снег слепит нас. Он липнет к глазам мамы, к глазам отца. Я люблю тебя, папа. Почему я не сумел сказать тебе это раньше? Ты прекрасен, отец мой. Я тобою восхищаюсь, отец, глухой к моей любви…
Мама не сводит с него глаз. Его рука все слабеет. Шаг все медленнее. Дыхание отрывистое, частое. Облачко пара вырывается изо рта и ноздрей. Гликман с дочкой обгоняют нас. Шлонк протягивает папе руку. Но отец ее не берет.
Его правая нога подворачивается.
Я помню, как он качал меня на коленях. Мы хохотали вовсю. Но то, что осталось в моей памяти – это разве мы? Да и существовало ли когда-то это время? Может, эти мгновения счастья нам приснились? Откуда налетела буря, которая все это развеяла? Мне кажется, что близок конец света. Предвечный, даруй нам другую вселенную!
Нас обошли уже все старики. Мои призывы звучат не громче, чем шорох песчинок, теряются в отзвуках горного эха. Когда Бог теряет разум, молитвы более не доходят до Него.
Мама обмирает. Все существо ее потрясено. В душе не осталось ничего, кроме боли. У нее ничего не болит, но она испытывает страшные муки. Штыки пронзают ее сердце, ножи впиваются в живот. Чудесные руки бессильно повисли. Не в силах ничем помочь, она присутствует при самом страшном: папа покидает нас. Папа сидит на снегу.
Раздается крик – звериный рев на немецком языке. К нам приближается фигура в мундире. Слезы, заливающие мамины глаза, мешают мне разглядеть лицо солдата. Но я различаю дуло автомата, направленное на нас. Вдруг в мыслях мамы всплыл мой образ. Я уверен, в тот миг она была счастлива. Почти сразу же ей явился облик ее матери и все заслонил собою. И счастье заполнило ее душу. Потом раздался ужасный треск. И ударил колокол.
Я увидел, как на маминых глазах отцу прострелили голову. Хлынула кровь и забрызгала мамино лицо. Я успел еще уловить треск второго выстрела. А потом все исчезло, и я остался один во тьме.
15
Яркий свет заливал комнату. Стены и потолок как-то отодвинулись от кровати. Тихая музыка звучала в ушах. Повернув голову, я увидел маму: она сосредоточенно разглядывала что-то, булькающее в духовке. Поодаль папа читал молитвы, и лицо его светилось счастьем. Кошмар наконец-то развеялся. Я попал в рай.
Папа снял филактерии. Мама вышла из комнаты, и двигалась она легко, словно на крыльях.
Если не считать далекой музыки, все было тихо.
Позвать маму, подать знак папе я по-прежнему не мог. Тело отяжелело, одеяло казалось свинцовым. Мне хотелось плакать от радости и печали. Но слезы не текли.
Вошел Гломик. Похоже, он позабыл про все несчастья, к нему вернулась прежняя кривая улыбочка. Я подмигнул ему, но он прошел мимо, как будто не заметил.
Никто не подходил ко мне. Может, у меня какая-то заразная болезнь? Даже мама, вернувшись, не подошла поцеловать меня.
Ныне, по прошествии времени, я думаю, что мне была явлена картина чистилища. Бог тогда не решил еще, достоин ли я воссоединиться со своими в Раю или мне положено отправиться в Ад, как и всякому, кто посмел избежать своей судьбы.
Мама все-таки подошла к моей постели, лицо ее было озабочено. Папа тоже приблизился. Когда я увидел рядом с ним дядю Беньямина, сознание оставило меня.
Время от времени я улавливал запах г-жи Женгини, горьковатый запах старой женщины, смешанный с крепким ароматом лаванды. До меня доходил также отзвук слов, которые она нашептывала мне в ухо, пытаясь влить в рот ложку бульона. Порой я ощущал на лбу мягкое прикосновение ее руки. Порой я выходил из оцепенения на несколько минут, когда влажная перчатка протирала в паху. Но я не слышал слов мадам, не видел ее лица. Я не знал, спущены ли жалюзи. Не мог определить даже, закрыты мои глаза или широко открыты. Я потерял связь с миром. Жив я или мертв? Чаши весов колебались.
Чаще всего мой желудок извергал все то, что мадам Женгини удавалось впихнуть в меня. Избавляясь от плоти, отягощавшей мой скелет, я облегчал себе путь к своим, в то небесное царство, свет которого был явлен мне на краткий миг.
Но мадам Женгини боролась за каждый мой вздох. Она хотела сохранить меня для мира – или для тех псов, которым меня отдадут на растерзание?
Постепенно в глубокой ночи, окутавшей меня, от всего божественного света осталась лишь одна звездочка. Она разгоралась все ярче по мере того, как я отказывался от всякой земной пищи. Вместе со рвотой выходила моя душа.
Увы, упрямый дух сопротивления порою все-таки брал верх. Я проглатывал ложку похлебки, полчашки отвара, каплю горькой микстуры. Против собственной воли я продлевал свое существование.
И моя добрая звездочка начала тускнеть. От нее остался лишь тоненький лучик в потемках. Ко мне стали пробиваться звуки извне. Это было невыносимо: душа возвращалась в тело.
Однажды утром с улицы донеслась немецкая речь – отрывистые команды, еще какие-то выкрики… Значит, они и сюда добрались. Наконец-то они изловят меня и отправят к нашим! Это придало мне сил для того, чтобы снова ослабеть. Мои дорогие души снова стали наведываться ко мне. Теперь уже не только папа с мамой, Гломик и Беньямин: вокруг меня плясало все местечко. Присоединились и другие знакомые. Дядюшка Зигмунд поправлял одеяло, добрый Стефан Цвейг и старый Вальтер Бенжамин облокотились о комод. Инспектор Коген не поленился прибыть из Берлина. Мои соученики с песней высаживались на берег. Казалось, будто весь еврейский народ – исчезнувший народ – в нетерпеливом ожидании столпился у моего одра.
К сожалению, мадам Женгини не сдавалась. За что мне такое яростное ее упорство? Я имею право уйти. Какой ужасный грех совершила эта женщина, что так старается его искупить? И как она смеет препятствовать воссоединению семей?
Мои мучения затягивались; пустые дни сменялись бессонными ночами. Я медлил догнать дорогих ушедших. Старуха упорствовала.
Приходилось глотать ее треклятый суп. В редкие минуты просветления я подозревал, что она накрошила туда свинины.
И понемногу мой организм вновь начал функционировать. Враг, которого я считал поверженным, вернулся. Не речь, не осязание, не слух и не зрение – мое проклятое шестое чувство оккупировало мозг. Сперва я различил невнятные шумы. Не тихий шелест мыслей старухи, но что-то совсем первобытное – смесь шорохов, пронзительных воплей и вопросительных повизгиваний. Зрительный образ был мутный, его сотрясала непрерывная и регулярная дрожь. То были темные мысли смутного времени.
Эти черные мысли, отличные от всего, что мне прежде доводилось читать, заставали меня врасплох. От них шел чумной дух, и мне казалось, что это – вина моего разлагающегося тела. Но ведь разложение шло только внутри. Телесную оболочку упрямая старуха сберегала в сохранности. Она надраивала мою плоть лучше, чем все свои окна и безделушки. Я стал главным человеком в ее жизни.
Эти мысли, похоже, поднимались от земли, словно испарения. Мне не удавалось проникнуть в их глубину. Я опускался в пропасти, затерянные между серых и грязных стен, где валялись гниющие отбросы и трупы собак. Ручейки гнилой воды, в которой плавали экскременты, просачивались в мои сны.
Иногда на меня наваливалось желание – но желание холодное, замешанное на дикарском возбуждении и лишенное чувственности – чисто животное желание.
Звуки дрожащего голоса мадам Женгини, внешние шумы, крики торговцев, рявканье нацистов, пение ветра в планках жалюзи не проникали больше к моим барабанным перепонкам. Умолкли похоронные гимны и отходные молитвы, призывы родных. Осталось только это звериное ворчание. Однажды я понял, что мой мозг находится в подвале. Я расслышал мысли крыс. Однако в действительности дело обстояло намного хуже. Мое сознание поселилось в крысиной душе.
Эта новая жизнь, самая жестокая из всех, длилась целую вечность. (Известно, что год жизни собаки приравнивают к семи годам жизни человека, но никто, кроме меня, пожалуй, не смог бы сказать, как невыносимо долго тянется жизнь грызуна.) В полумраке сточной канавы я мог различить злые глаза мыши, скрежет клюва какой-то птицы, терзающей труп помойной кошки, отчаянный крик крысенка, попавшего в мышеловку. Я не знал точно, в душу какого именно грызуна проник, но судя по количеству возбужденных самцов, идущих за мною по пятам, это была молодая самка. Глаза взрослых крыс загорались похотью, когда я проходил мимо. Наверно, я был неплохо сложенной самочкой с хорошенькой мордашкой. Когда меня вдруг начинало трясти, причем сотрясения были ритмичными, яростными, и темп их все убыстрялся, – я понимал, что за моей спиной что-то делают. Но я предпочитал не уточнять и не оборачивался, чтобы взглянуть на самца, пристроившегося сзади.
Случалось, что силы мои прибывали, и мне удавалось чуть приподняться над животным естеством. Проблески человеческого мелькали в моей душе – отсветы той самой тоненькой звездной ниточки. Но тут же передо мной представали крестные муки моих близких, и я поспешно возвращался в пропасть. Там было легче.
Однажды, когда я сладострастно вываливал в грязи отличный кусок дерьма, обгрызая скелет другой крысы, дохлой, я ощутил необычное оживление вокруг моего тела. Меня ощупывали, вертели так и этак, моим телом распоряжались. Поначалу я решил, что одержал наконец победу над упорством старухи и меня сейчас снесут на кладбище. Однако пришлось разочароваться: меня уложили на какую-то кровать и стали колоть руки и ягодицы. Поток теплой жидкости пролился по пищеводу в желудок, разогревая кровь и мысль. В горло мне вставили трубку. У меня взяли кровь. Все это походило на ад, однако о смерти речь не шла!
Первое, что пришло мне в голову, – нацисты разыскали меня. Монстр пронюхал, где мое логово. Меня хотели поставить на ноги, чтобы я мог умереть с полным осознанием происходящего.
Однако время шло, и вокруг меня создалась легкая, радостная атмосфера. В этом незнакомом месте непривычный свет вырвал меня из летаргии. И в воздухе распространялся аромат ликования, бурного и буйного. В этом ощущении радости не было ничего германского. Я давно уже знал, что немцы не умеют радоваться своему счастью.
Одновременно прекратились болезненные пробежки грызунов по моему телу. Красные глаза, сверкавшие из темноты, пропали. Писк, скрежет зубовный, пронзительные вопли – все это заглохло. Подвальную тьму медленно вытеснял нежный полумрак. Я возрождался к жизни.
Первое, что я разглядел явственно в полном свете дня, были груди Джинджер. Точнее, выпуклости под полупрозрачной блузкой. Я вздумал было протянуть к ним руку, но боль возле локтя остановила меня – помешали трубки, воткнутые в вену. Спрятать лицо на груди у Джинджер также оказалось невозможно. Всякое движение мне было запрещено – можно было только моргать. Все равно как в толпе, когда тебя сдавят со всех сторон. А я готов был горы своротить, лишь бы дотронуться – только дотронуться – до тяжелых грудей Джинджер.
Честно говоря, какие у нее были глаза, я не помню совершенно. Забылась и нежность ее рук, которые чуть позже так часто ласкали меня после отбоя, когда в палате гасили свет. Меня тянуло лишь к ее груди. Разве что голос еще вспоминается порой – мягкий, довольно низкий. Голос и грудь.
Любопытно, что Джинджер так и не позволила мне прикоснуться к своему заду, Даже когда я стал выздоравливать. Сунуть палец между бедрами также не разрешалось. «Это – для Фреда!» – говорила она и отталкивала мою руку. У Джинджер были твердые принципы. Зад – это святое. И речи быть не могло о том, чтобы позволять себя шлепать по ягодицам, когда жених сражается на фронте! «Но потискаться – это другое дело, – мурлыкала она. – Это повышает моральный дух солдат». Занималась она этим усердно и с решимостью бороться до конца. В эти минуты Джинджер была воплощённой воинственностью.
Мадам Женгини регулярно являлась осведомиться о моем самочувствии. Когда она пришла в первый раз, я ее не узнал. Вернувшись к свободе, люди неузнаваемо менялись. Их лица обретали краски. Страх ушел, вернулись улыбки. Я питал и ныне питаю к мадам Женгини вечное чувство признательности. Пусть жизнь моя мало чего стоит, но ее сохранением я обязан этой женщине. Как проценты с моего долга я и сейчас еще посылаю ей письма, не считая пачек долларов. В ее возрасте недостаток внимания окружающих переживается особенно остро. Старики, как и подростки, страдают от неудовлетворенной потребности быть полезными обществу.
Однажды утром надо мной склонилась пара совсем других грудей – смешных, плоских, придавленных тесной блузкой, и я понял, что произошла катастрофа. Джинджер отправили поднимать моральный дух и либидо в какое-то другое подразделение! Спустя некоторое время врач госпиталя Сен-Рош решил, что я вполне поправился, и меня выписали.
И я побрел по улицам Ниццы, заполненным ликующим народом, остро ощущая, насколько я далек от этого мира. Я стыдился даже своей тоски: она портила людям настроение. Пройдя по Английскому бульвару, я поднялся на мыс и остановился, глядя в море. Моя бескрайняя вселенная – любовь моих родных – простиралась до горизонта, но разбивалась о твердь реальности, как волны далеко внизу бились о скалы. У меня закружилась голова. Душа тянулась к сердцам ушедших, любимых. Я пошатнулся.
Из пучины вод, в пятнадцати метрах подо мной, протягивались руки. Призывы знакомых голосов смешивались с шумом прибоя. Солнце осеняло божественным светом залив Ангелов. Я нашел место, нашел мгновение, чтобы слиться навсегда со своей затонувшей вселенной.








