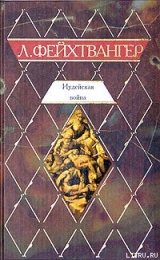
Текст книги "Иудейская война"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Нет, цезарь Тит, я не знал, что за оконцем дрова.
Тиберию Александру было совершенно ясно, что этот капитан Педан лжет, и также ясно, что он считает себя в полном праве лгать, что он убежден, будто выполнил немой приказ принца. И принц и капитан хоть и кажутся разными, но маршал отлично видит, что, по сути, они одно и то же: варвары. Принц поклялся себе и другим сохранить храм – вероятно, он честно собирался исполнить свою клятву, но втайне, совершенно так же, как и Педан, жаждал разгромить «то самое», наступить на него сапогом.
Остальные – капитаны, унтер-офицеры, солдаты – остались при своем: они ничего не видели. Никто не мог объяснить даже приблизительно, каким образом возник пожар. На все вопросы они чистосердечно повторяли:
– Цезарь Тит, мы не знаем.
Во время заседания суда Тит был заметно рассеян. Дерзкий, сообщнический взгляд подмигнувшего ему наглого Педана все в нем перевернул. Если раньше его смутно угнетала мысль о том, не косвенный ли он соучастник этого грубого солдафона, то теперь он решительно отстранил от себя эту мысль. Разве он не отдал совершенно ясного приказа? Разве не заботился всегда о железной дисциплине? Он тревожно ждал, как выскажутся его генералы, и решил отказать любимцу армии в помиловании, если они приговорят его к смерти.
Но о таком наказании никто из господ, по-видимому, и не помышлял. Они высказывались неопределенно. Может быть, следует того или другого из офицеров перевести в дисциплинарный батальон?
– А Педан? – воскликнул, прервав их, Тит, в бурном негодовании, срывающимся голосом.
Наступило неловкое молчание. Наказать Педана, носителя травяного венка, – на этот риск никто не хотел идти. Цереалий, генерал Пятого легиона, уже собирался сказать что-то в этом роде, когда слово взял маршал Тиберий Александр. Того, что, по-видимому, совершено Педаном, или, во всяком случае, допущено им, хотела вся армия, заявил он. Не один человек виноват в позорном деянии, навсегда запятнавшем имя римлянина. Своим тихим, вежливым голосом он предложил вызвать всех солдат и офицеров пожара, и каждого десятого казнить.
Именно потому, что нельзя было не признать справедливости сказанного маршалом, члены совета горячо и единодушно запротестовали. Какая дерзость, что этот человек хочет излить свою месть за иудеев на римских легионеров! Дело замяли.
В конце концов ничего не последовало. Просто – в вялом приказе первая когорта Пятого легиона получила от военного руководства выговор за то, что не воспрепятствовала пожару.
Тит был сильно раздосадован результатом следствия. Оправдаться перед Береникой уже невозможно. Он боялся спросить, куда она удалилась. Страшился, что на нее нашло одно из ее буйных настроений, уже три раза гнавших ее в пустыню, чтобы, пренебрегая плотью, внимать голосу ее бога.
Затем до него дошел слух, что она в селении Текоа. Туда было всего несколько часов пути. Но эта весть его не обрадовала. Чего искала она в этом полуразрушенном гнезде? Пожелала иметь перед глазами пеньки ее рощи как постоянное напоминание о том, что он не исполнил даже этой ее маленькой просьбы?
Широкое лицо Тита стало скорбным, его острый, треугольный подбородок выступил еще резче, он был теперь похож на злого деревенского мальчишку. Что ему делать? Ему нечем оправдать себя перед ней. Заявить грубо и лихо о военном праве, показать себя по отношению к ней господином, римлянином? Он достигнет не большего, чем в ту ночь, когда взял ее силой.
Он заставил себя не думать об этой женщине. У него хватит работы, чтобы отвлечь свои мысли. Старый город. Верхний город еще не взяты. Там толстые, мощные стены, их нельзя штурмовать сразу, без подготовки, нужно опять пустить в ход машины, минировать ворота. Он назначил себе определенный срок. Как только он возьмет Верхний город, он к ней явится.
Тит прежде всего приказал всю завоеванную территорию сровнять с землей. Разбросать камни, свалить стены. Он вошел во вкус разрушения. Дома знати, стоявшие на краю храмовых ущелий, пролетарский квартал Офла, старые крепкие здания Нижнего города были разгромлены. Ратуша и архив, уже подожженные в начале гражданской войны, подверглись вторичному разрушению. Закладные и купчие, акты продажи, отлитые из бронзы государственные договоры, занесенные на пергамент выводы долгих и страстных споров на бирже погибли навсегда. Вся территория храма и прилежащие городские районы были отданы солдатам на разграбление. В течение многих недель продолжали они рыться в золе и находить золото и драгоценности. Они ныряли и в подземные ходы под храмовым холмом, что было небезопасно: многие из них заблудились и так и не вышли на поверхность земли, многие погибли в бою с беглецами, прятавшимися в этом подземном царстве. Но рисковать стоило, так как подземелья оказались настоящим золотым дном. Римляне извлекали из шахт все новые драгоценности; не избежали общей участи и припрятанные в тайниках храмовые сокровища, а среди них – знаменитое восьмичастное одеяние, о котором так мучительно тосковал первосвященник Фанний. Драгоценные камни, благородные металлы, редкие ткани лежали грудами на римских складах, торговцам было немало дела, цена на золото понизилась по всему Востоку на двадцать семь процентов.
В Нижнем городе у евреев была святыня – мавзолей царя Давида и Соломона. Восемьдесят лет назад Ирод однажды открыл гробницу, тайком, ночью, привлеченный слухами о ее несметных сокровищах. Но когда он захотел проникнуть внутрь, где покоились останки царей, ему навстречу забило пламя, от его факела воспламенились подземные газы. Тит не боялся. Он проникал со свитой в каждый закоулок. В гробнице лежали тела обоих царей, в золотых доспехах, с диадемами на черепах, с их щиколоток скатились гигантские кольца. Им дали с собой лампы, чашки, тарелки, ковши, а также храмовые счетные книги, чтобы они могли доказать Ягве свой благочестивый образ жизни. Маршал Тиберий Александр развернул эти книги, стал рассматривать выцветшие письмена. Тит снял объемистую диадему с одного из черепов, короткими широкими руками надел на собственную голову, повернулся к свите.
– Диадема не идет вам, цезарь Тит, – сухо заявил маршал.
С жадным вниманием наблюдал Иосиф пожар храма, словно естествоиспытатель – явление природы. Он принудил себя к черствости, он хотел быть только оком, он хотел видеть все течение событий, начало, середину, конец. Он доходил все вновь и вновь до самого огня, сотни раз пересекал пылающее здание, страшно усталый и в то же время возбужденный. Он смотрел, слушал, нюхал, воспринимал; его чуткая, точная память отмечала все.
25 сентября, спустя месяц после падения храма и пять месяцев после начала осады, пал Верхний город. Пока когорты бросали жребий об отдельных кварталах, которые нужно было поделить для грабежа, улицу за улицей, Иосиф отправился прежде всего в форт Фасаила, где еврейские вожди держали своих пленных. Он надеялся вызволить из темницы отца и брата. Но форт был пуст, в нем оказались лишь мертвые, скончавшиеся от голода. Тех, кого он искал, там не было; может быть, когда ворвались римляне, маккавеи прикончили своих пленных. Может быть, часть из них скрылась в подземелья.
Иосиф углубился в город; он шел среди пожаров и резни с бесстрастной, судорожной деловитостью летописца. Весь этот долгий жаркий день бродил он вверх и вниз по гористым улочкам, по лестницам, проходам, от дворца Ирода к Садовым воротам, к Верхнему рынку, к Ессейским воротам и опять к дворцу Ирода. По этим улицам и закоулкам ходил он тридцать лет, ребенком, юношей, зрелым мужем. Он знал здесь каждый камень. Но он подавил в себе боль, хотел быть лишь оком и орудием письма.
Он ходил без оружия, только золотой письменный прибор висел почему-то у пояса. Было небезопасно расхаживать вот так в побежденном, гибнущем Иерусалиме, особенно – если человек имел сходство с евреем. Он мог бы защитить себя, носи он данный ему Титом знак отличия, пластинку с головой медузы. Но он не в силах был себя заставить.
В третий раз отправился он на улицу Рыбаков, к дому своего брата. Дом был пуст, вся движимость из него унесена. Теперь солдаты устремились в соседний дом. Его они тоже успели разграбить дочиста и теперь собирались поджечь. Иосиф заглянул через открытые ворота во двор. Там, среди шума и грабежа, стоял старик в молитвенном плаще, с молитвенными ремешками на голове и на руке, с плотно сдвинутыми ногами. Иосиф подошел к нему. Раскачиваясь верхней частью корпуса, старик громко читал молитву, ибо был час восемнадцати молений. Он молился горячо, молилось все его тело, как предписывал закон, и, когда он дошел до четырнадцатого моления, он прочел его старинный текст, принятый во времена вавилонского плена: «Да узреть очам нашим, как ты возвращаешься в Иерусалим, сжалившись, как когда-то». Это были полузабытые слова, их помнили только богословы, слова стали историей, вот уже шестьсот пятьдесят лет, как их не произносил ни один молящийся. Старик же, в первый день, когда эти слова вновь обрели смысл, молился ими, доверчиво, с упованием, ни в чем не сомневаясь. И молитва старика подействовала на Иосифа сильнее, чем все ужасы этого дня. Иосиф почувствовал, как сквозь искусственную черствость наблюдателя в нем вдруг возникла разрывающая сердце скорбь о гибели его города.
Солдаты, занятые горящим домом, до сих пор не интересовались стариком. Теперь они с любопытством окружили его, стали передразнивать: «Яа, Яа», – схватили его, сорвали с него плащ, потребовали, чтобы он повторял за ними: «Ягве осел, и я слуга осла». Они дергали его за бороду, толкали. Тогда вмешался Иосиф. Властно приказал, он, чтобы солдаты оставили старика в покое. Но они и не подумали. Кто он, что приказывает им? Он – личный секретарь командующего, заявил Иосиф, и действует с его согласия. Разве ему не было дано разрешение выпросить свободу семидесяти пленным? Ну, так может каждый сказать, заявили солдаты. Они переговаривались, разъяренные, размахивали оружием. Не еврей ли он сам, с этой своей еврейской латынью, да еще без доспехов? Они выпили вина, им хотелось видеть кровь. Со стороны Иосифа было безумием вмешиваться, поскольку он не мог предъявить письменного приказа. Из Иотапаты и из скольких еще опасностей выбрался он цел и невредим, а теперь вот умрет здесь нелепой смертью, жертвой ошибки пьяных солдат. Вдруг его осенило.
– Посмотрите на меня, – потребовал он от солдат. – Если я действительно находился среди осажденных, разве я не был бы худее?
Это показалось им убедительным, они отпустили его.
Иосиф пришел к принцу. Принц был в дурном настроении. Срок который он поставил себе, истек. Иерусалим пал; завтра, самое позднее – послезавтра он поедет верхом в Текоа. Предстоящее с этой женщиной объяснение не из приятных.
Иосиф скромно попросил о письменном разрешении, чтоб получить для своих семидесяти человек обещанную принцем свободу. Неохотно написал Тит разрешение. Пока он писал, он бросил Иосифу через плечо:
– Почему вы, собственно, никогда не просили у меня позволения вызвать сюда вашу Дорион?
Иосиф помолчал, удивленный.
– Я боялся, – ответил он затем, – что Дорион помешает мне так пережить наш поход, принц Тит, чтобы я мог его потом описать.
Тит ворчливо сказал:
– Вы, евреи, ужасно последовательны.
Эти слова обидели Иосифа. Он собирался просить больше, чем о семидесяти человеках; но, увидев настроение принца, раздумал. Сейчас главное – чтобы Тит подарил ему большее число человеческих жизней. Осторожно, очень смиренно он попросил:
– Пишите не семьдесят, цезарь Тит, пишите сто.
– И не подумаю, – отозвался принц. Он злобно посмотрел на Иосифа, его голос прозвучал так же вульгарно, как и голос его отца. – Сегодня я не дал бы тебе и семидесяти, – добавил он.
В другое время Иосиф никогда бы не решился настаивать на своей просьбе. Но его словно что-то толкало. Он должен настаивать. Он будет навеки отвержен, если не настоит.
– Подарите мне семьдесят семь, цезарь Тит, – попросил он.
– Молчи! – сказал Тит. – Я охотно отнял бы у тебя и эти семьдесят.
Иосиф взял дощечку, поблагодарил, приказал дать ему солдат, вернулся в город.
С дарящей жизнь дощечкой у пояса шел он по улицам. Они были полны убийством. Кого спасать? Встретить в числе живых отца, брата – на это мало надежды. У Иосифа были в Иерусалиме друзья, среди них женщины, с которыми он охотно встречался, но он знал, что не ради них тогда, над пропастью с трупами, смягчил Ягве сердце Тита. И не ради них Иосиф с такой дерзкой настойчивостью приставал к Титу. Это хорошо, это заслуга – спасать людей от смерти, но что такое какие-то несчастные семьдесят человек в сравнении с умирающими здесь сотнями тысяч? Он еще не хочет верить, он изо всех сил отгоняет его, но перед внутренними очами Иосифа встает одно лицо.
Вот оно, его он ищет.
Он ищет. Он должен найти. У него нет времени, он не смеет отказываться. Их сотни тысяч, а он должен среди них отыскать одного. Дело не в каких-то неизвестных семидесяти, дело в одном, вполне определенном. Кругом царит убийство, а у него за поясом дарующая жизнь дощечка, и в груди – трепетное сердце. И он должен проходить мимо остальных, должен найти одно это, определенное лицо. Но если видишь, как уничтожают людей и у тебя есть средство сказать «живи», тогда трудно пройти мимо, благоразумно дожидаясь определенного лица, молча. И Иосиф не проходил молча, он говорил «живи», он показывал на одного, – потому что ему было так страшно умирать, и на другого, потому что он был так молод, и на третьего, потому что его лицо ему понравилось. И он говорил «живи», говорил пятый, десятый, двадцатый раз. Затем снова собирал все силы разума, – у него же есть определенная задача, – принуждал себя проходить мимо людей, которые умирали, когда он проходил, но долго не выдерживал и уже говорил ближайшему «живи», следующему – и многим. Лишь когда он вырвал у рычавших, неохотно подчинявшихся солдат пятидесятого, им вновь овладела мысль о его задаче, и он перестал спасать. Он не имеет права на эту дешевую жалость, иначе он окажется ни с чем, когда найдет того, кого ищет.
Он бежит от себя самого в синагогу александрийских паломников. Теперь он добудет семьдесят свитков Священного писания, дарованных ему Титом. Грабители уже успели побывать и в синагоге. Они вытащили из ящиков священные книги, сорвали с них драгоценные затканные обложки. И вон они валялись на земле, эти благородные свитки, покрытые ценнейшими знаками, в лохмотьях, в крови, истоптанные солдатскими сапогами. Иосиф неловко наклонился, бережно поднял из навоза и крови опозоренный пергамент. В двух местах из пергамента было что-то вырезано. Иосиф обвел глазами контуры выреза, они имели форму человеческой ступни. Он понял, что солдаты не нашли ничего лучшего, как вырезать себе из свитков стельки для обуви. Механически восстановил он текст первого недостающего места: «Пришельца не притесняй и не угнетай его; ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской»[159]159
Исход (XXII, 21).
[Закрыть].
Медленно собрал Иосиф растерзанные свитки, поднял их, поднес благоговейно ко лбу, ко рту, как того требовал обычай, поцеловал. Он не мог доверить их рукам римлян. Он вышел на улицу, чтобы найти евреев, которые отнесли бы их к нему в палатку. Тут он увидел процессию, направляющуюся к Масличной горе, – очевидно, пленные, которых захватили с оружием в руках. Их бичевали, на их иссеченные затылки римляне взвалили поперечные перекладины крестов, привязав к ним их вывернутые руки. Так тащили они сами к месту казни те кресты, на которых должны были умереть. Иосиф видел угасшие, искаженные лица. Он забыл о своей задаче. Он приказал остановиться. Предъявил начальнику охраны свою дощечку. Оставалось еще двадцать жизней, которые он мог спасти, но пленных было двадцать три человека. С двадцати – поперечные перекладины были сняты, люди были полумертвы от бичевания, они тупо смотрели перед собой, они ничего не понимали. Вместо перекладины они получили теперь свитки Писания и вместо Масличной горы – отправились в римский лагерь, к палатке Иосифа. Странная это была процессия, шествовавшая через город, и солдаты над ней безумно потешались: впереди Иосиф, со своим золотым прибором у пояса, положив на сгиб каждой руки по свитку, он нес их нежно, словно это были дети, а за ним – избитые, спотыкающиеся евреи, тащившие остальные свитки.
Тит проехал часть дороги до Вифлеема очень быстро, между Вифлеемом и Текоа он замедлил бег своего коня. Задача, предстоящая ему, трудна. Имя ее – Береника. Хуже всего то, что за нее нельзя драться, ничего нельзя предпринять. Можно только встать перед ней и ждать, как она решит, угодил ты ей или не угодил.
Дорога начала круто подниматься в гору. Селение Текоа стоит на скале, голое и покинутое, за ним – пустыня. Комендант поселка выстроил своих солдат для встречи полководца. Тит принимает его рапорт. Значит, это и есть тот капитан Валент, который срубил рощу. Лицо не глупое и не умное, но честное, мужественное. Он получил приказ рубить – срубил. Удивительно, что Титу никак не удается сдержать свое слово, слово, данное этой женщине.
Вот ее дом. Он расположен на вершине скалы, маленький, ветхий, построенный когда-то для маккавейских принцев, которых ссылали в пустыню. Да, отсюда видна пустыня. Вопреки всему, Береника ушла в пустыню.
Перед домом появляется какой-то парень, грязно одетый, без ливреи. Тит посылает его в дом сказать принцессе, что он здесь. Он не известил ее заранее о своем приезде, может быть, она даже не примет его. Он ждет – обвиняемый – своего судью. Не потому, что он сжег храм. Не дела его стоят перед судом – перед судом его сущность, то, что он есть. Его лицо, его поза – это одновременно и самообвинение, и защита. Вот стоит он, начальник над многими сотнями тысяч солдат и огромным военным имуществом, человек, имеющий неограниченные полномочия на востоке, от Александрии до границ Индии, и все-таки его дальнейшая жизнь зависит от того, скажет ему эта женщина «да» или «нет»; и он беспомощен, он может только ждать.
Ворота наверху открываются, она выходит. Собственно говоря, вполне естественно, что она принимает его как почетного гостя, – его, главнокомандующего, хозяина страны, – но для Тита облегчение уже одно то, что она стоит там, наверху, что она здесь. На ней обычное простое платье, четырехугольное, из одного куска, как носят местные уроженки, и она прекрасна, она царственна, она – женщина. Тит уставился на нее одержимый, смиренный, покорный. Ждет.
А Береника знает, что сейчас в последний раз держит свою судьбу в своих руках. Она предвидела, что настанет день, когда Тит придет к ней, но она не подготовилась; она рассчитывала, что бог, ее бог Ягве, в должную минуту подскажет ей должное. Она стоит на площадке лестницы, она видит его, его жажду, его страсть, его смирение. Он все вновь нарушал свое слово, он совершил над ней насилие и снова совершит. Пусть он полон лучших намерений, он – варвар, он сын варваров, и это в нем сильнее его добрых намерений. Ничто больше не связывает ее, между ними все порвано, прошлое отжито. Она может, она должна решать заново. До сих пор она могла говорить, что сошлась с Титом ради храма. Теперь у нее нет никакого предлога. Тит сжег храм. С кем будет она отныне – с иудеями или с римлянами? В последний раз дано ей решать. Куда пойти? К этому Титу? Или в Ямнию, к Иоханану бен Заккаи, хитроумно и величественно воссоздающему иудаизм, более сокровенный, духовный, гибкий и все же более устойчивый, чем раньше? Или уехать к брату и вести жизнь высокопоставленной дамы, жизнь деятельную и пустую? Или уйти в пустыню – ждать, не раздастся ли голос? Береника стоит и смотрит на этого человека. Она чувствует идущий от него запах крови, она слышит грозное «хеп, хеп», которое слышала в лагере и которое, безусловно, звучало и в сердце этого человека. Лучше бы ей вернуться в дом. За домом начинается пустыня, там хорошо. Она приказывает себе вернуться. Но она не возвращается, она стоит на месте, ее левая нога еще на пороге, правая – уже переступила его. Вот она поднимает и левую, она медленно переносит ее, она приказывает себе: назад! Но она не идет назад. Еще на одну ступеньку ниже опускает она ногу и еще на одну. Она погибла, она знает. Она берет это на себя, она хочет погибнуть. Она спускается по лестнице.
Мужчина, стоящий внизу, видит, как Береника приближается, как она сходит вниз, к нему навстречу. Вот она, изумительная, обожаемая поступь Береники, и этой поступью принцесса идет к нему. Он стремительно бросается ей навстречу, взбегает по лестнице. Сияет. Лицо у него совсем юное, лицо счастливого мальчика, над которым благословение всех богов. Он поднимает руку, повернув к Беренике открытую ладонь, взбегает выше, ликует:
– Никион!
Ночь он проводит в маленьком заброшенном домике. На другой день едет обратно в Иерусалим, осчастливленный. Он встречает Иосифа.
– Ты, кажется, хотел получить семьдесят семь пленных? – спрашивает Тит. – Ну, вот, получай.
Иосиф, засунув за пояс дощечку с разрешением главнокомандующего, отправился на женский двор храма, который был приспособлен под лагерь военнопленных. Все эти дни его угнетала мысль, что он так дешево разменял свое право освобождать. Поиски, полные надежды и муки, начались теперь сызнова.
Начальником над лагерем военнопленных был все еще офицер Фронтон, он успел за это время дослужиться до полковника. Он лично берется сопровождать Иосифа. Он не любит еврея, но знает, что Иосифу поручено написать книгу об этой войне, и ему хочется быть в книге положительной фигурой. Он объясняет Иосифу, как трудно заведовать таким огромным лагерем. Рынок рабов набит людьми до отказа. А как нужно весь этот сброд откармливать, чтобы довести их до человеческого вида! Они совсем отощали, его дорогие детки, кожа да кости, многие больны заразными болезнями. За одну эту неделю отправилось к праотцам одиннадцать тысяч. Впрочем, они сами виноваты. Наши легионеры добродушны, они склонны пошутить, они нередко предлагают пленным своей свинины. Но представьте, эти типы предпочитают сдохнуть, чем съесть свинины.
Пленных, которые были при оружии, Фронтон, конечно, не кормит, – он сейчас же их казнит. Что касается остальных, то он старается, чтобы их выкупали родственники. А от тех, кого не выкупят, он надеется в течение примерно полугода отделаться с помощью нескольких крупных аукционов. Пленных, не имеющих рыночной цены, пожилых, слабых мужчин, пожилых женщин, ничего не умеющих, он ликвидирует довольно просто, поставляя их как материал для травли дикими зверями и для военных игр.
Медленно, молчаливо шел Иосиф рядом с усердствовавшим полковником Фронтоном. На груди пленных висели таблички с их именами и краткой характеристикой; они сидели на корточках или лежали плотной кучей среди жары и вони; их глаза в течение многих недель видели смерть; они изведали до дна и надежду и страх, теперь в них ничего не осталось, они были опустошены.
Часть двора, через которую проходили Иосиф и полковник, была отведена пленным, предназначенным для травли зверями и для военных игр.
– Доктор Иосиф! – окликнул Иосифа один из пленных жалобно и радостно, старик, взъерошенный, с серым лицом, патлатый.
Иосиф порылся в своей памяти, не узнал его.
– Я стеклодув Алексий, – сказал человек.
Как, этот вот человек – умный, практичный купец Алексий? Статный, плотный Алексий, сверстник Иосифа?
– Я встретился с вами в последний раз на ярмарке в Кесарии, доктор Иосиф, – напомнил он ему. – Мы говорили о том, что человек, который следует разуму, обречен на страданье.
Иосиф обратился к Фронтону:
– Мне кажется, этот никогда не был бунтовщиком.
– Мне его передала следственная комиссия, – ответил, пожав плечами, Фронтон.
– Римское судопроизводство поставлено неплохо, – скромно вмешался Алексий и с легкой улыбкой, – но здесь оно иногда применяется несколько упрощенно.
– Малый неглуп, – засмеялся Фронтон. – Но куда бы мы зашли, если бы пересматривали все решения? Это противоречило бы нашим общим установкам. Лучше допустить несправедливость, чем нарушение порядка, – таков был приказ командующего, когда он передал мне управление этим лагерем.
– Не хлопочите за меня, доктор Иосиф, – покорно сказал Алексий. – На меня уже обрушилась такая гора несчастий, что никакая дружеская помощь через нее не перельется.
– Я прошу за этого человека, – сказал Иосиф и указал на свою дощечку.
– Как вам угодно, – вежливо отозвался полковник Фронтон. – Теперь у вас осталось еще на шесть штук, – констатировал он и сделал свою пометку на дощечке.
Иосиф приказал отвести стеклодува Алексия в свою палатку. Он окружил измученного, скорбящего человека нежной заботой. Алексий рассказал, как он при появлении римлян потащил отца в подземелье, чтобы спасти и его и себя. Старик Нахум воспротивился этому. Если он погибнет в доме на улице Торговцев мазями, то есть хоть слабая надежда на то, что кто-нибудь найдет его и похоронит. Если же он умрет в подземелье, то останется непогребенным, без земли над ним, и когда восстанет из мертвых, потеряет свое лицо. Наконец Алексию удалось, отчасти силой, отчасти убеждением, увести старика в подземелье, но их факел скоро погас, и они потеряли друг друга. Его самого спустя некоторое время выследили двое солдат. Они пощекотали его мечами, и он дал им кое-что из зарытого им. Так как он намекнул им, что у него есть еще кое-что, они оставили его пока при себе и не сдали в лагерь военнопленных. Они оказались занятными, обходительными парнями, и, самое главное, с двумя солдатами можно было сговориться, с римской же армией, с лагерным начальством сговориться было нельзя. Они заставляли его рассказывать смешные вещи. А если его шутки солдатам не нравились, они привязывали его вниз головой за руки и за ноги к древесному стволу и раскачивали взад и вперед. Это было неприятно. Но обычно его шутки им нравились. Солдаты оказались не из худших, в общем – все трое ладили. Больше недели таскали они его за собой, заставляли проделывать перед другими солдатами всякие фокусы, острить. Еврейский акцент, с каким он говорил по-латыни, забавлял их и их товарищей. Наконец они решили, что он годится в привратники, и хотели оставить его у себя, пока не продадут как привратника. Это его устраивало. Все же лучше, чем погибнуть в египетских копях или на сирийской арене. Но его два хозяина, спустившиеся вторично в подземелье, не возвратились, и их товарищи по палатке отвели его в лагерь военнопленных.
– Все это случилось со мной, – размышлял вслух Алексий, – оттого, что я не следовал голосу разума. Уберись я своевременно из Иерусалима, я сохранил бы, по крайней мере, жену и детей, но я хотел иметь все, хотел сохранить и отца и брата. Меня обуяла гордыня.
Он попросил Иосифа принять от него в подарок муррийскую вазу. Да, у этого мудрого Алексия все еще имелись какие-то резервы. Ему многое удалось спасти, говорил Алексий с горечью, только самого главного он не спас. Его отец Нахум, где он? Его жена Ханна, его дети, его дорогой, пылкий, глупый брат Эфраим – где они? И то, что пережил он сам, Алексий, превосходит человеческие силы. Он будет выделывать стекло и иные прекрасные предметы. Но он не заслужил милости перед богом, он не решится снова родить в этот мир ребенка.
На следующей день Иосиф опять пошел через лагерь. Теперь в его руках осталось только шесть человеческих жизней; он не раздаст их, пока не отыщет одного, определенного человека. Но как ему отыскать этого одного – среди миллиона мертвых, пленных, несчастных? Это все равно что искать рыбу в море.
Когда Иосиф пришел в лагерь и на третий день, капитан Фронтон стал его поддразнивать. Он, дескать, рад, что Иосиф больше интересуется его товаром, чем любой торговец рабами. Иосиф не обращал внимания на его слова, он проискал и весь этот день, но тщетно.
Поздно вечером он узнал, что, в результате полицейской облавы в подземелье, оттуда доставлено восемьсот пленных, которых Фронтон сейчас же приговорил к распятию. Иосиф уже лег, он устал, измучился. Однако он опять оделся.
Была глубокая ночь, когда он достиг Масличной горы, где происходили казни. Густо стояли кресты, сотнями. Там, где раньше находились террасы с оливковыми деревьями, склады братьев Ханан, виллы, принадлежавшие первосвященническому роду Боэтус, всюду высились теперь кресты. На них висели нагие люди, исполосованные бичами, сведенные судорогами, – голова набок, отвалившаяся нижняя челюсть, свинцово-серые веки. Иосиф и его спутники осветили некоторые лица, они были чудовищно искажены. Когда свет падал на их лица, распятые начинали говорить. Некоторые произносили проклятия, большинство бормотало свое: «Слушай, Израиль». Иосиф устал до потери сознания. Его охватывало искушение сказать о первом попавшемся: «Снимите, снимите», – не выбирая, лишь бы положить конец мучительным поискам. Дощечка, дававшая ему власть, казалось, становится все тяжелее. Только бы прочь отсюда, только бы заснуть, дойти до семьдесят седьмого, освободиться от дощечки. И в палатку, свалиться, спать.
Тут-то он и нашел того, кого искал. У Желтолицего торчала патлами свалявшаяся борода, и лицо его уже не было желтым, скорее серым, толстый обложенный язык вывисал из разинутого рта.
– Снимите! – сказал Иосиф; он сказал это очень тихо, ему было трудно говорить, он давился, глотал слюну.
Профосы колебались. Пришлось позвать полковника Фронтона. Иосифу казалось, что, пока он здесь ожидает у ног Желтолицего, тот умрет. Он не должен умереть. Великий диалог между ним и Юстом не кончен. Юст не смел умереть, пока диалог не закончится.
Наконец пришел Фронтон, заспанный, сердитый, – за день он очень устал. Несмотря на это, он, как всегда, вежливо выслушал Иосифа. Тотчас приказал снять Желтолицего и отдать Иосифу.
– У вас осталось еще пять штук, – сказал он и сделал пометку на Иосифовой табличке.
– Снимите! Снимите! – указал Иосиф еще на пятерых ближайших.
– Теперь больше нет ни одного, – констатировал полковник.
Желтолицый был пригвожден, это был более мягкий способ, но снятие именно поэтому оказалось очень трудным. Он провисел пять часов – для сильного человека немного, но Желтолицый не был сильным человеком. Иосиф послал за врачами. От боли Желтолицый пришел в себя, вновь потерял сознание, затем боль опять вернула ему сознание. Явились врачи. Им сказали, что дело идет о жизни еврейского пророка, который снят с креста по приказу принца. Такие вещи происходили не часто. Лучшие врачи лагеря заинтересовались этим случаем. Иосиф требовал от них ответа. Они отвечали уклончиво. Раньше чем через три дня они не могут сказать, выживет Юст или нет.








