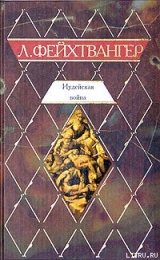
Текст книги "Иудейская война"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Сам Иосиф, казалось, отнесся к этой истории не слишком серьезно. Он продолжал вести, как и раньше, блистательную жизнь – среди женщин, писателей и актеров, был высокочтимым гостем в кругах канопской золотой молодежи. Принц Тит еще более явно, чем прежде, выделял его и показывался почти всегда в его обществе.
Но когда Иосиф оставался один, ночами, он чувствовал себя больным от стыда и горечи. Его мысли обращались против него самого. Он нечист, он покрыт проказой и внутри и снаружи. Никакой Тит не может соскоблить с него этих струпьев. Этот стыд был вполне осязаем, каждый мог его видеть. У этого стыда было имя. Имя это – Мара. Он должен засыпать источник своих бедствий, и засыпать его навеки.
Через несколько недель, ни с кем не посоветовавшись, он отправился к верховному судье общины, доктору Василиду. Со времени своего изгнания из синагоги Иосиф не показывался ни у одного из представителей еврейской знати. Верховный судья почувствовал неловкость. Он не находил слов, ерзал, пробормотал несколько несвязных фраз. Но Иосиф извлек разорванную жреческую шапочку, как предписывал в подобных случаях обычай, положил ее перед верховным судьей, разодрал одежду и сказал:
– Доктор и господин мой Василид, я ваш слуга и подчиненный, Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды при Иерусалимском храме. Я впал в грех дурного влечения. Я женился на женщине, хотя женитьба на ней была мне запрещена, на военнопленной, она блудила с римлянами. Меня следует вырвать, как плевел.
Когда Иосиф произнес эти слова, доктор Василид, верховный судья общины, побледнел; их смысл ему слишком хорошо известен. Прошло некоторое время, прежде чем он ответил предписанной формулой:
– Это наказание, грешник, не в руке человека, оно в руке господней.
Иосиф продолжал и спросил сообразно с формулой:
– Существует ли средство, доктор и господин мой Василид, с помощью которого грешник сможет отвести наказание от себя и своего рода?
И верховный судья ответил:
– Если грешник примет на себя сорок ударов, Ягве смилостивится. Но об этом наказании грешник должен просить.
Иосиф сказал:
– Прошу, доктор и господин мой, о наказании сорока ударами.
Когда стало известно, что Иосиф хочет принять бичевание, это вызвало в городе Александрии большой шум; бичеванием наказывали не часто, обычно только рабов. Маккавеи изумились и умолкли; многие из тех, кто громче всех кричал при изгнании Иосифа из синагоги, теперь втайне пожалели об этом. Белобашмачники же измазали все стены домов карикатурами на бичуемого Иосифа, а в харчевнях распевали о нем куплеты.
Иудейские чиновники не объявили о дне экзекуции. Все-таки в назначенный день весь двор Августовой синагоги был полон людьми, а окрестные улицы бурлили любопытными. Смугло-бледный, исхудавший, с горящими глазами, смотревшими прямо перед собой, шел Иосиф к верховному судье. Он приложил руку ко лбу, сказал так громко, что его услышали в самых далеких закоулках:
– Доктор и господин судья, я впал в грех дурного влечения. Прошу о наказании сорока ударами.
Верховный судья ответил:
– Итак, передаю тебя, грешник, судебному исполнителю.
Палач Анания бар Акашья кивнул своим двум помощникам, и они сорвали с Иосифа одежду. Подошел врач, освидетельствовал его, способен ли он выдержать бичевание и не будет ли под бичом испускать мочу и кал, ибо это считалось бесчестием, а в законе сказано: «Твой брат да не будет посрамлен перед глазами твоими»[121]121
Неточная цитата из Второзакония (XXV, 3).
[Закрыть]. Иосифа осматривал старший врач общины, Юлиан. Он тщательно осмотрел его, особенно сердце и легкие. Многие из присутствующих ожидали, что врач не найдет Иосифа способным выдержать все бичевания, а самое большое – несколько ударов. В глубине души на такое заключение надеялся и сам Иосиф Но врач вымыл руки и заявил:
– Грешник выдержит сорок ударов.
Палач приказал Иосифу стать на колени. Помощники привязали его руки к столбу, так что колени находились на некотором расстоянии от столба, и все видели, как натянулась гладкая бледная кожа на его спине. Затем они привязали к его груди тяжелый камень, оттянувший вниз верхнюю часть тела. Палач Анания бар Акашья схватил бич. И в то время, как сердце Иосифа, казалось, на глазах у всех бьется о ребра, палач обстоятельно прикрепил к рукоятке широкий ремень из бычьей кожи, проверил его, немного отпустил, натянул, опять отпустил. Кончик ремня должен был достигать живота наказуемого. Так предписывал закон.
Верховный судья начал читать оба стиха из Писания, относящихся к бичеванию: «И должно происходить так: если виновный заслуживает побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не больше, иначе, если дадут ему много ударов свыше этого, брат твой будет посрамлен пред глазами твоими»[122]122
См. Второзаконие (XXV, 2-3).
[Закрыть]. Палач тринадцать раз полоснул Иосифа по спине. Второй судья отсчитывал удары, потом помощники облили наказуемого водой. Затем третий судья сказал: «Бей», – и палач ударил тринадцать раз по груди. Помощники опять облили наказуемого. Напоследок палач нанес ему еще тринадцать ударов по спине. Было очень тихо. Люди слышали резкие звуки ударов, слышали сдавленное, свистящее дыхание Иосифа, видели, как трепещет его сердце. Иосиф лежал связанный и задыхался под ударами бича. Они были короткие и острые, а боль – как бесконечное взволнованное море; она накатывала высокими валами, уносила Иосифа, отступала, Иосиф всплывал, она приходила опять и обрушивалась на него. Иосиф хрипел, захлебывался, вдыхал запах крови. Все это происходило из-за Мары, дочери Лакиша, он желал ее, он ненавидел ее, теперь ее надо вытравить из его крови. Он молился: «Из бездны взываю к тебе, господи»[123]123
Начало 129-го псалма.
[Закрыть]. Он считал удары, но сбился со счета; это были уже сотни ударов, и они продолжались бесконечно. Закон требовал, чтобы было не сорок ударов, а тридцать девять; ибо написано: «числом до», что значило «приблизительно», и потому давалось только тридцать девять. О, как мягок закон богословов! Как жестоко Писание! Если они сейчас не перестанут, он умрет. Ему казалось, что Иоханан бен Заккаи запретит им продолжать. Иоханан находился в Иудее, в Иерусалиме или в Ямнии; но все-таки он окажется здесь, он разверзнет уста. Важно только выдержать до тех пор. Земля и столб перед ним заволакиваются туманом, но Иосиф пытается овладеть собой. Ему приказано видеть все отчетливо, различать землю и столб, пока не придет Иоханан. Но Иоханан бен Заккаи не пришел, и Иосиф в конце концов все же перестал видеть и потерял сознание. Да, на двадцать четвертом ударе с ним сделался обморок; и он безжизненно повис на веревках. Но после того как его облили водой, он снова пришел в себя, и врач сказал:
– Выдержит.
И судья сказал:
– Продолжайте.
Среди зрителей была и принцесса Береника. Здесь не оказалось ни трибун, ни отгороженных мест. Но еще накануне ночью она послала своего самого сильного каппадокийского раба занять для нее место. И вот, зажатая множеством людей, стояла она во втором ряду, полураскрыв удлиненный рот, тяжело дыша, упорно устремив глаза на бичуемого. Во дворе царила беззвучная тишина. Слышен был только голос верховного судьи, читавшего стихи из Писания, – крайне медленно, всего три раза, и издалека, с улиц, доносились крики толпы. Очень внимательно смотрела Береника, как этот высокомерный Иосиф принимает удары, чтобы освободиться от шлюхи, которой вынужден был дать свое имя. Да, Береника чувствует, что с Иосифом ее связывает кровное родство. Этот человек не гонится за маленькими грешками и мелкими добродетелями. Так смириться, чтобы вознестись тем выше, – это она понимала. Находясь в пустыне, она сама вкусила сладострастие подобных унижений. Ее лицо побледнело, смотреть было нелегко, но она продолжала смотреть. Она беззвучно шевелила губами, механически считала удары. Она была рада, когда упал последний; но она могла бы смотреть и дольше. Во рту у нее пересохло.
Иосифа, окровавленного и потерявшего сознание, отнесли в дом общины. Его обмыли, под присмотром врача Юлиана натерли мазями, влили в рот питье из вина и мирры. Когда он пришел в себя, он сказал:
– Дайте палачу двести сестерциев.
Тем временем Мара, дочь Лакиша, ходила счастливая, радуясь ребенку, которого должна была родить, оберегая его с тысячью предосторожностей. Крайне трудолюбивая, она теперь никогда не вертела ручную мельницу, чтобы ребенок не был пьяницей. Не ела незрелых фиг, чтобы он не родился с гноящимися глазами, не пила пива, чтобы не испортить ему цвет лица, не ела горчицы, чтобы он не стал кутилой. Наоборот, она ела яйца, чтобы глаза у ребенка стали больше, краснорыбицу, чтобы люди относились к нему благожелательно, лимонные цукаты, чтобы его кожа приятно пахла. Пугливо сторонилась она всякого безобразия, чтобы нечаянно на него не взглянуть, усердно старалась смотреть на красивые лица. С трудом добыла волшебный орлиный камень, он от природы полый внутри, но в нем заключен второй камень – подобие беременной женщины: она хотя и отверста, но ребенка не выронит.
Когда наступило время родов, Мару устроили на родильном стуле – особой плетеной подставке, на которой она могла полулежать, и привязали к подставке курицу, чтобы ее трепыхание ускорило роды. Роды были трудные, спустя много дней Мара при воспоминании о них все еще ощущала резкий холод в бедрах. Повивальная бабка произносила заклинания, считала, называла ее по имени, считала. Наконец появился ребенок, это был мальчик, сине-черный, грязный, его кожа была покрыта кровью и слизью, но он кричал, и кричал так, что крик отдавался от стен. Это был хороший знак, и то, что ребенок родился в субботу, тоже хороший знак. Несмотря на субботу, ему сделали ванну из теплой воды и в воду налили вина, драгоценного эшкольского вина. Осторожно вытянули ребенку тельце, смазали мягкий затылок кашицей из незрелого винограда, чтобы предохранить от насекомых. Тело умастили теплым маслом, присыпали порошком истолченной мирры, завернули в тонкое полотно; Мара экономила на своих платьях, чтобы добыть лучшее полотно для ребенка.
– Яник, Яник, йильди, мое дитя, моя детка, мой бебе, – говорила Мара и с гордостью велела на другой день посадить кедр, так как родился мальчик.
Все девять месяцев своей беременности обдумывала она, как назвать мальчика. Но теперь, в эту неделю перед обрезанием, когда надо было решать, она долго колебалась. Наконец она выбрала. Мара призвала писца и продиктовала ему следующее письмо:
«Мара, дочь Лакиша, приветствует своего господина, Иосифа, сына Маттафия, священника первой череды, друга императора.
О Иосиф, господин мой, Ягве увидел, что не угодила тебе служанка твоя, и он благословил мое чрево и удостоил меня родить тебе сына. Он родился в субботу и весит семь литр шестьдесят пять зузов[124]124
Литра – римская мера веса (327,43 грамма). Зуз – еврейская монета и мера веса (одна сотая литры).
[Закрыть], и его крик отдавался от стен. Я назвала его Симоном, что значит «сын услышания», ибо Ягве услышал меня, когда я была тебе неугодна. Иосиф, господин мой, приветствую тебя, стань великим в лучах императорской милости, и лик господень да светит тебе.И не ешь пальмовой капусты, ибо от этого у тебя делается давление в груди».
В один из этих дней, еще до получения письма, Иосиф стоял в переднем зале Александрийской общины, бледный и худой, осунувшийся после бичевания, но все же он держался прямо. Рядом с ним стояли в качестве свидетелей верховный наставник Феодор бар Даниил и председатель Августовой общины – Никодим. Председательствовал сам верховный судья Василид, три богослова были судьями. Главный секретарь общины писал под диктовку верховного судьи; он писал, как того требовал закон, на пергаменте из телячьей кожи, писал гусиным пером и густо-черными чернилами и старался, чтобы документ состоял точно из двенадцати строк, согласно числовому смыслу еврейского слова «гет»[125]125
В еврейском алфавите буквы имеют числовое значение, поэтому числа пишутся и читаются как слова.
[Закрыть], означавшего разводное письмо.
Гусиное перо скрипело по пергаменту, а Иосиф слышал в своем сердце шорох, более громкий, чем этот скрип. Это был тот резкий шорох, с каким Мара, дочь Лакиша, разрывала на себе платье и сандалии, молча, обстоятельно, в то раннее утро, когда она вернулась от римлянина Веспасиана. Иосиф думал, что забыл этот шорох, но теперь он слышал его опять, очень громкий, громче, чем скрип пера. Но он запретил уху слышать, сердцу – чувствовать.
Секретарь же писал вот что: «В семнадцатый день месяца кислев[126]126
Кислев – месяц в еврейском религиозном календаре, примерно соответствующий декабрю.
[Закрыть], в 3830 году от сотворения мира, в городе Александрии у Египетского моря.
Я, Иосиф бен Маттафий, по прозванию Иосиф Флавий, еврей, находящийся ныне в городе Александрии, у Египетского моря, согласился свободно и без принуждения тебя, мою законную жену Мару, дочь Лакиша, находящуюся ныне в городе Кесарии у Еврейского моря, отпустить, освободить и дать тебе развод. Ты была до сих пор моей женой. Отныне будь свободна, разведена, тебе разрешается впредь располагать собой, и впредь нет на тебе запрета ни для кого.
Этим ты получаешь от меня извещение о свободе и разводное письмо, по закону Моисея и Израиля».
Документ этот был передан особому лицу, с письменным поручением доставить его Маре, дочери Лакиша, и отдать в присутствии председателя Кесарийской общины, а также девяти других взрослых евреев.
Мара была вызвана к председателю в самый день прибытия курьера. Она не подозревала о причине вызова. В присутствии председателя общины курьер передал ей письмо. Она не умела читать; она попросила, чтобы ей прочли его. Ей прочли, она не поняла; ей прочли еще раз, объяснили. Она упала в обморок. Секретарь общины, надорвав письмо в знак того, что оно передано и прочитано, как того требовал закон, приобщил его к делам и выдал курьеру соответствующую расписку.
Мара вернулась домой. Она поняла, что не обрела благоволения у Иосифа. Если жена не обретет благоволения мужа, он имеет право отослать ее. Ни одна ее мысль не обратилась против Иосифа.
Отныне она с боязливой заботливостью посвятила свои дни маленькому Симону, Иосифову первенцу. Тщательно избегала она всего, что могло повредить ее молоку, не ела соленой рыбы, лука, некоторых овощей. Теперь она не звала своего сына Симоном, она звала его сначала бар Меир, то есть сын сияющего, затем бар Адир, – сын могущественного, затем бар Нифли – сын облака. Но председатель общины вызвал ее вторично и запретил так называть сына, ибо облако, могущественный и сияющий – это имена мессии. Она поднесла руку к низкому лбу, склонилась, обещала покориться. Но когда она оставалась одна, ночами, и ее никто не слышал, она продолжала звать маленького Симона этими именами.
Преданно берегла она вещи, к которым когда-то прикасался Иосиф, платки, которыми он утирался, тарелку, на которой он ел. Она хотела вырастить сына достойным отца. Мара предвидела, что ее ждут большие трудности. Ибо сын, рожденный от брака священника с военнопленной, считался незаконным, он был исключен из общины. Но все-таки она должна была найти выход. По субботам, по праздникам она показывала маленькому Симону отцовские реликвии, платки, тарелку, рассказывала ему о величии отца, убеждала его стать таким же знатным и ученым, как отец.
После того как Иосиф передал соответствующему чиновнику в Александрии удостоверение о разводе, он был торжественно вызван в главную синагогу, чтобы читать Святое писание, и – в соответствии с его духовным саном – первым. После долгого времени опять он был в жреческой шапочке и голубом, затканном цветами поясе священника первой череды. Он поднялся на возвышенье, стал перед развернутой торой, от которой его всего несколько недель тому назад отторгнули. В беззвучной тишине над стотысячной толпой произнес он слова: «Благословен ты, Ягве, боже наш, давший нам истинное учение и насадивший в нас жизнь вечную». Затем прочел громким голосом отрывок из Писания, который полагалось читать в эту субботу.
В середине зимы, около нового года, Веспасиан убедился, что теперь империя у него в руках. Работа солдата была закончена, начиналось самое трудное: работа администратора. То, что пока делалось в Риме его именем, было плохо и неразумно. С холодной жадностью выжимал Муциан из Италии все деньги, какие только мог, а младший сын императора – Домициан, которого Веспасиан терпеть не мог, этот «фрукт» и лодырь, действовал в качестве наместника императора, карал и миловал по своему усмотрению. Веспасиан написал Муциану, чтобы он давал стране не слишком много слабительного, ибо один от поноса уже умер. «Фрукту» он написал, не будет ли тот так добр на будущий год сдать должность. Затем выписал из Рима в Александрию трех человек: древнего старца, министра финансов Этруска, придворного ювелира и директора императорских жемчужных промыслов Клавдия Регина, и управляющего сабинскими имениями.
Трое экспертов обменялись цифровыми данными, проверили их. Империалистическая политика Нерона на Востоке и беспорядки после его смерти уничтожили огромные ценности; сумма государственного долга, подсчитанная этими тремя людьми, была очень велика. Регин взял на себя неблагодарную задачу назвать императору эту сумму.
Веспасиан и финансист еще никогда не встречались. Теперь они сидели друг против друга в удобных креслах. Регин щурился, он казался сонным; заложил одну жирную ногу на другую, развязавшиеся ремни сандалий болтались. Он сделал ставку на этого Веспасиана очень давно, когда с ним можно было устраивать еще очень скромные дела. Регин завязал отношения с госпожой Кенидой, и когда начались большие поставки на Восточную и Европейскую армии, платил ей довольно крупные комиссионные. Веспасиан знал, что этот человек вел себя при расчетах вполне прилично. Светлыми суровыми глазами смотрел он на мясистое, обрюзгшее, печальное лицо Регина. Оба собеседника обнюхивали друг друга, оказалось, что они пахнут приятно.
Регин назвал императору цифру в сорок миллиардов. Веспасиан не пришел в ужас. Он только засопел чуть громче, но голос его был спокоен, когда он ответил:
– Сорок миллиардов? Вы смелый человек. А не перехватили вы через край?
Но Клавдий Регин жирным голосом спокойно настаивал: сорок миллиардов. Нужно уметь смотреть цифрами в глаза.
– Я и смотрю им в глаза, – отозвался, шумно засопев, император.
Они обсудили необходимые деловые мероприятия. Можно было получить огромные суммы, если конфисковать имущество тех, кто уже после провозглашения Веспасиана оставался верен прежнему императору. Это было как раз в тот день, в который Веспасиан, по предписанию врача Гекатея, обычно постился и в такие дни он особенно охотно занимался делами.
– Вы еврей? – спросил он тут же.
– Наполовину, – отозвался Регин, – но с каждым годом становлюсь все больше похож на еврея.
– Я знаю способ, – Веспасиан прищурился, – отделаться сразу от половины долга.
– Интересно! – ответствовал Клавдий Регин.
– Если бы я приказал, – размышлял вслух Веспасиан, – чтобы здесь в главной синагоге поставили мою статую…
– То евреи взбунтовались бы, – досказал Клавдий Регин.
– Правильно, – согласился император. – И тогда я мог бы отнять у них их деньги.
– Правильно, – согласился Клавдий Регин. – Это дало бы примерно двадцать миллиардов.
– Вы хорошо считаете, – похвалил император.
– Тогда вы покрыли бы половину долга, – заметил Клавдий Регин. – Но второй половины вам уже не удалось бы покрыть никогда, ибо хозяйство и кредиты, и не только на Востоке, были бы навсегда подорваны.
– Боюсь, что вы правы, – вздохнул Веспасиан. – Но согласитесь, идея соблазнительная.
– Допускаю, – улыбнулся Клавдий Регин.
– Жаль, что мы оба для этого слишком благоразумны.
Регин терпеть не мог александрийских иудеев. Они казались ему слишком чванными, слишком элегантными. Раздражало его и то, что они смотрят на римских иудеев, как на бедных родственников, которые их компрометируют. Однако предложение императора казалось ему чрезвычайно радикальным. Он потом придумает, как пощипать александрийских евреев, – не настолько, чтобы их обескровить, но чтобы они его все-таки помнили.
Пока он предложил императору другого рода налог – его еще никто на Востоке водить не отваживался, и он бил по всем: налог на соленую рыбу и рыбные консервы. Он не скрывал опасных сторон этого налога. Морды у александрийцев как у меч-рыбы, и императору придется от них выслушать немало. Но Веспасиан не боялся куплетов.
Когда был объявлен налог на соленую рыбу, симпатия александрийцев к императору сразу сменилась неприязнью. Они неистово ругались из-за вздорожания этого излюбленного продукта питания и во время одного выезда императора его забросали гнилой рыбой. Император звонко хохотал. Дерьмо, лошадиный навоз, репа, теперь гнилая рыба! Его забавляло, что он, даже став императором, не мог отделаться от подобных вещей. Он назначил следствие, и зачинщикам пришлось доставить в управление государственных имуществ столько же золотых рыб, сколько было найдено гнилых в его экипаже.
С Иосифом Веспасиан редко виделся в эти дни. Он вырос вместе со своим саном, отдалился от своего еврея, стал чужим, западным, стал римлянином. Случайно, при встрече, он сказал ему:
– Я слышал, вы принесли себя в жертву какому-то суеверию и приняли сорок ударов. Как хорошо, – вздохнул он, – если бы я мог сорока ударами погасить мои сорок миллиардов!
Иосиф и Тит возлежали в открытой столовой канопской виллы, в которой принц проводил обычно большую часть времени. Они были одни. Стояла мягкая зима; несмотря на то что близился вечер, можно было еще оставаться в открытой столовой. Море лежало неподвижно, кипарисы не шевелились. Через комнату медленно прошествовал, подбирая остатки еды, любимый павлин принца. Со своего ложа, через широкое отверстие в стене, Иосиф видел внизу террасу и сад.
– Вы хотите самшитовую заросль пересадить в виде буквы, принц? – спросил он и кивнул головой в сторону работавших внизу садовников.
Тит жевал конфету. Он был в хорошем, благодушном настроении, его широкое мальчишеское лицо улыбалось.
– Да, мой еврей, – отозвался он, – я велел пересадить заросль в виде буквы «Б». Я пересаживаю также самшиты и кипарисы на моей александрийской вилле.
– Тоже в форме буквы «Б»? – улыбнулся Иосиф.
– Ты хитер, пророк мой, – сказал Тит.
Он придвинулся; Иосиф сидел, Тит лежал, закинув руки за голову, и смотрел на него снизу вверх.
– Она находит, – начал он доверчиво, – что я похож на отца. Она не любит моего отца. Я это могу понять, но я чувствую, что все больше теряю с ним сходство. Мне с отцом нелегко, – пожаловался он. – Это великий человек, он знает людей, а кто, узнав людей, не стал бы смеяться над ними? Но он смеется что-то уж слишком часто. На днях за столом, когда генерал Приск вздумал уверять, что вовсе не так толст, отец велел ему обнажить задницу. Надо было видеть, как принцесса устремила взгляд в пространство. Она сидела неподвижно, ничего не видя, не слыша. Мы так не умеем, – вздохнул он. – Мы в таких случаях или смущаемся, или грубим. Как сделать, чтобы такая нелепая выходка не затрагивала?
– Это нетрудно, – отозвался Иосиф, продолжая смотреть на садовников, возившихся с деревьями. – Нужно триста лет беспрерывно править государством, тогда это придет само собой.
Тит сказал:
– Ты очень гордишься своей кузиной, и у тебя есть основания. Я знаю женщин всех стран света, и, по сути, все они одинаковы, и, если у тебя есть сноровка, ты всегда доведешь их до желанной точки. А вот ее я никак до этой точки не доведу. Ты слышал когда-нибудь, чтобы мужчина моих лет и в моем положении робел? Несколько дней назад я сказал ей: «Собственно говоря, вас следовало бы объявить военнопленной, так как вы сердцем с „Мстителями Израиля“. Она просто ответила: „Да“. Я должен был бы пойти дальше и сказать: „Итак, раз ты являешься военнопленной, то я беру тебя, как часть моей личной добычи“. Всякой женщине я бы это сказал и взял бы ее. – Его мальчишеское капризное лицо стало даже озабоченным.
Сидевший рядом с ним Иосиф посмотрел вниз, на принца. Лицо Иосифа стало жестче, и на этом лице, когда за ним не наблюдали, появлялось выражение угрожающего своею мрачностью высокомерия. Теперь он познал смирение и унижение, познал сладострастие, боль, смерть, успех, взлет, срыв, свободную волю, насилие. Он выстрадал это знание, заплатил за него недешево. Иосиф был привязан к принцу. Он скоро обнаружил в нем и ум и чувство, был многим ему обязан. Но теперь, несмотря на всю свою доброжелательность, он смотрел на него сверху вниз, с высоты своего дорого доставшегося ему опыта. Он, Иосиф, умел справляться с женщинами, для него Береника никогда не была загадкой, и, окажись он на месте принца, он давно бы довел с ней дело до конца. Все же хорошо, что дело обстоит именно так, а не иначе, и когда принц по-мальчишески доверчиво, немного смущенно попросил Иосифа дать ему совет, как вести себя с Береникой, чтобы добиться успеха, и замолвить за него словечко, то Иосиф согласился только после некоторого раздумья и сделал вид, будто это очень трудная задача.
Но она не была трудной. Со времени его бичевания Береника очень изменилась. Вместо прежних неустойчивых отношений, когда обоими овладевала то ненависть, то симпатия, между ними установилась теперь, спокойная дружба, основанная на внутреннем родстве и общности целей.
Перед Иосифом Береника ничего из себя не строила, охотно открывала ему свою жизнь. О, она долго не ломалась, если мужчина ей нравился. Спала она со многими, кое-что испытала. Но такая связь никогда не бывала продолжительной. Только двух мужчин она не может вычеркнуть из своей жизни: один – Тиберий Александр, с которым она в родстве. Он уже не молод, не моложе императора. Но какая изумительная тонкость, какая любезность и вкрадчивость, несмотря на всю его суровость и решительность. Такая же твердость, как у императора, и ничего мужицкого, неуклюжего. Он – настоящий солдат, держит свои легионы в величайшей строгости, и вместе с тем он владеет всеми формами утонченной любезности и вкуса. Второй – ее брат. Египтяне поступают мудро, когда требуют от своих царей, чтобы братья женились на сестрах. Разве Агриппа не самый умный в мире мужчина, не самый знатный, благородный и мягкий, как крепкое, старое вино? При одном воспоминании о нем уже становишься мудрой и доброй, а нежность к нему обогащает. Иосиф не раз видел, как смягчается ее смелое лицо, когда она говорит о брате, и как ее удлиненные глаза темнеют. Он улыбается, он не завидует. Есть женщины, чьи лица так же меняются, когда они говорят об Иосифе.
Осторожно переводит он разговор на Тита. Она сразу же спрашивает:
– У вас предчувствие, доктор Иосиф? Быть может, Тит дьявольски умен, но, когда дело касается меня, он становится неловок и заражает даже такого дипломата, как вы, своей неловкостью. Он неуклюж, мой Тит, настоящее большущее дитя, его действительно не назовешь иначе, чем Яник. Он придумал для этого слова особый стенографический знак, так часто я повторяю его. Ведь он записывает почти все, что я говорю. Надеется услышать от меня слова, на которых мог бы меня потом поймать. Он римлянин, хороший юрист. Скажите, он в самом деле добродушен? Большую часть дня он бывает добродушен. Затем вдруг, из одного любопытства, начинает производить эксперименты, при которых на карту ставятся тысячи жизней, целые города. Тогда его глаза делаются холодными и неприятными, и я не осмеливаюсь ему перечить.
– Он мне очень нравится, я с ним дружен, – серьезно ответил Иосиф.
– Я часто начинаю бояться за храм, – заметила Береника. – Если действительно господь вложил в Тита влечение ко мне, скажите сами, Иосиф, может ли это иметь иную цель, чем спасение города Ягве? Я стала очень скромна. Я уже не помышляю о том, чтобы мир управлялся из Иерусалима. Но сберечь город нужно. Дом Ягве не должен быть растоптан. – И тихо, тревожно, повернув ладони наружу простым и величественным жестом, она спросила: – Разве и это слишком много?
Лицо Иосифа омрачилось. Ему вспомнился Деметрий Либаний, вспомнился Юст. Но вспомнился и Тит, лежавший рядом с ним и смотревший на него снизу вверх молодыми дружелюбными мальчишескими глазами. Нет, не может этот приветливый юноша, с его уважением к священной старине, поднять руку на храм.
– Нет, Тит не подвергнет Иерусалим злому эксперименту, – сказал он очень твердо.
– Вы очень доверчивы, – отозвалась Береника, – я нет. И я не уверена, что он не выскользнул бы из моих рук, осмелься я сказать хоть слово против его экспериментов. Он смотрит мне вслед, когда я иду, он находит, что черты лица у меня тоньше, чем у других, но кто этого не находит? – Она подошла к Иосифу совсем близко, положила ему на плечо свою руку, белую, холеную, на которой не осталось и следа от порезов и царапин, полученных в пустыне. – Мы знаем жизнь, кузен Иосиф. Мы знаем, что страсти в человеке всегда живут, что они могущественны и что мудрец может многого достигнуть, если он сумеет использовать человеческие страсти. Я благодарю бога за то, что он вложил в римлянина это влечение ко мне. Но, поверьте, если я с ним сегодня пересплю, то он, когда на него опять найдет желание экспериментировать, перестанет прислушиваться к моим словам. – Береника села, она улыбнулась, и Иосиф понял, что она заранее предвидит свой путь. – Я буду его держать в строгости, – закончила она холодно, расчетливо. – Никогда не подпущу его слишком близко.
– Вы умная женщина, – не мог не признать Иосиф.
– Я не хочу, чтобы храм был разрушен, – сказала Береника.
– Так что же мне сказать моему другу Титу? – размышлял вслух Иосиф.
– Слушайте меня внимательно, кузен Иосиф, – сказала Береника. – Я жду предзнаменования. Вы знаете селение Текоа возле Вифлеема? После моего рождения отец насадил там рощу пиний. Хотя сейчас, во время гражданской войны, кругом происходили жестокие бои, роща не пострадала. Слушайте внимательно. Если роща еще будет цела к тому времени, когда римляне войдут в Иерусалим, пусть Тит сделает мне свадебную кровать из моих пиний.
Иосиф напряженно думал. Должно ли это послужить знамением для ее отношений с Титом или для судьбы всей страны? Хочет ли она поставить свое сближение с Титом в зависимость от участи страны или хочет застраховать себя от жестокого любопытства этого человека? Передавать ли эти слова Титу? И чего она, собственно говоря, хочет?
Он собрался спросить ее. Но на продолговатом смелом лице принцессы уже лежало выражение высокомерной замкнутости, час откровенности миновал, Иосиф понял, что спрашивать теперь бесполезно.
Однажды утром, когда Иосиф присутствовал на раннем приеме в императорском дворце, он увидел выставленный в спальне портрет госпожи Кениды, написанный, по желанию Веспасиана, втайне от всех, художником Фабуллом. Портрет предназначался для главного кабинета императорского управления государственными имуществами. Сначала Веспасиан пожелал, чтобы рядом с госпожой Кенидой был изображен, в роли покровителя, бог Меркурий, богиня Фортуна с рогом изобилия в придачу и, может быть, еще три парки, прядущие золотые нити. Но художник Фабулл заявил, что он с этим не справится, и написал Кениду в очень реалистической манере, сидящей за письменным столом и проверяющей какие-то счета. Широкое энергичное лицо, суровый пристальный взгляд внимательных карих глаз. Она сидела неподвижно, но казалась до жути живой; император шутил, что на ночь портрет придется привязать, а то как бы Кенида не удрала. Так же должна она склоняться над письменным столом его главного кассира, неотступно и зорко следя за тем, чтобы не было никаких упущений и прорывов. Император очень жалел, что на картине не изображен Меркурий, но все же портрет ему нравился. Кенида тоже была довольна; одно только сердило ее – что художник не удостоил ее более пышной прически, чем в действительности.








