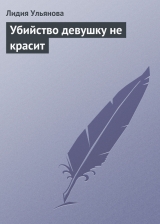
Текст книги "Убийство девушку не красит"
Автор книги: Лидия Ульянова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
7
Старший следователь по особо важным делам Борис Николаевич Заморевич уже час как томился в ожидании гражданки Мироновой. Он злился на то, что рабочий день давно подошел к концу, и на то, что как последняя падла сидит один на этаже.
Попытался было исправно потрудиться, поперекладывал с места на место бумажки, да и послал все к едрене фене, предпочтя «Мортал Комбат». Азартно шел по виртуальным лабиринтам, мочил врагов направо и налево, заливая вражеской кровью экран монитора, ухая, эхая и матерясь.
За таким нехитрым, но требующим огромного напряжения воли, занятием он и был застигнут долгожданной гражданкой Мироновой.
Заморевич был еще десяток лет назад красавцем-белорусом, косая сажень в плечах, с копной пшеничных волос и щекотными пышными усами. Сам себя ощущал он Крутым Уокером, только значительно умнее и проницательней. Этому ощущению нисколько не мешал некий элемент продажности бравого майора, легко оправдываемый низкой зарплатой из средств налогоплательщиков. Просто, по здравому разумению Заморевича, некоторым отдельно взятым налогоплательщикам приходилось брать на себя заботу о материальном обеспечении старшего следователя. Только и всего, безо всякого ущерба для основной массы налогоплательщиков.
Эта трогательная о нем забота позволяла Заморевичу быть не чуждым рекламных страниц в глянцевых журналах. И, хотя многое с этих страниц по-прежнему оставалось недоступным – Заморевич дорожил своей свободой, не понаслышке зная об особенностях жизни следака в неволе, – кое-что сверх положенного бюджетом позволить себе мог. Хороший костюм, нестарую «тойоту», телефон со встроенной камерой на два мегапикселя, массивную печатку на толстом крестьянском пальце и молоденькую шалаву-любовницу, существовавшую параллельно с сытой майорской семьей. Именно к ней, роскошной телом, умелой и требовательной в любви двадцатитрехлетней Зинке и стремилась, рвалась сейчас душа сорокапятилетнего майора.
Заморевич чувствовал, что немного ему осталось пользоваться бескорыстным успехом у горячих, гладких девчонок: сильно поредела за последние годы роскошная шевелюра, предательски нависал над ремнем дряблый бледный живот, поуменьшилась мужская сила, уступая место тахикардии и одышке. Да и стаи оперившихся молодых самцов все увереннее теснили его к обочине жизни. И надо было уже крепко держаться, цепляться руками, чтобы не быть до времени сброшенным в кювет. Больше и больше денег требовалось на поддержание имиджа Крутого Уокера. То, что раньше давалось бесплатно, смело срываемое с ветки удовольствий одной рукой, обрело с годами вполне определенную стоимость. Усеченная формула классика политэкономии: «…-деньги-товар». Та же сука-Зинка, в лирические минуты называемая майором «моя лебединая песня», требовала для себя все новых и новых изощренных благ, ласково заглядывая в лицо и грозя медовым голоском:
– Котик, я могу другого кого-нибудь попросить. Мне купят, ты не сомневайся…
А ведь еще так недавно любая почла бы за честь проверить шелковистость его усов самыми неподходящими местами. И совершенно бесплатно – самой большой ценой за интим была доводящая до колик веселая, забористая заморевичская шутка.
Шутить Борис Николаевич умел и любил. Грубо, плоско, а порой оскорбительно. Именно за абсолютно идиотские шутки и не любили майора коллеги. Считали своим парнем, ценили за накопленный с годами опыт, – выработанный именно годами работы и крестьянской хитростью, а не недюжинным умом, – восхищались успехами его у баб, а за шутки не любили и даже по морде били неоднократно.
Мог, например, Борис Николаевич сказать новоиспеченному мужу-ревнивцу секретарши Светочки, выскочившей на улицу за сигаретами для него же, Заморевича:
– Ты посиди, твоя, наверно, опять по кабинетам подол задирает. Подмахнет сейчас кому-нибудь и явится, куда денется…
А в прошлом месяце вышел и совсем вопиющий случай. Хозяин соседнего кабинета договорился о встрече с весьма важным свидетелем, да опоздал. Выезжал на место преступления. Двое солидных, немолодых мужчин по наивности постучались к Заморевичу, справиться у него о соседе. Заморевич, напустив на лицо горестное выражение, чуть не выдавив из глаза слезу, пояснил:
– Не ждите, беда у нас. Сергей Васильевич сегодня утром на работу опаздывал, бежал и под трамвай попал. Ноги отрезало. От потери крови скончался, до больницы не успели довезти.
Сергея Васильевича Заморевич не любил. Вчера только в буфете сцепился с ним из-за последних бутербродов с колбасой.
Нежданно-негаданно приобщившись к чужой беде, свидетели горестно покачали головами, пробормотали осторожные соболезнования и покорно ушли, понимая, как неуместны они в данный момент. Вышли на улицу, покурили в машине, посовещались и поняли, что смерть следователя их проблем не решает. Вернулись прямо в кабинет к прокурору, где в тот момент преспокойно отчитывался по делу абсолютно здоровый и бодрый Сергей Васильевич…
Если начало этой истории прошло незамеченным для многих в здании прокуратуры, то окончание ее слышали одновременно на всех этажах. Из характеристик, выкрикиваемых в адрес Заморевича багровым от ярости Сергеем Васильевичем, самыми приличными были «старый сифилитик» и «гондон рваный».
Что двигало в такие моменты мыслью старшего следователя, было тайной за семью печатями и для него самого. Шутки казались ему в тот момент остроумными и изящными, истинно английскими. А что не всем понятными, так английский юмор тоже не до каждого доходит…
8
Когда Катя вошла, Борис Николаевич, ходко двигая мышкой в попытке сохранить последнюю виртуальную жизнь, как раз прикидывал в уме, что бы он мог сейчас делать в маленькой Зинкиной квартирке. А делать он мог ого-го что, потому что к визиту подготовился заранее, упрятав во внутренний карман пиджака коротенькую золотую цепочку для аккуратной Зинкиной лодыжки. И вот вместо этого приходилось терять время в пустом кабинете в ожидании какой-то там бабы!
Дело об убийстве гражданина Пояркова было для Заморевича лишней головной болью и досталось ему исключительно по причине эпидемии позднего весеннего гриппа, скосившего большинство сотрудников. Широко известный в узких специфических кругах наркодиллер Михаил Кузьмич Поярков был слишком одиозной фигурой: все и всё про него знали, а взять не могли. Уж очень щедро платил Михаил Кузьмич наверх – тоже, видать, знал цену свободе.
Малая толика «спонсорских средств» Пояркова вливалась иногда ручейком через более мелкую рыбешку и в речушку благосостояния Заморевича. Ручейка было жаль. И было хорошо понятно, что спустит с него начальство за это дело три шкуры. Круг подозреваемых был одновременно и слишком широким, и сужающимся до точки ввиду полного отсутствия конкретных подозреваемых лиц.
С первого взгляда на Катю Борис Николаевич испытал смесь восхищения, бессильной злости и острого желания обладать. Все вместе взятые двадцатитрехлетние Зиночки, встретившиеся на его трудном жизненном пути, не шли ни в какое сравнение с этой сердитой и усталой женщиной, возникшей на его пороге. В ней чувствовалась порода, огонь, а главное – внутренняя сила. С юности крестьянский паренек с Гомельщины тайно мечтал о таких – роскошных, раскрепощенных, свысока смотрящих, готовых в любую минуту выпорхнуть из рук, дать отпор. Такая не отдастся за коротенькую браслетку на ногу. Да она и за длинную не отдастся, диковинная заморская птица, не поющая в неволе. Перед такими старый Дон Жуан Заморевич всегда жутко робел, боялся что-нибудь предложить из-за очень реальной возможности отказа. А отказов он не любил, они глубоко ранили его самолюбие. И поэтому никогда таких баб не имел.
Ее не портили ни круги под глазами, ни перекошенный ворот дорогого пальто, ни морщинки галочкой вниз от носа, ни потерянный вид. Просто птица временно заболела, попав из своей сказочной страны в промозглую гриппозную питерскую весну.
Майор быстро скосил глаза себе на грудь, проверив, все ли там в порядке, не съехал ли в сторону галстук. Галстуком своим он втайне гордился: хоть и купленный женой в секонд-хенде, на обороте он имел маленький неброский ярлычок «Пьер Карден».
– Старший следователь по особо важным делам советник юстиции Заморевич Борис Николаевич, – гордо представился он, не вставая.
«Батюшки Святы, как же у них тогда младший выглядит!..» – ужаснулась Катя.
Ей казалось, что на лбу сидевшего перед ней мужика светится яркая бегущая строчка «ХЛЫЩ!». Все в нем вызывающе кричало, что помощи ждать неоткуда. Особенно галстук.
Снова были выполнены положенные законом процедуры знакомства. Человек-Ухо не ушел, тихо примостился в углу старенького дивана и слушал.
– Скажите, Екатерина Сергеевна, есть ли у вас адвокат, услугами которого вы бы хотели воспользоваться? – Заморевич был дежурно вежлив и, на всякий случай, даже предупредителен. Неизвестно на что способна сидевшая перед ним особа.
Знакомый адвокат у Кати был, периодически она консультировалась с ним по вопросам своего бизнеса, но она скорее откусила бы себе язык, чем призналась кому-то из знакомых о постигшем ее позоре: на ночь глядя оказаться в прокуратуре по подозрению в убийстве.
Она только покачала головой из стороны в сторону.
– Тогда мы предлагаем вам дежурного адвоката. У вас могут возникнуть затруднения при допросе, который мы сейчас начнем.
Адвокат был очень молод, но при этом нездорово толст и неопрятен. Глаза практически скрывались за сильными стеклами очков в толстой «роговой» оправе из пластмассы. Мужчина длинно представился, с регалиями и названием некоего адвокатского сообщества. Катя запомнила фамилию: Семенов.
Адвокат Семенов важно попросил у хозяина кабинета разрешения несколько минут пообщаться с клиенткой наедине и вывел Катю по коридору в какой-то грязный закуток, далеко на подступах к которому заканчивался евроремонт. В закутке было по-советски казенно и убого: парочка видавших виды письменных столов в застарелых чернильных пятнах, ряд недокалеченных разномастных стульев с дерматиновыми сиденьями и большая банка от «Нескафе», доверху забитая вонючими окурками.
– Екатерина Сергеевна, в чем вас обвиняют? – быстро и по-деловому уточнил Семенов.
К этому моменту Катя уже столько раз слышала эти обвинения, что с грехом пополам сумела сформулировать. Семенов, мелко затягиваясь и соря пеплом на выпирающий живот, так же коротко расспросил ее о знакомстве с убиенным Поярковым. Катя рассказывала путано и невнятно, чувствовала это и оттого еще больше путалась.
– Так. Вину свою, разумеется, нужно признавать, – безапелляционно постановил Семенов.
– Какую вину?… – испугалась Катя.
– Вашу вину по делу. Вы же понимаете, что в городскую прокуратуру вызывают не случайно. Сами признаете, что с Поярковым знакомы, – строго окоротил адвокат. Подумав, добавил мягче: – Признавать хотя бы частично. Частично нужно обязательно.
– А если я признаю частично, то меня отпустят? – с робкой надеждой ухватилась за соломинку Катя.
– Чистосердечное признание смягчает вину, – мутно пояснил Семенов, мысленно добавив: «…и увеличивает срок».
А старший следователь в это время обменивался в кабинете впечатлениями с Ухом.
– Ну и как она тебе?
– Или дура, или большая артистка. Театр по ней плачет.
– Тюрьма по ней плачет, а не театр. Витя, ты мне это брось, на меня сверху знаешь, как давят?… Дайте им убийцу, и все тут. А кого я возьму? У одного депутатская неприкосновенность, другой позавчера, как узнал, так первым рейсом в Испанию отбыл. Домик у него там, в Испании. У тебя, Витя, есть домик в Испании?…
– У меня домик на станции Мшинская. Кстати, ехать туда надо, теща всю плешь проела, что снег тает и крыша протекла.
– Витя, милый, все в твоих руках. Как только найдем убийцу Пояркова, так и поедешь свою крышу чинить. Еще раз спрашиваю: как она тебе?
– Как она мне? Вот как она мне, – Витя-Ухо задрал ногу до уровня стола и поболтал перед глазами Заморевича обрывками штанины, – новые почти брюки.
– Она что, тебя кусала? Или в порыве страсти на части рвала? – искренне заинтересовался Заморевич.
– Собачища у нее знаешь какая! Бультерьер!
– Ты мне что, предлагаешь ее посадить за твои штаны?
– Не за штаны, Борис Николаевич, не за штаны! Она когда мне у дома Пояркова под ноги из подъезда вывалилась, с черного хода, и шасть в машину – я сразу все понял. Она про этот подъезд знала. Ну, мы ее по машине быстренько пробили – и готово дело.
– Кстати, Витя, ты не находишь странным, что на черный ход тебя преступники сами выводят? Может быть, твои люди, Витя, не умеют работать со свидетелями? Почему им третьего дня, при осмотре места происшествия, никто про черный ход не сказал? Ежу ведь понятно, что дом старинный, в этих домах были отдельные входы для кухарок.
– Не нашли сразу, согласен. Только из квартиры Пояркова этой двери не видно, хрен найдешь. Там шкаф книжный стоит и ручка такая, потайная, нажмешь – шкафчик и отъезжает. Прикольно. Кузьмич этот вход не афишировал. Знать нужно про этот вход, чтобы найти. Мы, в конце концов, нашли ведь. И люди мои, кстати, со свидетелями работать умеют. А если тебе, Борис Николаевич, мои люди не нравятся, дай других. Ты знаешь, сколько оперуполномоченный получает?
– Ой, только не жалоби меня, Витя, не жалоби… Лучше скажи, что Миронова на той лестнице делала?
– Понятно что: хотела в квартиру проникнуть и что-то забрать.
– Ага, когда ты в этой самой квартире сидишь?
– Значит, отпечатки пальцев стереть хотела. Пояркова ведь через эту дверь убивать пришли.
– А почему не стерла? Там вся дверь в пальцах и перила тоже…
– А потому что не успела. Ее мужик сверху спугнул, пианист. Там вообще в это время мебель носили в квартиру, грузчики шныряли. Нет, она про дверь знала. И еще, зачем она назвалась домработницей?
– Ладно, тише, Витя, идут они.
Допрос начался. Старший следователь задавал вопросы, и бодро выстукивал Катины ответы на клавиатуре, порхая по ней шпикачками пальцев, поблескивая громадной купеческой печаткой.
Вопросы были несложными, отвечала Катя прилежно, с явным намерением помочь следствию разобраться в ее непричастности. Человек-Ухо затих в своем углу. Адвокат Семенов тоже не встревал в беседу.
Выяснив интересующие его подробности, Заморевич какое-то время изучал изъятые у Кати предметы. Из кармашка записной книжки достал несколько хранящихся там рецептурных бланков.
– Скажите мне, Екатерина Сергеевна, откуда у вас чистые рецептурные бланки?
– Я же врач по образованию. В принципе, имею право выписать рецепт. Иногда я болею и к врачу не хожу, лечусь сама.
Старший следователь повертел бланки перед собой, задумался. Катя чувствовала какую-то отрешенность, словно все происходило не с ней. Медлительность следователя, безучастность адвоката, вязкость действия и глупые вопросы действовали на нервы.
– А вот, например, можно на этих рецептах выписать наркотики? – спросил Заморевич лениво-задумчиво, словно прикидывая.
Катя начала понимать, куда он клонит.
– Можно, – ответила не моргнув глазом и добавила: – Выписать можно, но ни одна аптека их не отпустит.
– Почему?
– Потому что для наркотических веществ существуют специальные бланки. Я не сомневаюсь, что вам это известно.
Еще бы не известно. А она, смотри, зубы показывает!
– И у вас они, конечно же, есть…
– У меня их, Борис Николаевич, конечно же, нет.
– А почему? – Заморевич притворно удивился.
– Потому, что это документы строгой отчетности, и иметь их мне не полагается. Кроме того, они мне без надобности.
– А если вас попросит кто-нибудь из знакомых? – В голосе следователя звучала укоризна.
– Знаете, меня мои знакомые отчего-то об этом не просят. Борис Николаевич, пожалуйста, давайте заканчивать! Я устала и спать хочу. Я вам все рассказала, и добавить мне нечего.
– Ну, давайте заканчивать, – покладисто согласился старший следователь, ставя на «печать» курсор. Бегло просмотрел распечатанные листки и передал через стол Кате. – Прочитайте внимательно и, если все правильно, то распишитесь на каждой странице, а на последней напишите «С моих слов записано верно».
Голова кружилась, и строчки прыгали, налезая одна на другую. Читать то, что до этого повторила дважды, ни в какую не хотелось. Катя бегло просмотрела листки – говорили вроде об этом – и подписала в указанных местах.
– Я могу быть свободна?
Старший следователь по особо важным делам опять посмотрел себе на живот, проверяя правильность расположения галстука. Галстук отклонился от вертикали, но поправлять его Заморевич не стал. Его раздражала эта Миронова. Сдерживался он лишь потому, что так и не понял, чего же от нее ждать. Хотя райская птица на поверку оказалась обычной нелепой курицей. Дурной бабой. Она сидела перед ним два часа и несла ахинею о каком-то невероятном полете. Вроде и знакомства с Поярковым не отрицала, а врала напропалую. От ее туфты Заморевич слегка окосел и сильно разозлился. Его, Крутого Уокера, вздорная баба пыталась развести, как щенка-недоноска. Она что, совершенно не понимает своими птичьими мозгами, где и перед кем сидит? Эх, была бы его, Заморевича, воля, поставил бы ее лицом к столу, пригнул бы за шею пониже и прочистил бы мозги старым известным мужским способом, чтобы не выеживалась… Цаца. Домой она собралась. Спать она хочет. Я тебе покажу домой! Допрыгалась, курочка.
– Нет, Екатерина Сергеевна, – голос Заморевича был насмешлив, а брови взмыли вверх, – вы являетесь подозреваемой в убийстве. В у-бий-стве. И посему домой вы не поедете, а заночуете у нас. Право на это у нас имеется, я вас уверяю.
– Где у вас? – Катя решила, что ослышалась. Свою часть договора оно выполнила честно и рассчитывала с полным правом на отдых в своей постели.
– Узнаете где. У нас имеются для подобных случаев специально выделенные места, – успокоил Заморевич.
От абсурдности ситуации, позднего времени, от ласковости голоса Катя повелась и идиотски предложила:
– Давайте, если нужно, утром я снова приеду. У вас еще остались вопросы…
Заморевич не дал закончить:
– Вот что – хватит!.. Вы задержаны как подозреваемая в убийстве. Что не понятно?
Не понятно было ничего. Правда, Катя, никогда не общавшаяся с правоохранительными органами, понаслышке знала, что да, могут на сколько-то там задержать. На всякий случай она вопросительно посмотрела на своего адвоката. Тот молча развел руками, подтвердил, что ли.
Катя внезапно вспомнила сцену, многократно растиражированную отечественным и мировым кинематографом.
– Я имею право на телефонный звонок.
Семенов, не удосужившийся напомнить ей об этом праве, тем не менее кивнул. Заморевич сморщился как от незрелой клюквы, предвкушая последующую сейчас телефонную истерику, но телефонный аппарат в ее сторону пододвинул, бросив:
– Звоните, но недолго.
Куда нужно звонить, Катя не знала. Понапрасну беспокоить родителей, доводя до инфаркта сообщением о том, что их дочь ночует в милиции по подозрению в убийстве, было никак нельзя. Звонить за полночь кому-то из друзей с такой чушью тоже было несерьезно. И Катя выбрала единственного своего соучастника, Марию Михайловну. Та, несмотря на поздний час, трубку схватила моментально, закричала в волнении:
– Катя, где ты? Что они с тобой сделали?
– Тетя Маша, вы не волнуйтесь, ничего они со мной не сделали, просто поздно уже, и я здесь заночую.
– Катерина, не дури! Где здесь?! Ничего не поздно! Бери такси и приезжай домой! Или они тебя не отпускают? Я сейчас сама за тобой приеду. Катя, они тебя арестовали?…
Голос соседки сорвался, было слышно, как в отдалении залаял Боб.
– Не знаю, – призналась Катя, – вроде бы нет. Только вы, пожалуйста, не волнуйтесь и возьмите Боба к себе.
– Уже взяла, уже взяла! Ты не бойся, девочка, мы тебя дождемся…
Заморевич решил свернуть излияние бабьих чувств.
– Заканчивайте.
Катя наспех попрощалась и положила на рычаг теплую трубку. Старший следователь по особо важным делам, кивнув на Катину сумочку, строго велел:
– Можете оставить себе самое необходимое.
Кате всегда казалось, что она носит с собой только самое необходимое. Выяснилось же, что в действительности необходимого намного меньше, а все остальное возбраняется.
Необходимое легко поместилось в маленький пластиковый пакетик с надписью «Мир камней. Кейптаун». Расческа, упаковка одноразовых платков, гигиеническая салфетка, несколько дежурных прокладок. Две пачки купленного еще днем «Кента» и зажигалка. Телефон, ключи от квартиры и машины, документы, печать фирмы, маникюрные ножницы и даже часы оказались предметами нон-грата.
В другое время, лишенная даже одного из этого жизненно важного набора, Катя впала бы в несусветную панику. Сейчас же, отнятые вкупе, все сразу, они не вызывали ни сожаления, ни горечи потери. Только большое, всеобъемлющее, спасительное отупение и неожиданная покорность остались в ней.







