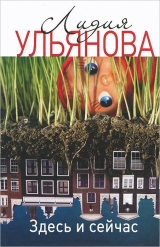
Текст книги "Здесь и сейчас"
Автор книги: Лидия Ульянова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я первая вижу ее, она привязана к скамейке куском обыкновенной бельевой веревки. Она дрожит от холода, безучастная ко всему происходящему, а в глубине темных, бездонно печальных глаз застыли испуг и полная безнадежность. Маленькая дворняжка. С утра шел дождь, а днем подморозило, и мокрую недлинную шерсть потихоньку начало прихватывать тонкой корочкой льда.
– Собачка! – первой восклицает Надька.
– Ух ты, ничья, что ли? – вторит ей Любомир.
И только я молчу, переполненная жалостью и сочувствием. Я смело подхожу ближе, присаживаюсь на корточки и осторожно глажу ледяную, дрожащую голову. Собака, не поворачивая морды, только поводит бусинами глаз, благодарная за сочувствие. Ее бы покормить, но у нас ничего нет, даже хлеба, а выданные нам утром три конфеты мы давно съели.
Продолжая оглаживать щупленькое тельце, я чувствую, что появился призрачный шанс реализовать давнюю мечту о собаке. Да я бы и на котенка согласилась или на морскую свинку, но собака – моя самая заветная мечта, за собаку я что хочешь сделаю.
– А давайте возьмем ее домой, – с воодушевлением бросаю назад, за спину, не в силах оторвать холодеющую руку от мокрой шерсти.
– Не, она, наверно, блохастая, – с сомнением возражает Надька, – да и мама не разрешит.
Напоминание о маме включает в моей голове желтый сигнал светофора. Пока еще желтый, я не теряю надежды.
– Но она ведь такая бедняжечка, у нее нет дома. Она замерзнет, заболеет и умрет. Как вы не понимаете!
Мой голос срывается и дрожит. Собака поворачивается и тихонько лижет мне руку, хочет успокоить. Язык у нее удивительно горячий и приятно шершавый.
– Мы понимаем, Верка, – примирительно отвечает Любасик, – но и ты пойми. Сегодня суббота, предки дома. Если бы в другой день, когда одна Кириетта, а так точно выгонят. И нас вместе с ней, а я есть хочу.
– И она хочет, она, может быть, даже больше, чем ты, хочет! Может быть, она никогда в жизни котлету не пробовала!
Мой призыв к милосердию пропадает втуне, тогда я принимаюсь давить на другие чувства:
– Ты посмотри, это же почти овчарка, чистокровная! В крайнем случае, лайка. Если ее выдрессировать, то она знаешь какая умная будет, как в кино. И тебя с ней в армию сразу на границу возьмут. Вы будете нарушителей ловить, и она тебя спасет. Как Джульбарс или как Мухтар. Надюшечка, а ты будешь с ней идти по улице, а она твой портфель в зубах понесет…
– Вот еще, и всю ручку обслюнявит. – Надька всегда мне возражает, Кира называет нас непримиримыми противоречиями.
– И пусть! Зато все мальчишки захотят с тобой познакомиться, даже старшие.
Это железный аргумент. Да и Любасик призадумался: кому же не хочется в пограничные войска.
– А что? – первой сдается Надька. – У нас что, собаки быть не может? У всех есть собаки, а у нас почему нет?
– Не у всех, а у некоторых, – поправляет Любомир, наш миротворец. – Мы, давайте, очень попросим, очень-очень. Все вместе. Вдруг разрешат?
– А если не разрешат, то мы ее накормим и в хорошие руки отдадим, да? – старательно подливаю я масла в огонь. – Ее нельзя здесь оставлять.
Мы отвязываем псинку и забираем с собой. Каждому из нас хочется самолично вести ее на веревочке, свою собственную, настоящую собаку, но побеждает, разумеется, Надька. Однако под самой дверью Надька трусит и щедро отдает ценное приобретение мне.
Трое в подъезде, не считая собаки, мы стоим под пухлой дверью, обитой для тепла специальной маминой клеенкой поверх поролона, не решаясь позвонить. Мы мнемся до тех пор, пока с улицы не доносится зычный голос соседки выше этажом: в присутствии зрителей мама, знамо дело, выгонит нас, надо спешить. Любомир звонит, а я на всякий пожарный подхватываю собаку на руки и прячусь за спинами. Она оказывается очень тяжелой и горячо, щекотно, дышит мне в голую шею, в узкую щель между шарфом и шапкой.
Может быть, дверь откроет Кира? Тогда повезет, и мы сможем проникнуть в квартиру, а если мама…
Нам везет. Кирочка в присыпанном мукой фартуке, с плохо вытертыми мучными руками сразу же сторонится, пошире распахивая дверь, запуская всю нашу троицу в маленькую прихожую. Я со своей ношей старательно держусь за спинами, ухватив за хвост шальную мысль: «А вдруг не заметят!» Мы ведем себя неестественно, топчемся, оставляя на полу разводы грязи, подозрительно кучкуемся в дверях. Кира смотрит на нас с интересом и ожиданием, силясь понять причину такого поведения.
И здесь появляется мама.
– Привет, двоечники! – У мамы хорошее настроение, она весела и смешлива. – Долго будем стоять, холод с лестницы гнать?
В своем веселье мама излишне громогласна, и собака у меня на руках начинает возиться так, что скатывается на пол и осторожно рычит. Осторожно, но мама с Кирой слышат. Кира, ахая, всплескивает руками, и легкое облачко мучной пыли повисает в воздухе. Мама более красноречива:
– Та-а-ак, значит, – грозно тянет наша родительница, – привели, значит?
Мы поджимаем уши так же, как сжавшаяся у ног собачонка. И ей, и нам понятно, что грозы не миновать. А гроза в нашем доме может быть такой, что нас сейчас смоет волной прямехонько к подъезду.
– Вы чем думали, когда ее сюда вели? – Мама гневно указывает тонким перстом в собаку. – Вы нас с папой спросили?
Никто из нас не решается заговорить первым, взять огонь на себя. Ведь у каждого в портфеле еще и лежит дневник. Дрался с одноклассником. Разговаривала в столовой. Нет трусов.
– Что вы застыли, как идолы острова Пасхи? – Маме, надо думать, неинтересно ругаться одной, ей нужны наши ответ и участие. – Я кого спрашиваю?
Надька и Любомир кидают на меня косые взгляды, призывая к ответу, инициатива ведь была моя. Я собираюсь с духом и начинаю тарахтеть:
– Мамочка! Родненькая мамулечка! Мы ее только покормим, да? Только-только покормим, и все. Мамочка, мы ей хозяина найдем! Посмотри, какая она бедненькая вся, нестча… несчастненькая. У нее мамы нет и папы нет. У нее даже бабушки нет. Она кушать хочет, а мы все конфеты утром съели. Мамочка!
Должно быть, я чрезвычайно убедительна, потому что мама, давясь смехом, замолкает и наклоняется над собакой. Собачка, не в силах угадать, что последует дальше – вышвырнут за шкирку сейчас или позже, – юрко пролезает между маминых ног и прошмыгивает в комнату. В комнате папа смотрит хоккей. Он так заинтересован происходящим на экране – наша пятерка в упорной борьбе за шайбу теснит шведов, – что не слышит и не видит ничего вокруг, не в курсе событий.
Наша гостья, цокая когтями по паркету, споро пробегает через всю комнату и усаживается возле папиных ног, надеясь хоть здесь найти защиту. Она сидит и смотрит на папу влюбленными глазами, с обожанием смотрит. А папа смотрит хоккей. И в этот момент наши забивают гол! Папа подпрыгивает, торпедой выскакивая из кресла, возводит руки к потолку и принимается вопить:
– Гол! Го-о-о-ол!!!
Собака воспринимает папины вопли как руководство к действию и принимается громко, радостно вторить:
«Гав! Гав-гав! Гав-гав-гав!!!»
Тут уж даже папа обращает на нее внимание.
– Ты чья? – заинтересованно спрашивает он и треплет услужливо подставленную голову. – Молодец, болеть умеешь. Так чья ты?
– Твои дети, Коля, решили, что она наша, – ехидно сообщает мама.
Папа только молча трясет головой, пытаясь усадить на место взлетевшие в изумлении брови, на всякий случай гладить перестает.
– Папа, мы только покормить ее хотели, – мне кажется, что вру я ловко.
– Покормить? – уточняет мама. – Ладно. Кира напекла пирожков с вареньем, так мы ей сейчас ваши пирожки и скормим. Согласны?
Кирины пирожки с вареньем мы обожаем, готовы душу продать, но печет их Кира редко. Мама знает, куда бить.
– Согласна, я согласна! – Я мгновенно прощаюсь с вожделенными пирожками.
– Ну я не знаю… – возмущенно тянет Надька. С чего это она свои пироги должна отдать за просто так? И не кому-то там, а какому-то блохастику.
– И я отдам, – обреченно добавляет Любасик, помня про службу на границе. – Только зачем ей пироги с вареньем? Я ей лучше свой суп отдам.
– И я! И я отдам! Я вообще навсегда ей свой суп отдам! – верещу я.
– И я ей отдам, – мрачно встревает в разговор Кира, которой, кажется, надоедает стоять безмолвным статистом. – Между прочим, на первом этаже живем, все кому не лень залезть могут. Я вот форточку боюсь открыть, чтобы проветрить. Проветриваю, а сама под форточкой на стуле сижу, караулю. А тут какой-никакой, а звонок: на части не разорвет, так хоть знать даст, когда воры в квартиру забираться будут.
– Как будто так все просто! – трагично восклицает мама. – А гулять? С собакой три раза в день гулять надо. Кто это станет делать?
Разговор пошел предметный – вероятность разжиться собакой возрастает. Мы радостно визжим на три голоса, что готовы гулять с ней всю оставшуюся жизнь и сутки напролет.
Мама только недоверчиво фыркает:
– Надо думать! Вы и на пианино обещали играть, а что получилось? Теперь стоит инструмент, только пылится. Одна Вера играет, а вы двое мучились из-под палки, да и бросили. Так и с собакой будет.
– Не будет! Не будет! – умоляем мы хором.
– Я сразу предупреждаю, что гулять не стану. Чтобы я, на каблуках, в шляпе и с собакой! Тут рядом наш инженер живет, не хватало, чтобы она меня с этой вашей уродкой увидела и на работе рассказала!
– А это что, нынче преступление? – уточняет Кира довольно ехидно.
– Кира, ты-то понимаешь, что они наобещают с три короба, а потом пес будет брошен? Они в школу с трудом встают, а еще с собакой успеть надо. Это же не на две минуты к подъезду вывести. А в дождь? А вечером, когда по телевизору фильмы идут?
– Я погуляю вечером, – предложил свои услуги папа, возвращаясь к мерному поглаживанию собачьей головы. Собака к этому времени почти освоилась в квартире, с наслаждением закатывала глаза в такт движению руки. – Я ее и на охоту возьму. Она на лайку похожа.
– Ох, лайка! Держите меня, семеро! – закатывает мама красиво подведенные глаза. – Дворняга она стопроцентная. Будет по всей квартире только гадить и все грызть. У нас на фабрике девочка рассказывала, что у нее псина туфлям все задники сгрызла. А туфли были модельные, французские. А если она мои туфли грызть примется?
– А туфли, Мариночка, убирать надо, а не по квартире разбрасывать. – В последнее время Кира часто спорит с мамой. Спорит и не находит общего языка.
Мама строго поводит безупречными глазами с наложенными на веки серебристо-голубыми тенями, готовится вступить в спор. Но мы мешаем, мы исступленно доказываем, что будем присматривать и за мамиными туфлями, и за собакой денно и нощно.
– Кира Павловна, Марина, мы обедать-то будем сегодня? – дипломатично призывает к порядку папа: хоккейный матч закончился. – Да и эту животину покормить не мешало бы, а то она с голода помрет, пока вы спорить будете.
– А ну давайте дневники. – Мама не собирается отступать.
Дела наши плохи – в дневниках замечания. Кажется, только-только добились результата, и вот этот результат ускользнул, помахав ручкой.
Но, к нашему удивлению, замечания в дневниках вызывают реакцию прямо противоположную ожидаемой. Особенно мое замечание про «нет трусов». Папа с мамой безудержно хохочут, поддерживаемые Кирой.
– «Разговаривала в столовой». Бред какой-то. А где им еще разговаривать? На уроках нельзя – это понятно, но на перемене-то почему они должны молчать?
– Делают из школы армию.
– Ой, «Нет трусов!». Ты посмотри, посмотри, Коля! У твоей дочери нет трусов! Ха-ха-ха!!!
– И у твоей тоже нет. Верка, почему ты в школу без трусов ходишь? Га-га-га!!!
«Гав-гав-гав!!!» – присоединяется собака, которой надоедает сидеть сиднем, когда люди веселятся. Они, должно быть, играют.
Мама тут же принимает серьезный вид и пытается возвратиться к нашему пропесочиванию. Мы, подпрыгивая, принимаемся вновь вопить, что будем делать все-все и всегда-всегда.
– Обедать пойдемте. С утра дети не евши, – нейтрально вступается за нас Кира.
– Надо думать! – театрально восклицает всухую проигравшая мама и добавляет так, чтобы последнее слово осталось за ней: – Если увижу собаку хоть раз на диване, то выкину за дверь.
Очередной сеанс заканчивается, профессор Шульц, как обычно, вручает мне диктофон с записью. Я чувствую себя абсолютно разбитой и мечтаю побыстрей добраться до кровати. В это время в кабинет осторожно заглядывет фрау Шульц и тихо сообщает:
– Маркус, пришел Клаус и ожидает тебя.
– Клаус? Я думал, что он зайдет попозже. Пригласи его сюда. Фрау Таня, вы ведь не будете возражать?
Возражать у меня нет никаких сил. Да и что мне возражать, он же не ко мне пришел.
– Я обещал Клаусу одну статью для работы. Это очень редкая статья, и ее нет в библиотеке. А у меня сохранилась, – неизвестно для чего, поясняет профессор.
Выслушивая объяснения, я потеряла время и не успела улизнуть к себе до появления доктора Амелунга, столкнулась с ним в дверях. Был он бодр, энергичен, свеж и чрезвычайно оптимистичен. Тоже мне, Тиль Швайгер!
– Здравствуй, Маркус! – поприветствовал он с широкой улыбкой. – Здравствуйте, фрау Таня, приятно видеть вас.
Опять врет. Почему он все время врет? Что может быть приятного, если шел он вовсе не ко мне, а я после сеансов выгляжу только чуточку лучше, чем смертный грех. Я бледна, измученна, не в силах говорить, а тем более, улыбаться. Я пытаюсь протиснуться между доктором и дверью, но Клаус Амелунг останавливает меня:
– Фрау Таня, я к Маркусу всего на минуту и сейчас поеду домой, в Бремерхафен. Если хотите, я мог бы вас отвезти.
– Это прекрасная идея, Клаус, – поддерживает профессор, – а то бедная Таня вынуждена отдыхать, прежде чем сможет сесть за руль.
И они забывают обо мне, занявшись своими делами. Садиться на минуту глупо, и я подпираю стену в ожидании доктора. Минута затягивается надолго, а я все не сажусь, в надежде, что их профессиональная беседа вот-вот закончится. Я переминаюсь с ноги на ногу, разглядываю развешенные по стене профессорские дипломы и проклинаю собственную нерасторопность, помешавшую мне удалиться до появления Амелунга. Сейчас я бы уже лежала в уютной соседней комнате, на удобной кровати. А ведь, по-хорошему, мне придется еще и разговаривать с ним по дороге, неприлично как-то сразу закрыть глаза и уснуть. Разговаривать мне не хочется совершенно, нет сил. Я начинаю клевать носом стоя, как боевая лошадь.
Внезапно слышу спасительное:
– Фрау Таня, мы можем ехать.
– А куда же я дену машину? – До меня доходит, что вместе мы можем поехать только на одной машине, мою придется оставить здесь.
– А машину вы можете оставить во дворе у Маркуса, он не будет против.
– Да-да, – подтверждает профессор, – здесь она никому не помешает.
– А как же я приеду в понедельник? – Я лихорадочно ищу повод отказаться от совместной поездки.
– А в понедельник утром я вас привезу, когда поеду на работу. Но, если вы хотите, то можно поехать на вашей машине, а мою оставить.
– А как тогда в понедельник вернетесь вы? – То ли я плохо соображаю после сеанса, но мне кажется, что в складывающейся ситуации есть что-то иррациональное.
– А я? А я возьму у Питера велосипед. Ха-ха-ха… Шучу, шучу, не пугайтесь, тогда в понедельник вы привезете меня.
У меня в машине Оливер вчера рассыпал чипсы и пролил на сиденье сок, я не успела заехать на чистку. И вдобавок там целая куча использованных бумажных платков, которыми мы пытались навести порядок.
– Может, тогда лучше на вашей? – с сомнением спрашиваю я. Не забыть только предложить ему поделить расходы на бензин. Ох, лучше бы я сейчас спала. – Или на моей?
– Поедемте, фрау Таня. – Доктор Амелунг стремительно берет меня под руку и выводит на улицу. Его ладонь жесткая, она обхватывает мой локоть словно тиски.
Конечно, он выбрал собственную машину.
Я поудобнее угнездилась на сиденье, приготовилась заснуть, наплевав на приличия, и закрыла глаза. Странное дело, сон решительно не шел. Присутствие рядом Клауса Амелунга полностью выбило меня из колеи. Он же абсолютно безмятежно вел автомобиль, мое присутствие его ничуть не волновало. Надо думать! Кажется, именно так говорила моя мама Марина Львовна Арихина. Или она мне не мама? Ох, как все непонятно…
Доктор Амелунг вел машину отлично, уверенно и ровно, я всегда завидовала такому умению, сама им не обладая. Мне кажется, что оно дано от рождения, сродни музыкальному слуху, чувству ритма и натренировать это невозможно. Мы стремительно неслись по автобану, а Клаус Амелунг не прилагал при этом никаких видимых усилий. А впрочем, какое мне дело до его врожденных способностей? Я же собиралась спать.
– Я должна вас поблагодарить, доктор Амелунг, – неожиданно для себя вступаю я в разговор. – Профессор Шульц действительно умеет творить чудеса. Спасибо.
– Мне за что? – По его лицу проходит легкая тень недоумения. – Я здесь ни при чем, благодарите Маркуса. И я рад, что он смог помочь и вам стало легче.
Ну что еще я хотела услышать, скажите на милость? Разумеется, он «ни при чем». Надо думать! Он не имеет ко мне никакого отношения, и я к нему никакого не имею. Надо закрыть глаза и подремать.
– Да, мне действительно реально лучше. И ночные видения прекратились. Представляете, я совсем не вижу снов, никаких.
– Это хорошо. – Его голос не блистал эмоциями, и глаз он от дороги не отводил. Полагаю, он уже пожалел, что пригласил меня с собой и теперь вынужден изображать вежливого собеседника.
– Профессор даже предложил мне закончить наши сеансы, раз результат достигнут.
– И что же вы? – Я снова не расслышала заинтересованности – так, дань хорошему воспитанию. Вероятно, мне все же стоит замолчать.
– Я? Знаете, а я отказалась. Как бы это объяснить? Может быть, это плохо, то, что со мной происходит, но я чувствую себя своего рода наркоманкой. Я вижу, что втягиваюсь в эту, другую, жизнь и не могу остановиться. Я давно уже ничего так не хотела и не ждала, как нынешних сеансов с профессором. Вы наверняка мне скажете, что это плохо и что нельзя жить придуманной жизнью, подменяя ею реальность. Но мне ужасно хочется узнать, что же будет дальше. Как в хорошей книге, когда читаешь и не можешь оторваться. До самого рассвета читаешь. Ловишь себя иногда на мысли, что пора спать и что с утра на работу, а не откладываешь и продолжаешь читать, взахлеб. Пока не дочитаешь до корочки. Только тогда успокаиваешься. Вот я и хочу дойти до корочки, узнать, чем же все закончится.
– Вы сравниваете это с романом? – Впервые в его голосе я уловила искреннее недоумение.
– Хотите расскажу?
Зачем я спросила? Ежу понятно, что его не интересует моя всамделишная жизнь, а виртуальная уж и подавно. Он молчал. А я все равно рассказала. Так, вкратце.
– Но вы не можете не понимать, что у этого романа не будет хеппи-энда, – отреагировал он на мой рассказ абсолютно индифферентно, безо всяких ахов и охов. – Вы сможете легко пережить финал?
Тут уж я недоуменно подняла брови.
– Фрау Таня, сколько вам лет?
Вопрос показался мне неуместным. Вообще-то я не скрываю собственного возраста и никогда не уменьшаю количество прожитых лет, но сейчас ответ словно застрял в горле, пришлось его выталкивать наружу, откашлявшись:
– Двадцать девять.
Он усмехнулся непонятно чему. Может быть, тому, что у меня двенадцатилетний сын? Но я не стала объяснять, что у нас с Юргеном была любовь еще с колледжа. Настолько сумасшедшая, что никто не мог нам помешать пожениться.
– Если принять во внимание вашу дату рождения и те времена, когда разворачиваются события, о которых вы рассказываете, то не трудно догадаться, что эта воображаемая Вера умерла совсем молодой, – принялся втолковывать он мне тем же менторским тоном, которым разговаривал с собственным сыном. – Предыдущая жизнь, как вы ее называете, по определению не может продолжаться после вашего настоящего рождения. Но вы же должны понимать, что смерть молоденькой девушки противоестественна. У смерти в таком возрасте обычно довольно неприглядная причина. Это я вам как профессионал говорю. Это может быть больно, страшно, мучительно. – Он замолчал ненадолго. – Ответьте мне на вопрос: вы готовы пережить собственную смерть? Именно собственную, раз вы умудрились близко к сердцу принять переживания другого человека?
Вопрос был поставлен так жестко, прозвучал так оглушительно, что я не сразу сообразила, что именно он имеет в виду. Даже хотела сначала сказать, что я уже почти что пережила собственную смерть, когда несколько месяцев пролежала в коме. Но вдруг осознала, что он говорит совсем о другом.
– Собственную смерть? Какой ужас! Я не думала об этом…
– А напрасно. Об этом нужно было подумать в первую очередь. Вы уверены, что это не подорвет ваше психическое здоровье? А оно, как я понимаю, у вас не бог весть какое крепкое.
Спасибо, хоть прямо не назвал меня сумасшедшей. Но, по большому счету, доктор Амелунг был прав.
– Но профессор Шульц ничего подобного мне не говорил, – растерялась я и принялась что было сил хвататься за соломинку: – Он же должен был меня предупредить, правда? Он обязательно меня предупредил бы, если бы существовала реальная опасность…
– Фрау Таня, не будьте наивной. – Мне показалось, что доктор сердится. На что? На мою тупость? – Маркус, разумеется, высококлассный специалист и хороший человек, но он в первую очередь ученый. И вы представляете для него интерес как объект наблюдений. Вы, фрау Таня, очень редкий и интересный объект, и я на месте Маркуса тоже не спешил бы вас отпускать. – Я ясно вспомнила слова профессора о том, что решение прекратить наши сеансы или продолжать должно исходить от меня. – Но где ваше чувство самосохранения? Не пора ли остановиться? Или вы так в себе уверены?
Нет, мне не показалось. Он по-настоящему сердился. Только вот на что, я не могла понять. Да и какое право он имеет делать мне внушения? Еще и в машине, пользуясь тем, что я не могу послать его ко всем чертям и уйти. Какое ему до всего этого дело? Ведь если кто и был инициатором нашей встречи с профессором, то это именно Амелунг. Что, пытается снять с себя ответственность? И обозвал меня объектом, будто какую-то муху дрозофилу. А самое главное, моя обида большей частью была вызвана тем, что он словно бы пытался отобрать у меня увлекательную книгу на самом интересном месте. Как в подростковом возрасте, когда мама приходит среди ночи, отбирает недочитанного Конан Дойля и выключает свет.
– О! Тогда вам придется делать этот ваш, как его, бихевиоризм, чтобы привести меня в чувство, когда я окончательно тронусь головой. Ха-ха! – Я пытаюсь перевести наш разговор в плоскость легкую и шутливую, чтобы только он отстал со своими нравоучениями. Обычно я поступаю так с Оли, и помогает.
Но доктор Амелунг не Оли:
– Фрау Таня, я уже говорил вам, что только самое неудачное стечение обстоятельств может свести нас с вами профессионально. – Он сказал это достаточно строго, но еще строже добавил, подумав: – Впрочем, я и тогда откажусь.
Надо думать! Моим первым и естественным желанием было потребовать немедленно остановить машину и выйти, но стоять на автобане небезопасно и, кроме того, после сеанса я вправду не чувствовала сил в ногах. Я замолчала, всю оставшуюся дорогу дулась и, словно четки, перебирала в голове то, что успела ему рассказать.
Марина Львовна постепенно сдружилась с мыслью, что у нее трое детей. Успокоилась и даже нашла в этом обстоятельстве некоторые плюсы. Немного, но нашла. А все равно семейная жизнь плохо поддавалась руководству. Так, по крайней мере, ей казалось.
В семье все и всегда шло вкривь и вкось, выходило из-под контроля, работало в авральном режиме. Хронически не хватало денег, в очереди прямо перед Мариной заканчивались гречневая крупа или туалетное мыло, протекал кран на кухне, убегало с плиты выставленное кипятиться белье, родительское собрание назначали в самый неудобный день. В воскресенье с утра нужно было вести детей в театр или музей, вместо того чтобы хоть раз в неделю выспаться. Надо было тащиться в субботу с Николаем на юбилей его сослуживца и весь вечер сидеть сиднем, слушать нудные пьяные разговоры о перегибах во внешней политике, диссидентах-молодцах и всесилии КГБ. А хотелось праздника, настоящего, счастья хотелось. Хотелось танцев, романтических вечеров на черноморском побережье, театральных премьер, закрытых показов в Доме кино. Хотелось хоть немного еще пожить «для себя» и чтобы муж чаще оказывал знаки внимания, дарил цветы, приглашал в кафе, обращал внимание на новую прическу, на модное платье. Чтобы чулки были всегда новыми, не зашитыми, туфли не разваливались, маникюр не облезал. Чтобы мужчины обращали внимание, а муж ревновал. И вообще, пусть бы все эти бытовые хлопоты были, но чуть позже, пусть даже ну совершенно те же самые, только потом когда-нибудь. Иногда Марина даже жалела, что вышла замуж, пускай и удачно по общепринятым меркам. Только в двадцать четыре, в проходной дядькиной комнате, много не навыбираешь, надо было идти, раз берут. Да и тогда казалось, что это любовь. Что она знала о любви?
Муж не ревновал, на закрытые показы не водил, не вывозил на море. Почти все выходные они проводили врозь: Марина дома с детьми, а Николай на охоте или рыбалке. В пятницу вечером доставал выцветший, пропахший дымом рюкзак, скрупулезно собирал в него по списку соль – спички – брикеты каши, чистил ружье или перебирал крючки и блесны и уезжал. Справедливости ради надо сказать, что регулярно звал Марину с собой, обещал море романтики и впечатлений, соблазнял перспективой поставить в загон на лося или дать новый спиннинг, но Марину Львовну подобная романтика не устраивала. Да и компания у Николая была сомнительная: пяток таких же ненормальных фанатиков, готовых в любую погоду из дома улизнуть, чтобы у костра водку пить да байки травить или правительство хаять. В воскресенье вечером возвращался «отдохнувший» – небритый, уставший, бросал в ванной ворох грязного белья, снова ружье чистил и крючки перебирал. Трофеи охотничье-рыбацкие гордо выкладывал на кухонный стол. Трофеи, разумеется, были хорошим подспорьем: иногда, когда повезет, сразу по десять килограммов лосятины привозил или пяток здоровых щук, не считая карася с подлещиками.
Тут уж в дело вступала Кира – чистила, разделывала, рассовывала по холодильнику, плотно забивала морозилку. Крутила лосиные котлетки, добавляя к мясу свиного жира, жарила подлещиков, солила щучью икру. У Кирочки все и всегда выходило споро, ладно, легко как-то, на зависть Марине. И молоко у нее с плиты не убегало, и каша не пригорала, и кружевные воротнички к школьной форме пришивались ровненько, и косы заплетались послушно. Киру все в доме слушались беспрекословно, будто даже с удовольствием. И Кира позволяла себе Марине перечить, не соглашаться с ней, поучать. Марина злилась, чувствуя Кирину правоту, но поделать ничего не могла. Куда она без Киры? Совсем пропадет. И ведь, странное дело, на службе у Марины тоже все и всегда выходило ладно и правильно, как у Киры на кухне. На фабрике Марину Львовну ценили, в пример ставили, по общественной линии продвигали, в партию готовили, значком ударника комтруда наградили. На работе Марина чувствовала себя страшно умной, талантливой, передовой, не то что дома. Дома – как английская королева, что царствует, да не правит.
Если бы Марине Львовне кто-нибудь посмел сказать, что она мало любит своих домочадцев, то она рвала бы и метала в гневе, была бы нетерпима к обидчику. Искренне была бы нетерпима. Она твердо знала, что любит их всех, что, кроме них, у нее и нет-то никого, готова была жизнь положить ради них. Да что там, она уверена была, что это и называется простым словом «счастье». Но только иногда нестерпимо хотелось собрать вещи и уйти из дома, тихонько прикрыв дверь. Совсем уйти – и будь что будет. В такие редкие моменты Марина Львовна брала собаку, поводок и отправлялась гулять. Странное дело, именно собаку она как раз таки и не любила, признавала это неоднократно. Собака об этом догадывалась, к Марине с нежностями никогда не лезла, держалась на расстоянии. Но гулять покорно шла, а на прогулке вела себя странно послушно, не доставляя хлопот. Жалела, должно быть, сочувствовала. Марина долго гуляла по окрестностям, забывая оборачиваться время от времени назад, не помня, что не одна. Ни с кем не разговаривала на собачьей площадке, не знакомилась. Молча шла и шла, теребя в руках какой-то непонятный предмет, при ближайшем рассмотрении оказывающийся кожаным поводком. Все видимые приличия таким образом были соблюдены: она же не просто уходила, а с видимой целью, а что так надолго, так это от привычки все делать хорошо и качественно. Из какой-то странной благодарности по возвращении давала собаке кусок колбасы, которую та бережно принимала с удивлением, почтительно виляла хвостом.
Дети росли здоровыми, крепкими, а не дружными. Ладно бы Любик выбивался из строя – он мальчик, но девочки обязаны были дружить между собой, одни же гены, одно лицо. Но как раз таки у девочек и наблюдались непримиримые противоречия. И то, что жили они в одной комнате, не сближало, а только больше настраивало друг против друга. Дрались, вредили друг дружке до того, что периодически Любомиру приходилось утешать Верушку, уступать той свою комнату, а самому ночевать в Вериной кровати. С Любомиром Надя не дралась. С Надеждой надо было бы быть построже, чаще внушения делать, но рука у Марины не поднималась: в детской стремительности дочери, в ее безотчетном рвении быть первой всегда и везде, в желании покрасоваться и поверховодить Марина себя узнавала.
А Верка совсем не в Марину, скорей в Николаеву породу. Медлительная, скрупулезная, дотошная. Вдумчивая и мечтательная. Вот вроде бы она здесь, а вроде бы где-то в облаках витает. Или тихо сядет рядом, под руку подсунется и сидит так, не шелохнувшись, будто мышка в норке. Долго может сидеть, пока Марина не встанет, на домашние дела не оторвется. Хотя именно Верка, единственная из троих, на пианино играет.
Шикарное пианино «Красный Октябрь» Марина Львовна достала по блату, купила с тринадцатой зарплаты с премией. Очень хотела, чтобы дети музыкой занимались. Про покупку дома никто не знал, Марина решила сюрприз сделать. Пианино привезли из магазина в грузовике двое здоровенных грузчиков, пыхтя и отдуваясь, втащили в квартиру. Дети в приступе неописуемой радости вопили и мешались под ногами, Кира, застыв в кухонном проеме, прижимала руки к сердцу и фартуку, дядьки-грузчики матерились, Марина лихорадочно двигала стулья, собирала в охапку вазочки и цветочные горшки, освобождая место для того, что красиво именовалось инструментом. Детей, весь вечер в три руки энергично насилующих фортепиано, решено было отдать в музыкальную школу. Все были счастливы и довольны Марине на радость.








