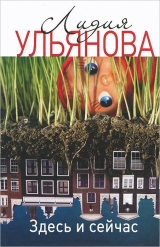
Текст книги "Здесь и сейчас"
Автор книги: Лидия Ульянова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Пока Кира берет молоко, мне разрешают поиграть с котятами, царапучими и злыми. Я иду в своих желаниях дальше и безо всякого спросу решаюсь погладить собаку, разомлевшую от жары, словно неживая лежащую у будки. Я подхожу, присаживаюсь на корточки и осторожно опускаю руку на лобастую голову. Собака не шевелится, только лениво открывает и снова закрывает глаза, и я принимаюсь медленно водить ладонью по короткой, жесткой шерсти. Собаке быстро надоедают мои ласки, она, протяжно вздохнув, садится и принимается оголтело трясти головой. В такт движениям головы бодро звякает пристегнутая в ошейнику цепь, и этот звук кажется мне музыкой. Эх, мне бы такую собаку на цепи!
И в магазине тоже красота!
Мы приходим в магазин в обеденный перерыв, занимаем очередь и ждем открытия. Очередь в магазин стоит всегда, потому что летом к своим, поселковым, обильно прибавляются дачники со всей округи. Ровно в два рассредоточившаяся очередь выстраивается под дверью, напоминая собой лягушачьего головастика: у самой двери плотная и кучная, она вытягивается к концу и мерно шевелит хвостиком. Мы с Кирой обычно толпимся в голове, на крыльце. Я люблю стоять под дверью, потому что здесь сильней всего толкаются, прижимая меня объемными и худыми бедрами, штапельными или ситцевыми, наступая на ноги кирзовыми сапогами, сланцами и разношенными туфлями. Я в азарте толкаюсь в ответ, безнаказанно и с удовольствием работаю локтями, наступаю на ноги и даже по-тихому плюю пониже взрослых спин. Кира старается оберегать меня от натиска, прижимает к своему теплому по-родному пахнущему боку.
Вот мы толпой вваливаемся в торговый зал, и сразу становится скучно. Везет, если отпускают сразу два продавца, тогда очередь идет быстро.
Мне скоро надоедает торчать возле Киры, и я отправляюсь изучать закоулки деревенского магазина. Крепче всего, разумеется, я прилипаю к стеклянной витрине с конфетами, воображая их вкус у себя во рту, мечтая о заветных красочных фантиках от дорогих шоколадных, из которых мог бы получиться великолепный секретик. Я знаю, что Кира обязательно мне что-нибудь вкусненькое купит. Не дорогих шоколадных, конечно, но «подушечек» в толстом бумажном кульке обязательно. Потом я перемещаюсь поближе ко входу в подсобку и засовываю туда свой любопытный нос. В подсобке принятая стеклотара штабелями в ящиках, швабры с тряпками, мешки с сахаром, коробки с макаронами. Здесь на коробках живет вечно сонная рыженькая магазинная кошка, сытая и гладкая.
– Вера! Верушка!
Это кричит на весь магазин потерявшая меня в толпе Кира.
Кира от походов в поселок устает, на обратном пути мы останавливаемся отдохнуть в теньке. Мне же совсем не тяжело, я бы еще раз могла добежать до поселка, становится жалко Киру, и я забираю у нее одну сумку, ту, что полегче. С сумкой идти гораздо тяжелее. Так мы и плетемся домой, волоча доверху набитые сумки.
По выходным мы встаем рано, надеваем на меня чистое платье, заплетаем косы и убираем подальше наши карты, потому что в выходные приезжают родители.
Мама не любит дачу, потому что «нет удобств» и спать приходится в тесноте – я с Кирой, а папа с мамой. И керосинку мама не любит. А еще мама терпеть не может комаров, которых вечерами слетается целая уйма.
– Зачем вы участок взяли, раз никому не нужно? – каждый раз удивляется Кирочка.
– С ума сошла? – каждый раз с возмущением отвечает мама. – Да за них драка была, за эти участки!
Я рисую себе в голове красочные картины того, как мама дерется за участок. Она бьет их всех кулаком в нос, лупит ладонью по голове, таскает за волосы, лягается и плюется. И побеждает.
Папа обычно остается на ночь, даже если мама вечером уезжает. Папа любит нашу дачу. И тогда мы в воскресенье утром идем с ним на озеро и делаем вид, что ловим рыбу. Рыба в нашем озере не водится, только ерши и мальки, но мы все равно сидим с удочками на берегу, отгоняя комаров, хлопая себя ладонями по рукам и шее.
Маму я очень-очень люблю, но боюсь. Боюсь ее недовольства мной, хочу специально для нее быть всегда и во всем первой, но почти никогда у меня это не получается. Если честно, то я даже маминых объятий боюсь, жестких и острых, угловатых, в пику мягкому и теплому бублику объятий Кирочки.
Мама говорит с неодобрением, что я всегда оказываюсь не в том месте, а папа называет это «грею уши». Я действительно часто слышу то, что мне и знать-то противопоказано.
– Кира, ну разве Верка моя? – с огорчением и сомнением спрашивает мама Кирочку в то время, как я тихонько играю с пупсиком за спинкой дивана. – Она же совсем иная, не в мою породу и не в Николая. Сидит, как совенок, одна с книжками. Дети играют, а она сидит и молчит. Помнишь, Николай вел их из сквера, а она по дороге валенок с ноги потеряла, и даже не пискнула? Так и шла, буквы бубнила, пока какая-то женщина их не догнала и не отдала валенок. Ты можешь себе представить, чтобы кто-то из детей валенок потерял и не заорал?
Дети – это имеются в виду мои брат и сестра. Гулять нас водили всегда в сквер, недалеко. По дороге все стены завешаны афишами, красными и синими, с объявлениями о концертах, киносеансах, лекциях. Буквы в афишах крупные, четкие, и я старательно выбирала знакомые, пока брат с сестрой пели или толкались на ходу.
– Мариночка, зато она уже читать пытается, первая, – примирительно успокаивает Кира. – Она ведь все буквы знает.
– Ох, читать все научатся рано или поздно. Сейчас безграмотных нет. А вот что она с детьми плохо ладит, так это меня беспокоит.
– Да ладит она, ладит. Только ее Надюшка под себя подминает, а ей хочется быть первой. Не получается первой, вот она в сторонку и уходит.
– Я и говорю, не наша порода. – Мама продолжает в шутку, игриво: – Кир, а может быть, у меня все-таки двое детей было, а третьего мне в роддоме подбросили, а?
– Ну и дурища же ты! – не выдерживает Кира. – Как такое сказать-то можно про собственное дитя? Да они же все трое на одно лицо, не отвертишься.
А вдруг я в самом деле подкидыш, чужая девочка? Меня моя другая мама потеряла, настоящая. Та мама плачет, она добрая и очень грустная и ищет меня, ищет…
Этот разговор я давно слышала, еще когда маленькая была. Еще когда и дачи не было.
А сейчас я большая, уже в школу хожу. Только у нас сейчас каникулы. Мои брат с сестрой в пионерском лагере, а я с Кирой на даче. Я им завидую немножко, мне кажется, что в лагере у них какая-то особенная жизнь, полная событий и приключений. Нет, у нас с Кирой тоже события и приключения, но там, в лагере… Ах!
Меня в лагерь больше не пускают, я только один раз была. Поселили нас, много-много девочек, в одной большой комнате, где одни кровати рядами и тумбочки, больше ничего нет. Вставать в лагере надо очень рано, умываться быстро, а вода холодная. Потом линейка, завтрак, физкультура, кружки. Ничего интересного, все только торопятся, толкаются, дерутся, а ночью пукают и плохо пахнет. Брат с сестрой как-то все и везде успевали, а я нет. Несколько дней я терпеливо ждала, когда же начнутся приключения, а они все никак не начинались. Я скучала по маме с папой, по Кирочке, по дому, а приключения не начинались. Тогда я взяла и ушла из лагеря и поехала домой. Сначала я шла пешком до станции, потом долго сидела на перроне – электрички все не шли и не шли – и домой добралась только к вечеру. Меня уже искали. Пила пахучие капли Кира, утирала глаза платком мама, папа кричал по телефону. Вместо того чтобы похвалить, что я так хорошо нашла дорогу домой, обрадоваться и обнять, на меня набросились, отругали и даже поставили в угол. Вот так.
Поэтому этим летом я на даче с Кирой, а брат с сестрой снова в лагере. И мне снова кажется, что там, в лагере, за каждым кустом приключения, но я их лишена…
После сеанса я чувствую себя выпотрошенной и разбитой, меня упорно клонит в сон. И я благодарна профессору за предусмотрительно отведенную для меня гостевую комнату. В этой комнате аккуратная односпальная кровать с сентиментальным розовым покрывалом, столик с чайником и кофеваркой, свой санузел. На прощание профессор снова вручает мне диктофон и сообщает, что не нужно искать его, когда я соберусь уходить, можно просто уйти, прикрыв за собой дверь. Велика вероятность, что мне не захочется общаться.
Я ложусь на кровать, закрываю глаза и затихаю. Я не сплю, просто дремлю. И где-то на самом краешке забвения, погружаясь в сон, снова чувствую ту девочку, которой я была когда-то. Или не была?.. Или не я?.. Ведь есть только здесь и сейчас. Здесь и сейчас…
В день, когда она родилась, радовался, казалось, весь город. В газете «Вечерний Ленинград» даже поместили заметку о том, что такого-то числа в родильном доме имени Снегирева у работницы ленинградской фабрики по производству клеенки и сотрудника Института текстильной промышленности родилась тройня, две девочки и мальчик, молодая мама и младенцы чувствуют себя хорошо, молодой папа счастлив.
Выписку тройни из роддома снимала «Ленинградская кинохроника», и сюжет крутили потом в кинотеатрах. Дотошные корреспонденты даже съездили на работу к молодой матери, пообщались с коллегами. Перепуганный визитом директор фабрики тоже делал счастливое лицо и сдуру пообещал предоставить молодой семье отдельную квартиру. Пока же из средств профсоюза в подарок новорожденным были куплены в «Детском мире» на Желябова три кроватки и похожая на океанский лайнер огромная коляска. Колясок для троен не выпускали, только для двоен, и дети вынуждены были с младенчества привыкать к единению и тесноте.
Дело с квартирой оказалось долгим, и из роддома Марина и Николай Арихины с тремя безымянными малютками отправились в коммуналку на Ракова, по месту прописки.
Две комнаты в отличной малонаселенной коммуналке достались Николаю после родителей. Там же в квартире проживали еще две семьи, состоявшие из одного человека каждая. В одной комнате жила старая большевичка Александра Тихоновна, а в другой – учительница вечерней школы Кира. В общем, сказка, а не коммуналка. Александра Тихоновна, правда, после смерти Колиных родителей встала на дыбы: нечего молодой паре две комнаты занимать, хотела одну оттяпать для подруги по большевистскому подполью, но Марина была уже на сносях, и дело застопорилось. А когда Марина вернулась из роддома с таким богатым приплодом, то вопрос отпал сам собой, к величайшей печали адепта Маркса и Энгельса. Понятное дело: мечтала получить в соседки соратницу по борьбе, а получила троих орущих высерков.
Но сильно печалилась не одна Александра Тихоновна, лила горькие слезы и молодая мать. Еще во время беременности она понимала, что дело нечисто и одним ребенком она не отделается – пожилая акушерка ясно слышала биение двух сердец, – но надеялась, что, может быть, как-то обойдется. А когда детей оказалось трое, то впала в настоящую депрессию и подумывала о том, как бы оставить в роддоме хотя бы одного. Только вот выбрать не могла. По всему выходило, что оставить надо бы одну девочку, только вот какую, если обе на одно личико, красненькие и сморщенные? Пока Марина думала-гадала, поднялась свистопляска с газетами и киностудией, да и Николай никогда не позволил бы, так и выписались вчетвером.
– Ну зачем мне столько? – рыдала Марина на плече у Киры. – Куда я их дену? Я и одного ребенка хотела не сейчас, а попозже, а их вот три. Стыдно сказать, как свиноматка какая-то.
– Ты что, ненормальная? – гневно утешала Кира, оглаживая молодую мать по плечам. – Да другие бабы за счастье бы почли! Дети здоровые, замечательные дети, а ты их на помойку выбросить мечтаешь!
Кирочка вышла замуж перед самой войной, муж ее погиб на фронте, и никого у нее не осталось. Да и шансов второй раз заневеститься не осталось тоже: мало того что нехороша собой, когда вокруг столько привлекательных баб-одиночек, так еще в блокаду застудилась по– женски и детей иметь не могла. И где ей было знакомиться, если вся личная жизнь крутилась вечерами в кино да на танцах, а у нее в это время самая работа в вечерней школе. Можно было бы с учениками шуры-муры водить, но тут у Киры существовали принципы – на работе ни-ни.
– Да как я справлюсь с ними одна? – в голос рыдала Марина.
– Справимся как-нибудь.
Марина Львовна была родом из Западной Белоруссии, бывшей до войны Польшей, там жили ее родители, работали в Бресте в артели. А Марину после школы позвал к себе мамин брат, прочно обосновавшийся в Ленинграде врач. Несколько лет до замужества Марина жила у дядьки, училась в институте. Спала в проходной комнате, бегала по магазинам, стирала на всю семью, полы мыла, но не жаловалась. В дядькиной семье относились к ней по-доброму, да и не каждому такое счастье – даром крыша над головой. Только, ясное дело, растить ее детей дядька с женой не собирались. И родители Маринины не помощники, у них своя работа, хозяйство, младшие дети.
– Их же как-то назвать надо, троих-то… У-у-у… Хлюп…
– И назовем, безымянными не останутся.
Обалдевшему от свалившегося мощного счастья Николаю было все равно, как называть наследников, любое имя хорошо. Марине же хотелось нечто красивое, элегантное, стройное. Например, Стелла, Инга и Жюльен. Но мудрая Кирочка вовремя отговорила. Тогда порешили на Вере, Надежде и Любомире. Достаточно стройно и где-то тоже элегантно.
Хоть и ревела от беспомощности, но к материнству Марина практически была подготовлена неплохо. С детства мать с отцом рано утром уходили на работу, а на ней хозяйство, четверо младших детей плюс огород и скотина. Детей накормить, задницы всем подтереть, моськи умыть, следить, чтобы не расшиблись и не голосили. Только вертись юлой. Если бы не мамин брат – долгих лет ему жизни! – до сих пор бегала бы с сопливой тряпкой, носы утирала.
Но отсюда же росли ноги полной Марининой моральной неготовности быть матерью. Не нагулялась еще, на танцульках не навальсировалась, свободной жизнью не нажилась. Она и замуж бы так скоро не выскочила, да только у дядьки в проходной, да у корыта – не об этом она мечтала. Мечтала Марина Львовна строить коммунизм, развивать социалистическое хозяйство, поднимать легкую промышленность. Окончив текстильный институт, пошла на фабрику по производству клеенки технологом, стала отличным специалистом, на доске почета висела. Поэтому и на работу она вернулась из декрета при первой же возможности. Детей хотела было отдать в ясли при фабрике, да как их троих до яслей каждый день дотащишь? Выручила ангел-хранитель Кира, сама вызвавшаяся в няньки: в яслях только болеть будут, по очереди и все вместе. Днем Кира сидела с детьми, а вечером, когда возвращалась Марина, шла в школу на уроки. Учебную нагрузку пришлось взять по минимуму, да что поделаешь, всех денег не заработаешь.
Квартиру обещанную все не давали, хоть и не отказывали. Дети росли. Их уже невозможно было удержать в комнате, открывали двери и рассыпались горохом по коридору, в кухне мельтешили. Тут уж не выдержала старая большевичка Александра Тихоновна, маявшаяся мигренями от вечного визга и топота шести маленьких ножек. Она надела костюм, нацепила ордена с медалями и пошла на прием к директору Марининой фабрики. Это куда же годится, что же делается в социалистическом государстве, что многодетной семье три года квартиру выделить не сподобятся? Дети-то, они кто? Цветы жизни они, вот кто! Будущие строители коммунизма в отдельно взятой стране, борцы с мировой буржуазией и капиталистическим мракобесием. Против борьбы с мировой буржуазией директор фабрики пойти никак не мог, не решался, и дополнительная угроза обратиться за помощью в райком партии возымела действие – квартира семье технолога Арихиной была в райсовете выбита.
Марина с Николаем прыгали до потолка от счастья, квартира была всем квартирам квартира. В райсовете тоже с ордерами на жилье негусто, очередь на годы вперед стоит, и многодетные в том числе. Ордер случился только на пятикомнатную квартиру в новом, уже прозванным хрущевским, доме в районе Ульянки. Не по чину, разумеется, такие хоромы молодой семье, да пусть уж живут, вдруг опять рожать надумают. Практичная Кира, правда, выразила сомнения – можно ли жить в комнатках размером с вагонное купе, но не была услышана.
Эйфория прошла быстро. Ехать на окраину города, в богом забытую Ульянку, где и детских садов еще не понастроили, и с транспортом туго! А бабушек и дедушек в наличии как не было, так и нет. Кира, как раз вышедшая на пенсию, предложила свои услуги. Возмущенная партийная активистка опять достала из шкафа костюм, идти к Марининому директору: что творится, люди добрые! Вертихвостка молодая, нахальная вздумала прислугу себе завести, заслуженного учителя в кабалу загнать! Тут уж не выдержала добрейшая, интеллигентная Кира и громко обозвала Александру Тихоновну большевистской дурой. Александра Тихоновна кому другому не спустила бы оскорбления, а Киру пожалела: совсем, видать, с катушек съехала учительница, что возьмешь? И здраво поразмыслить, так пускай все катятся, меньше народу – больше кислороду. Кирочка собрала вещи и заперла собственную комнату на ключ.
Марина Львовна порхала как на крыльях. Первое в ее жизни собственное жилье! Не в родном Бресте, не у дядьки в приживалках, даже не в коммуналке, где все существовало по порядкам, заведенным еще Колиной матерью, а полностью, окончательно свое! Был один минус – первый этаж, не очень престижно, на первом обычно служебное жилье дворникам дают и другим из ЖЭКа. Но пятикомнатные квартиры почему-то только на первом этаже размещались.
На обстановку квартиры были брошены все силы и сбережения. Когда не хватило, то Николай оформил кредит на жилую комнату, Марина взяла ссуду в кассе взаимопомощи. Шились новые занавески, застилался новой клеенкой стол, из клеенки была сделана и шторка в собственной – о, боги! – ванной. Доставались по блату лак для паркета, новые карнизы, дефицитный линолеум, кафельная плитка. Старинная мебель шла на помойку, уступая место полированной древесно-стружечной плите. Кире с боем удалось отвоевать дореволюционный обеденный стол, платяной шкаф в резных завитушках да кочубеевское кресло с высокой спинкой.
Разве могла Марина, лежа ночами на неудобном дядькином диване, мечтать о собственной отдельной гостиной! И самое главное, у всех отдельные комнаты, маленькие, но можно надежно скрыться от глаз за тонкой фанерной дверью. Девочек, конечно, пришлось поселить вместе, чтобы выделить комнату для Киры, но разве ж это беда?
По ночам я вновь и вновь слушала диктофонную запись, выкладывая перед собой узор чужой жизни. Моей жизни.
Днем наседал Оливер, томимый жаждой знаний. Упрашивал и требовал, требовал и упрашивал. Я же упорно не шла на контакт, впервые в жизни чувствовала себя мерзавкой и эгоисткой, предающей доверие сына ради некой эфемерной, не поддающейся осязанию материи. Да и как я могла ему рассказать? В двенадцать лет еще рано знать о реинкарнации и других жизнях. То есть можно, но только на уровне сказок и обывательских фантазий, а с этим у него и так все в порядке.
Я могла только клятвенно пообещать, что непременно расскажу, когда все закончится.
Встречались мы с профессором дважды в неделю, в понедельник и пятницу, так было удобно нам обоим. Так что середину недели я могла полностью отдавать работе, а выходные – собственному сыну. Мучимая угрызениями совести, я старалась максимально уделять внимание томящемуся в неведении Оли. Я даже почти подружилась с малышкой Агнет, зачастившей в наш дом. Я изучила ее вкусы и пристрастия, не клала ей горчицу в хот-дог и cок наливала не в высокий стакан, а в широкий и низкий.
– Профессор, должна признаться, что я совсем перестала видеть сны. Я сплю, как младенец, и даже высыпаюсь к утру. Это хорошо?
– Хорошо? – задумчиво переспросил Маркус Шульц. – Не знаю. А сами как думаете?
Тут уж задумалась я. Хорошо ли это, не видеть снов? Не вообще снов, которые время от времени видит каждый, а моих, навязчивых и тягучих, снов об одном и том же. Разумеется, хорошо. Просто отлично. После долгих мытарств по врачам я наконец-то добилась результата. Профессор Шульц просто волшебник в своей области, должна признать. То есть прямо сейчас я могу выказать все мыслимые и немыслимые восторги и навсегда с ним распрощаться, вернуться к сыну, к работе, к нормальной жизни. Но отчего я медлю? Почему пытаюсь сама для себя придумать отговорки, типа той, что неплохо было бы закрепить результат, проведя еще несколько сеансов? Не потому ли, что в противном случае я всю оставшуюся жизнь буду терзаться неведением, вспоминая перед сном о девочке Вере, Верочке, Верушке? Она манила меня к себе, она интересовала меня, как никто другой, она словно бы стала частью меня, прочно заняв место в моем сердце.
– А можно вы еще со мной поработаете? Это не очень сложно для вас? – осторожно поинтересовалась я с надеждой.
Маркус Шульц довольно улыбнулся:
– Я буду рад, Таня. Я уже говорил, что ваш случай меня чрезвычайно заинтересовал. Мне было бы досадно, если бы вы приняли решение уйти.
– Но почему вы мне не сказали? Я ведь действительно могла сейчас уйти.
– Это решение должно исходить от вас, Таня. И только от вас. А я в данном случае только волен был бы согласиться с любым вашим вердиктом.
И вместо того, чтобы вернуться к нормальной жизни, я опускаюсь в кресло. Многие знания – многие печали.
Мы уже большие, нам по двенадцать лет. Одинаково русоголовые, тощие, голенастые гадкие утята. В одинаковых курточках, одинаковых шапках, с одинаковыми портфелями из зеленого дерматина, на одинаковых велосипедах. Как в «Джейн Эйр», где в приюте девочки носили одинаковые шляпки с коленкоровыми тесемками, – я знаю, Кира рассказывала. Маме нравится, когда мы одинаковые, а Кирочка говорит, что мама из нас «делает армию». Любомир счастливчик среди нас троих – его легко выделить из троицы, он мальчик и коротко подстрижен, а мы с Надюшкой только и делаем, что боремся за ярко выраженную индивидуальность, потому что путают нас даже родители. Только Кирочка не путает, никогда. Мы цепляем на головы разные ленты и банты, пытаемся разнообразить прически и одежду, но помогает мало: окружающим неведомо, кто именно сегодня ходит с синим бантиком.
По утрам мама заплетает мне и Надьке косички, каждый день уныло одинаковые – два бублика, подвернутых за ушами, подвязанных коричневыми капроновыми лентами, в тон школьному платью. Косы мама плетет так себе, то ли не умеет, то ли торопится, поэтому однообразно и не слишком ровно. Я, заплетенная, иду в прихожую, смотрюсь на себя в зеркало и печально отмечаю, что один бублик явно толще другого и подвязан значительно выше собрата. Ну вот, сегодня я могу отличаться от сестры кривым бубликом косы, только мне такое различие не по сердцу, да и нет никакой гарантии, что у Надьки будет ровнее. Я медлю, вздыхаю и решительным жестом сдираю с головы банты, пальцами раздирая косы. Сейчас мне влетит, но уже ничего не попишешь, я ненавижу кривые косы. Хорошо Любомиру, он избавлен от этого мучения. Я бы с удовольствием обстригла волосы, но мама категорически не разрешает, потому что Надька отказывается стричься, а «девочки должны быть похожи и выглядеть как девочки». Что за бред! Я плетусь обратно на кухню, где ежеутренне происходит наш импровизированный парикмахерский салон. Криво заплетенная Надюшка о чем-то весело щебечет с мамой, не обращая ни малейшего внимания на отсутствие симметрии на голове. У нее легкий характер, ее не волнуют подобные мелочи.
Мама оборачивается ко мне и моментально мрачнеет.
– Опять? – угрожающе вопрошает она.
Ну да, грешна, я не впервые выкидываю фортель с косами. Без лишних слов и оправданий я подхожу и поворачиваюсь к маме затылком, в тайной надежде, что со второго раза выйдет лучше. Но мама сегодня настроена решительно.
– Не буду, – заявляет она. – Иди как хочешь, можешь прямо так.
Вот это уже полная неожиданность для меня – обычно мама поругает, но заплетет снова, обычно со второго раза получается ровнее. Должно быть, она сама видит, что кривовато выходит, и начинает стараться. Но только не в этот раз.
Я стою обескураженная: кто же меня заплетет? Запасной аэродром один – пойти, осторожно разбудить Киру и молить о помощи, Кира не откажет. Но мама словно читает мысли:
– И не вздумай будить Киру, выкручивайся сама. В следующий раз будешь сперва думать, а потом делать. Я и так из-за ваших причесок каждый день на работу опаздываю.
Надюшка ехидно хихикает в уголке, мама решительно собирается на работу.
Я сажусь на стул перед выставленным специально для утреннего причесывания зеркалом и начинаю совершать манипуляции руками у себя на затылке. Хм, это только куклам плести легко и просто, себе же, особенно когда нужно быстро, получается еще много хуже, чем у мамы. Я соплю, плачу, но в результате выстраиваю на макушке некое подобие конского хвоста, подтянутого ярко-розовой лентой. Но Надька с мамой, вопреки ожиданиям, только еще больше смеются, а мама многозначительно замечает:
– Ну-ну, всех покоришь. Тебе что, в самом деле кажется, что так лучше?
А мне кажется! Мне кажется, что результат стоит затраченных усилий: сегодня я наконец-то буду по-настоящему отличаться от сестры.
Мы трое внутри абсолютно разные. Мы любим разные игры, нам нравятся разные книги и герои, у нас разные пристрастия и интересы.
Любомир предпочитает футбол и велосипед, машинки и пистолет с пистонами, он берет в библиотеке книжки про войнушку и приключения, его руки круглый год в царапинах и заусеницах, а колени в ссадинах и синяках. Я ему завидую: он – настоящий мальчишка, как говорит Кира, типичный представитель своего поколения.
Надька у нас красавица и заводила. Она обожает рассматривать во взрослых журналах фотографии разных артисток и вырезать цветных красоток с коробок от маминых чулок. Вырезанных длинноногих, идеальных девушек она бережно складывает в коробку от зефира, где хранятся у нее фотографии артистов советского кино и обрезки кружев для кукол. У нее есть еще одна коробка, большая, с тряпочками для кукольных платьев, блестящими пуговицами и нитками мулине, и залезать в свои коробки она не позволяет никому. Я завидую Надьке с ее коробками.
Я же аморфна и безлика, неуспешна в спортивных играх и неудачна в модах и кукольном шитье. Мои увлечения ограничиваются узким кругом тихих игр вроде подкидного дурака на интерес, бессмысленного лото с пузатыми бочонками да шашек. Папа смеется, утверждая, что я способна самую азартную игру превратить в тихие посиделки, мама печально вздыхает, глядя на меня, сомневаясь в моей исконной принадлежности к семье, Кирочка же единственная, кто не прочь составить мне компанию в «тихих играх».
Каждый год Кира упрямо берет четыре абонемента в Большой зал Филармонии – себе и детям, на взрослых в плане эстетического воспитания она давно махнула рукой. «Берет» – не вполне правильное слово, Кира их достает с боем и по великому блату, через двоюродную сестру билетерши, которой достается кусок новой, отличной клеенки, что делает на экспорт мамина фабрика. Это специальные детские абонементы, концерты по ним играют истинно классические и легкие, музыка великолепная. Я каждый раз иду в Филармонию с восторгом и благоговением. Любашик идет, чтобы не расстраивать Киру, а Надька потому, что после Филармонии полагается мороженое в «Лягушатнике» на Невском, старинной мороженице для взрослых, почти ресторане со строгими официантками в белых фартуках, круглыми массивными столами под стеклянными столешницами и газировкой в пузатых сифонах.
После мороженицы я часто простужаюсь, но я люблю болеть, особенно если не очень сильно. Например, когда можно целую неделю не ходить в школу, а оставаться дома вдвоем с Кирой. Не то чтобы я ненавижу школу, нет, просто безумно нравится, когда в квартире тихо и пусто, никто шумит, не ругается, не бьет мячом в стену, не дерется. Кирочка тихонько готовит на кухне обед или читает книгу, а я предоставлена сама себе. Целых полдня, пока не вернутся со школы брат с сестрой. Какое блаженство! Меня ничуть не угнетает невозможность выйти на улицу, где, по словам Надьки и Любаши, и есть настоящая жизнь.
Я поудобнее устраиваюсь на диване в гостиной, Кира накрывает меня одеялом и включает телевизор. В телевизоре целых две программы, и я периодически совершаю несанкционированные вылазки из-под одеяла, чтобы пощелкать круглым колесиком, переключая каналы.
Хорошо болеть с самого утра, когда по телевизору показывают фильмы и спектакли, пускай и взрослые. А ближе к обеду начинаются только учебные передачи, которые я тоже смотрю на безрыбье. «Испанский язык для студентов первого курса» или «Обществоведение для десятого класса» еще ничего, можно смотреть, а «Высшая математика» и «Начала анализа» не даются мне, хоть тресни. Тогда я выключаю телевизор и берусь за книгу. Книги – мои настоящие друзья, самые верные, в них я могу вместе с героями переживать одну жизнь за другой. Я лечу на Луну вместе с коротышками из Цветочного города, осваиваю простые будни волшебника вместе с Чао, сражаюсь в отряде Васька Трубачева.
Следующая картина: мы втроем возвращаемся из школы. Это редкий случай, когда мы идем все вместе, потому что каждого из нас раздражает, что взрослые при виде нашей троицы традиционно умиляются нашей похожести и отпускают шуточки вроде: «Ах, как вас мама дома не путает?» или «У вашего папы три ремня или один на всех?» Любомир бесится, что его сравнивают с девчонками, Надюшка недоумевает, отчего ее, такую прекрасную принцессу, ставят вровень с нами, простыми смертными. А я? Мне как-то все равно, моя жизнь не здесь, она в книгах, среди саванн и прерий, лесов и морских просторов.
Мы, подволакивая ноги, ни шатко ни валко двигаемся в сторону дома, оттягивая торжественный момент встречи с родителями, ведь у каждого из нас сегодня в дневнике красуется по жирному красному замечанию. Такой уж урожайный день. У Любашки за драку, у Надьки за разговоры в столовой, а у меня самое позорное замечание: «Нет трусов!» – написанное учителем физкультуры. За это «Нет трусов» меня уже обсмеяли все, кто мог, а я всего лишь взяла на урок вместо коротких спортивных трусиков длинные тренировки, чтобы не светиться белесыми ляжками, не касаться голой кожей бедра грязного, шершавого «козла».
Вот если бы у меня было за разговоры, у Любашки за трусы, а у Надьки за драку – тогда да! А так что, ничего нового, меня обвинят в несобранности, Любомиру напомнят, что драться нужно только за правое дело, а Надьке мама скажет, чтобы поменьше болтала.
Мы идем через сквер, печально помахивая на ходу зелеными портфелями различной степени потертости: мой средний, между обкатанным с ледяной горки Любиным и чистеньким Надюшкиным. И дело не в том, что Надька такая уж аккуратистка, просто недавно мы с ней провели выгодный обмен: мой портфель на ее, а в придачу я получила «Урфин Джюса» почитать.








