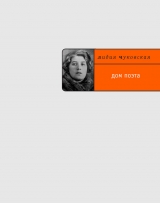
Текст книги "Дом Поэта (Фрагменты книги)"
Автор книги: Лидия Чуковская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Из Ташкента – из эвакуации – в апреле 1943 года:
"Очень по вас скучаю, потому что я есть ваш друг".
Не странно ли, что Надежда Яковлевна продолжала считать себя другом Харджиева во время войны, то есть уже после того как он, если принять за правду рассказанное ею во "Второй книге", "повинуясь инстинкту сталинского времени", от нее отступился? Где же она лжет: в письмах сталинского времени или в теперешней книге?
Из Ташкента 29 августа 1943 года:
"Обожаю вас как всегда".
Умер Сталин. Мандельштам реабилитирован посмертно. Том избранных стихов Мандельштама включен в план издания Большой серии Библиотеки поэта. Надежда Яковлевна берет рукописи у друзей, где они хранились в самые трудные годы, и передает их Харджиеву для совместной работы.
"Николаш, Николаш, что же будет?!" – восторженно восклицает Надежда Яковлевна в письме от 7 апреля 1957 года.
А случилось вот что. Книга Мандельштама, подготовленная к печати
Н.И. Харджиевым, из печати в течение 15 (пятнадцати) лет выйти не могла. "Вторая книга" Н. Мандельштам, где она предусмотрительно поносит Харджиева и его работу – в самиздате и за рубежом, уже вышла. В книге Н. Мандельштам, на мой взгляд, сильно не хватает одного письма – письма Надежды Яковлевны к Николаю Ивановичу.
Цитировать чужие письма – неприятное занятие. Я сознаю это, но вынуждена прибегнуть к документам, чтобы соскрести с беззащитного человека грязь клеветы. Приведу из письма Надежды Яковлевны к Харджиеву один отрывок.
28 мая 1967 года Надежда Яковлевна Мандельштам, вспоминая о том давнем страшном дне, когда посылка, отправленная ею в лагерь, вернулась с пометкой: "возвращается за смертью адресата", написала Николаю Ивановичу Харджиеву:
"Во всей Москве, а может, во всем мире было только одно место, куда меня пустили. Это была ваша деревянная комната, ваше логово, ваш мрачный уют… Я лежала полумертвая на вашем пружинистом ложе, а вы стояли рядом толстый, черный, добрый и говорили: – Надя, ешьте, это сосиска… Неужели вы хотите, чтобы я забыла эту сосиску? Эта сосиска, а не что иное, дала мне возможность жить и делать свое дело. Эта сосиска была для меня высшей человеческой ценностью, последней человеческой честью в этом мире. Не это ли наше прошлое? Наше общее прошлое?.. Человек символическое животное, и сосиска для меня символ того, ради чего мы жили".
"Наше общее прошлое" (любовь к Мандельштаму. – Л.Ч.); "вы стояли рядом – толстый, черный, добрый…", "во всей Москве… было только одно место, куда меня пустили"… "Последняя человеческая честь в этом мире".
"Он использовал мое бесправное положение… а ссыльных всегда грабят" (444) [402]; "жулик… Харджиев" (541) [490]; в бумагах Мандельштама "похозяйничали органы, супруги Рудаковы и Харджиев" (604) [545].
Письмо Надежды Яковлевны к Николаю Ивановичу в комментариях не нуждается. Оно само в сопоставлении со "Второй книгой" ярчайшая черта автопортрета, созданного Н. Мандельштам. Автор письма и автор книги, на мой взгляд, не имеет ни малейшего представления о том, что означает слово: честь.
Отношения между людьми меняются, но факты остаются фактами; фальсифицировать историю в наши дни общепринято, но непочтенно.
Надежда Яковлевна не в силах пройти мимо человека – любого! или могилы – любой! чтобы не дать человеку пинка, зуботычины, оплеухи или не удостоить могилу плевком.
На страницах "Второй книги" Надежда Яковлевна не раз говорит, будто ум у нее по природе насмешливый. Самообольщение! Для насмешливости необходимы вкус, юмор, чувство меры, словесная меткость. Назвать постаревшую женщину, в молодости красивую, а потом поблекшую, "драной кошкой" – какая же это насмешливость? Не насмешливый ум у автора мемуаров, а заурядно-грубый. Это не та простонародная грубость, какая свойственна языку крестьянина или языку Шекспира: смелость в названии предмета его именем. Это грубость конторы жилуправления, продавщиц в магазине, секретарш в учреждениях, грубость того пассажира, который в трамвае проталкивается сквозь густо-сбитую толпу, никого не прося подвинуться и не извиняясь. Распихивает всех локтями, наступает всем на ноги, и дело с концом. Грубость склочной коммунальной кухни, где заведено плевать соседке в суп.
Грубость нашего времени, нашего чиновничества, заразившая улицу. Или наоборот: грубость улицы, заразившая наших чиновников.
Желая доказать свою исконно-посконную родственность "человеку массы", Надежда Яковлевна старательно употребляет такие словечки, как "славная порода бабенок" (95) [88], "девчонкин мужик совершенный сопляк" (146) [135] и трижды утверждает в своей книге, что она любит и ценит мат.
Все эти выверты – и сопляк, и бабенка – звучат из философических, бергсоно-шарденовских уст мемуаристки кривлянием, натяжкой, фальшью; воображая, вероятно, что любовью к грубости она следует пристрастию Мандельштама к "обмирщению языка", она в действительности владеет вульгаризмами так же неумело, как языком литературным… Ее литературный слог – слог запыхавшегося репортера, который строчит размашисто, развязно, хлестко, бойко, иногда – выразительно, но не имеет времени не только сбегать в библиотеку за справкой, но и перечесть собственную рукопись. "Стоявшие на высших ступеньках начальники уже знали о предстоящем докладе" (166) [153–154]; "у него был за это нагоняй" (вместо «ему», 382 [347]); "по незначительному поводу, никакого значения не имеющему" (497) [450]; и т. д., и т. п., и проч.
Владеет ли Надежда Яковлевна ухищрениями матерщины, которой объясняется в любви, не знаю; в печати ни у нас, ни на Западе мат пока еще не принят, так что во "Второй книге" она лишена возможности блеснуть. Как бы там ни было, мне мат гнусен до тошноты, но еще много гнуснее те высокие мотивы, которыми обосновывает Надежда Яковлевна свою любовь. "Я люблю мат, в нем проявление жизни", – возглашает она (329) [300]. (Какой жизни? Кулаком в зубы – это ведь тоже проявление жизни.) Надежда Яковлевна обосновывает свое пристрастие двояко: патриотически – раз и либерально два.
"Под российский мат и умирать-то приятнее" (91) [85]. Это патриотизм. Далее следует либеральность: жертвы сталинских застенков умирали с матом на губах (332) [302]. Вот почему Надежда Яковлевна особенно ценит мат. Не просто так, не из любви к искусству для искусства, а из сочувствия к несчастным жертвам.
Можно подумать, будто палачи изъяснялись на языке цветов.
Не на языке цветов изъясняется и сама Надежда Яковлевна.
Она сильно напоминает ту злую мачехину дочку, которую справедливая фея наградила отвратительным даром: стоит ей только открыть рот – оттуда выскочит жаба…
"Дурень Булгаков" (136) [126]; "Бердяев поленился подумать" (321) [292]; "если бы Элиот удосужился подумать" (559) [506]; брехня Чуковского (102) [96]; Волошин совершил "самый обыкновенный донос" (99) [93]; "Цветаева выдумала" (521) [472]; Пастернак "даже не подозревал, что существует равенство" (260) [238–239]; "В начале двадцатых годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб… мог показаться Бабелю выгодным…" (65) [62]; "Идиотка Ольшевская" (117) [109]; "жулики вроде Харджиева" (541) [490]; "настоящие красавицы успели удрать, и я видела только ошмётки" (162) [151]; и, наконец, как зуботычина из зуботычин, похвала драматургу Александру Гладкову:
"Гладков в своих страничках о Пастернаке не врет и не хвастается, когда рассказывает о неслыханном внимании к нему Пастернака" (387) [352].
А почему, собственно, следует заранее предполагать, что Гладков врет и хвастается? Вовсе не все мемуаристы хвастаются и врут. Но ничего не поделаешь: стоит Надежде Яковлевне открыть рот, – оттуда жаба.
Жаба – животное скользкое, и похвала Гладкову есть на самом деле низменное толкование драматургических опытов Пастернака. Борис Леонидович собирался написать пьесу и поэтому, сообщает Надежда Яковлевна, "присматривался к драматургам, которым повезло" (387) [352]. Не к жизни присматривался, не к истории, не к великой драматургии, наконец, Шекспира, Гете, Пушкина, Мольера или Чехова, – а к литератору, "которому повезло".
Просто и низменно.
Низменно и в то же время высокомерно. Без высокомерия – ни шагу. Что делать! Элита. Олимп!
"Мне жалко Бердяева, – пишет Надежда Яковлевна, – обожавшего духи, в которых всегда пронюхивается что-то постороннее, грубое и вульгарное" (531) [481].
Жалко Бердяева! У аристократической, чуждой всему грубому и вульгарному Надежды Яковлевны обоняние, как и все чувства, изощренно; Бердяеву до нее далеко.
"Бедняга" пишет Надежда Яковлевна о Маяковском – ему "уже успели внушить, что"… (514) [465].
Бедняга Надежда Яковлевна! Ей никто не успел внушить, что когда Пастернак, в стихах и в прозе, с восхищением, с возмущением, с упреком, со слезами и скорбью, пишет о Маяковском, о его поэзии, о его трагической гибели, это "звезда с звездою говорит", – а когда она, Надежда Яковлевна, произносит, жалеючи философа, "мне жалко", а жалеючи поэта – «бедняга», это Иван Александрович Хлестаков, собственной своею персоной, похлопывает по плечу Александра Сергеевича: "Ну что, брат Пушкин?" – "Да так, брат… так как-то всё".
Хлестаковщиной "Вторая книга" полна до краев. Но Иван Александрович, в отличие от Надежды Яковлевны, хоть резолюций выносить не покушался.
…Ахматова просила ее привести в порядок рассказы об акмеизме одного их своих старых друзей, одного из первых акмеистов, Михаила Зенкевича. Надежда Яковлевна не желает. "Пусть это делают без меня – я не историк акмеизма". Что ж, ее право: она ведь вообще не историк. Тут бы и поставить точку. Но нет, нужна резолюция. "Думаю, что он может обойтись и без истории" (62) [59].
Гумилев, Ахматова, Мандельштам, по свидетельству той же Надежды Яковлевны, до последнего дня считали себя акмеистами. Почему же – без истории? Поэты не мелкие, почему бы не заняться изучением начала их пути? Но Надежде Яковлевне виднее.
"Первое десятилетие века в поэзии представлено символистами, – пишет она. – Я оставляю в стороне стихи (оставляет в стороне стихи, говоря о поэтах! – Л.Ч.) – в них разобраться будет нетрудно" (44) [43].
Нет такого явления, в котором Надежде Яковлевне разобраться было бы трудно. Она разбирается во всем и по поводу всего выносит свою резолюцию.
Солженицын, пробывший несколько лет в лагере, свидетельствует:
"Целая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги".
Надежда Яковлевна, которая, к счастью, никогда в лагере не бывала, сообщает:
"Я что-то не слышала, чтобы у нас в лагерях сочинялись стихи – только вирши".
Припомним наугад, на выбор, имена поэтов, которым посчастливилось вернуться из лагеря: Заболоцкий, Галкин, Спасский, Шаламов… Можно любить их поэзию или не любить, но неужели они не поэты, а виршеплеты всего лишь? А о скольких, погребенных там, мы не узнали и никогда не узнаем… Надежда Яковлевна выносит резолюцию: в лагерях стихи не сочинялись, одни только вирши… И тут же, со свойственной ей скользкостью: "Зато выпущенные и спасшиеся помнят и ценят свои вирши – они спасли жизнь тем, кто ворочал их в уме" (564) [510].
Так и в незримые братские могилы плюнуто и либеральный этикет соблюден.
Этикет – хотя бы внешняя видимость приличия – соблюдается изысканной Надеждой Яковлевной не всегда.
Зато в бездну учености и философии окунает она своего читателя. Истинный "корифей наук".
"Эсхатология" (120, 131) [112, 122]; "дионисийское начало" (126) [117]; «хилиазм» (147) [352]; Платон, Бергсон, Владимир Соловьев; "ноосфера Шардена" (581–583) [526–527]; "взаимопроникновение субъекта и объекта" (361) [329]; "только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис" (161) [149]; "отчаяние христианина качественно отличается от отчаянья атеиста" (558) [504]; грех и покаяние (301–302) [275]… А может быть, безо всех многостраничных пересказов чужих идей, без умничанья, без катарсиса и покаяния попросту не сочинять, от греха подальше, о своем лучшем друге, Ахматовой, будто в преклонные годы она перестала отзываться на чужие тревоги, мытарства, страдания, беды? Может быть, лучше не лгать, будто Ахматова без спроса пустила по рукам доверенные ей письма мужа к жене: Осипа Эмильевича к Надежде Яковлевне? (147) [136]; и будто она, Ахматова, торговала своим именем: получая в большом количестве переводы, оплачивавшиеся по высшей ставке, сама перевела будто бы за всю свою жизнь не более десяти строк (134) [124], остальное же переводили вместо нее другие?! Ложь: Ахматовой переведены версты стихов. Но это бы еще полжабы! А вот и целая: "гонорар делили пополам" (134) [124]. Почему же пополам? Переведя всего лишь какие-то десять строк, – из тысяч! – Ахматова обязана была остальные оплачивать полностью. Анна Ахматова в роли аферистки – до этого еще никто не додумался, даже сам товарищ Жданов… Полновесная жаба, выпрыгнувшая из дружеских уст.
Но к облику Анны Ахматовой на страницах "Второй книги" я обращусь позднее. Пока что меня занимают другие люди, оплеванные Надеждой Яковлевной, и собственный ее автопортрет.
Юрий Николаевич Тынянов… Историк и теоретик литературы; романист; новеллист.
Поначалу, как мы видели, Надежда Яковлевна Тыняновым недовольна: его имя названо среди имен тех литераторов, с которыми не о чем было говорить. Затем, на странице 369 [336], выражается, напротив, благосклонность к Тынянову и сожаление о его тяжелой болезни: "Он принадлежал к лучшим и самым чистым из наших современников". Прекрасно. Затем на странице 379 [344] дается понять, что Тынянов был трусоват: "на письма не отвечал никто", а он "со страху" уничтожил одно очень ценное письмо опального поэта. На стр. 368 [335] читаем:
"Сам Тынянов приспособлялся хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору".
Не знаю, к какому двору пришлась проза Тынянова, – она прочно вошла в русскую литературу; громили в свое время придворные люди тыняновскую прозу не с меньшим рвением, чем его литературные теории.
Беру на выбор:
"…трактовка материала в повести Тынянова является прямым снижением жанра исторического романа, и по существу, идеалистическим искажением всех основных фактов эпохи"1.
"Алпатов и Брик уверяют, что Тынянов проводит дух реакционного историзма, что романы его беспринципны"2.
(Очень пришлись ко двору романы Тынянова, как же!)
Тынянов, один из умнейших людей своего поколения, был объявлен "представителем социального маразма". Это меня не удивляет, это закономерно, естественно. А вот добавочных унизительных умствований со стороны Надежды Яковлевны, в дополнение к Ермиловским, могло бы и не быть…
Надежда Яковлевна рассказывает, как однажды ей с Мандельштамом повстречался на улице "еще владевший движениями" Тынянов. Они недолго поговорили о чем-то и простились. Мандельштам сказал жене: Тынянов, по-видимому, вообразил себя Грибоедовым (369) [336]. Допускаю, что это так и было: Тынянов, по желанию, свободно мог обратиться в Грибоедова. Что ж. Но у Надежды Яковлевны за пазухой камень: ей необходимо унизить человека, хотя бы и тяжко больного, который: "еще владел движениями".
"Кюхельбекером он стать не решился, – комментирует она дружескую встречу, – опасно".
Да ведь и Грибоедов испустил дух не на цветущем лугу!
Запертый, он пережил ужас приближения убийц – и они убили его. Опасно! Очень опасно!
"Грибоедовым тоже не очень сладко быть, – спохватывается Надежда Яковлевна, – но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче" (369) [336].
Быть может, воздержавшись от садизма сравнивания двух смертных потов, двух смертных хрипов, почтить уважением оба? Тынянов написал роман о Грибоедове и роман о Кюхельбекере, стало быть, во всяком случае, «решился» вообразить себя и тем и другим, и решился не на минуту, не при случайной встрече с друзьями на улице, а надолго, у себя за письменным столом, на годы. Тынянов в "Восковой персоне" первым осудил террор, и именно этого не прощала ему «критика». Даже без тяжкой, многолетней, безнадежной болезни быть Юрием Тыняновым в двадцатые-тридцатые годы нашего века в России не вполне безопасно. Не безопасны такие строки в журналах:
"Совершая экскурсы в далекое прошлое, он пытается представить никчемными все общественные реформы и революции.
Не только философия Тынянова реакционна, но реакционен его творческий метод"3.
Опасно, очень опасно! На волосок от гибели. Сложна русская жизнь. Издевка над ней – занятие недостойное.
–
1 И. Р у б а н о в с к и й. Гнилой либерализм за счет кровных интересов большевизма // Вечерняя Москва. 22 декабря 1931.
2 В. Д и т я к и н. Литературное наследство классиков марксизма // Октябрь. 1934. № 7.
3 Б. В а л ь б е. Юрий Тынянов и его исторический метод // Ленинград. 1931. № 10.
–
Поразительно то пренебрежение, та брезгливость, с какой пишет Надежда Яковлевна о так называемом "простом человеке", не о соседях своих по Олимпу, а о соседях по коммунальной квартире, не о служителях Муз, а всего лишь о сослуживцах по Педагогическому институту.
"Были ли у нас силы, чтобы хоть кого-нибудь пожалеть?" – спрашивает Надежда Яковлевна на странице 653 [590]. У кого это "у нас"? У Надежды Яковлевны не хватало сил даже на то, чтобы удерживать себя от злорадства.
…Вот Надежда Яковлевна и Осип Эмильевич живут еще в Москве до ссылки, снимают комнату у нэпмана. Перегородки тонкие, семья шумная (трое детей), Мандельштаму жить и работать неудобно. А тут еще несчастье, из-за которого в квартире поднимается уж совсем невыносимый шум: нэпман арестован, дети осиротели, голодают – сын нэпмана не ходит в школу и целыми днями ревмя ревет.
Прошу читателя оценить и дать название чувству, какое владело пером Надежды Яковлевны, когда она описывала это несчастье.
"За нэпманом пришли, и целую ночь мы слушали, как трое молодцов орудовало в соседней комнате – квартира была, конечно, двухкомнатная с тоненькой переборкой вместо стенки… В какой-то щели молодцы нашли кучку червонцев, но мы знали, что эти деньги были сознательно засунуты в очень приметное место, как жертва разгневанному богу. Нэпман заранее договорился с женой, что она отчаянно взвоет, когда обнаружатся червонцы, и мы услыхали ее вполне талантливый вой и искренний визг детей, не посвященных в детали инсценировки" (592–593) [536].
Надежда Яковлевна ведет свое повествование дальше:
"Дети продолжали посещать школу… Мальчишка, как внезапно оказалось, не мог перенести жизни, которую ему создали в школе учителя и соученики. Целыми днями мы слышали его рев… Мальчишка выл… Цены уже начали расти, и мать, вздыхая, перечисляла, что истрачено за день. Утро начиналось с приготовления завтрака: каша и чай особого сорта. На непитательный сушеный китайский лист в этой семье не тратили. Покупалось молоко, и мать разбавляла его на кухне водой. Молоко закрашивало воду легкой мутью… мальчишка выл… Он выл с утра до вечера, но, к счастью, рано ложился спать. После одиннадцати вопли умолкали, и Мандельштам, выпив своего чаю, который я норовила заваривать раз в сутки, а он выл1 и требовал свежей заварки, ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной…"
Таково сочувствие Надежды Яковлевны к голодным сиротам и к их матери. Которые пьют воду, слегка окрашенную молоком. К семье соседей.
–
1 Надеюсь, это опечатка: вряд ли Мандельштам, лишившись крепкого чая, вел себя так же, как голодный мальчик, лишившийся отца.
–
Об осиротелом мальчике пишет она далее так:
"Для мальчишки, впрочем, открывалась отличная дорога прямо к лучезарному счастью – ему следовало осудить отца, порвать с прошлым и оказать услугу начальству, порывшись у нас в бумагах. На всякий случай я носила бумажки с "Четвертой прозой" в сумке, хотя знала, что в те годы начальство нами почти не интересовалось. Если мальчишку использовали, то скорее всего для разоблачения отца – куда он припрятал червонцы? – и всех его друзей и знакомых – в чьих огородах закопаны кубышки с бумажными деньгами?" (595) [538].
"Если мальчишку использовали"… "отличная дорога прямо к лучезарному счастью"… А почему Надежда Яковлевна смеет предполагать, что этот мальчик на эту подлую дорогу вступил? Потому, что он плакал, не осушая глаз, день за днем, когда увели отца?
Думает Надежда Яковлевна о будущей счастливой службе мальчишки в «органах» не почему-либо – оснований у нее нет, – а для чего: и начальство еще, по ее же словам, Мандельштамом не интересовалось; и мальчишка никаких попыток рыться в бумагах не делал – думает она так для того, чтобы оправдать позор собственного бездушия. Мальчик мог вступить на эту дорогу стало быть, это уже заранее дает ей право глумиться над ним.
В моих глазах по уровню душевной культуры недалеко ушла Надежда Яковлевна от тех троих молодцов, которые делали обыск в семье нэпмана. В моих глазах ни полушки не стоит всё ее христианство и все ее разоблачения насильничества, если она так, такими словами, с такими интонациями, с таким неуважением к горю может рассказывать о чьей-то (мне все равно чьей) разлученной, голодной, гибнущей, сгинувшей невесть куда и невесть за что семье.
Такова натура мемуаристки, такова ее природа, ее отношение к людям – в том числе и к товарищам по несчастью, – явленное нам не в разговорах о доброте человеческой, не в декларациях о самоотречении и сознании греха, а в том, что достовернее любых деклараций: в стиле, в эпитетах и глаголах, в уменьшительных (они же уничижительные): во всех этих повестушках, стишках, виршах, статейках, а также дурнях, идиотах, в мимоходных и длинных плевках. Природа ли? Или клеймо, наложенное эпохой бесчеловечья?.. Всё в этой книге работает на уничижение человеческой личности и на умиленный восторг перед собственной персоной: Наденькой, Надей, Надюшей, Надеждой Яковлевной, перед ее болезненностью, милой избалованностью, очаровательной вздорностью, легкомыслием, детским почерком, милыми платьицами, даже перед пижамой "синяя в белую полоску" (160) [149] и, главное, перед ее небывалым, неслыханным мужеством.
"Откуда… взялась стойкость, которая помогла мне выжить и сохранить стихи?" (564) [510] – торжественно спрашивает Надежда Яковлевна. Не подвергая сомнению стойкость Надежды Мандельштам, я, в ответ на ее вопрос, хочу задать еще один: к кому она обращается? Кого о собственной стойкости она спрашивает? Своих современников? Людей, переживших Первую мировую войну, потом две революции, потом Гражданскую войну, потом сталинщину (ежовщину, бериевщину), а потом еще одну мировую… Читаешь, от стыда опуская глаза: "Откуда взялась стойкость, которая помогла мне…"
Восторг перед собственной персоной и презрение к человеку – к его чести, доброму имени, судьбе, труду – пронизывает всю "Вторую книгу". На стр. 520 [471] Надежда Яковлевна заявляет: "Отдельные судьбы не волновали никого ни в дни войны, ни в годы великих и малых достижений. На том стоим. Это совсем не трудно – стоять на таком. Техника отлично разработана".
Правда. На том стоим. Но на том же самом твердо стоит и Надежда Яковлевна. Книга ее проникнута бесчеловечьем – вся! – от первой до последней страницы. Восхищением собою и презрением к человеку.
В сущности, мне до этой книги и дела бы не было. Мало ли на свете бесчеловечных книг!
Если бы – если бы не постоянный припев автора: "наш общий жизненный
путь" – Надежды Яковлевны, Ахматовой, Мандельштама: "нас было трое, только трое".
Мандельштам, по утверждению Надежды Яковлевны, учил ее ценить в людях прежде всего доброту. "Всех живущих прижизненный друг", – сказал он о себе. Великодушие звучит в его поэзии.
Ахматова говорила:
– Все и без поэзии знают, что надо любить добро, – но чтоб добро потрясало человеческую душу до трепета, нужна поэзия… (30 сентября 1955).
И вот в такое «мы» Надежда Яковлевна пытается втиснуть себя.
И от имени этого «мы» судит людей и время: людей, помешавшихся с горя; ребенка, потерявшего отца; литературу и литераторов; соседей по квартире и товарищей по несчастью.
…К числу посмертных надругательств над Анной Ахматовой я отношу и "Вторую книгу" Н. Мандельштам. Вышедшую, к стыду нашему, у нас в Самиздате в виде рукописи, и на Западе – в виде книги. Первые воспоминания об "общем жизненном пути".
Я часто думаю, что испытала бы Ахматова, прочти она эту книгу. И сразу отталкиваю от себя этот праздный вопрос.
"Вторая книга" Н. Мандельштам не могла попасть в руки Ахматовой – живи они обе – Анна Андреевна и Надежда Яковлевна – хоть до ста лет. При жизни Ахматовой такой поступок, как эта книга, не мог быть не только совершен, но даже замыслен. При жизни Ахматовой Надежда Яковлевна Мандельштам не решилась бы написать ни единой строки этой античеловечной, антиинтеллигентской, неряшливой, невежественной книги.
Мы и сами не отдаем себе отчета, теряя великого поэта, – от каких несчастий спасало нас одно его присутствие на земле. От скольких лжей. От скольких предательств.
И поэт, справедливо жалуясь на свою тяжкую судьбу, не представляет себе, что предстоит ему перенести – после смерти.
Ахматовой после смерти выпало на долю еще одно несчастье: быть изображенной пером своего друга – Надежды Яковлевны Мандельштам.
"Вакансию первого поэта-женщины я с ходу – у витрины книжного магазина – предоставила Ахматовой… Я допускала существование нескольких мужчин-поэтов, но для женщин мой критерий был жестче – одна вакансия и хватит. И вакансия была прочно занята. Остальных по шапке…"
Так сообщает о начале своей любви к поэзии Анны Ахматовой Н. Мандельштам на странице 512 [464]. Но и Ахматовой, которую Надежда Яковлевна с ходу удостоила первой вакансии, под ее пером на протяжении всех семисот страниц "Второй книги" приходится не очень-то сладко. Грубость и бесчеловечье, принимаемое автором мемуаров за правдивость и природную насмешливость, и тут дают себя знать.
Однажды Мандельштам "не без смущения сказал мне, что женщины все-таки что-то из себя изображают, не совсем естественны (попросту кривляки), переводит слова Мандельштама на свой язык Надежда Яковлевна. – "Даже ты и Анна Андреевна"… Я только ахнула: наконец-то он догадался! Обо мне и говорить нечего, выдрющивалась, как хотела…" (353) [321–322].
Дальше ожидаешь сообщения, что Надежда Яковлевна «выдрющивалась», а ее лучшая подруга, Анна Андреевна, выпендривалась, но нет, об Ахматовой сказано хоть и уничижительно, но иначе: у нее был, оказывается, "ряд моделей, приготовленных еще Недоброво по образцу собственной жены, "настоящей дамы", для сознательного выравнивания интонаций, поступков, манер. Спасал только неистовый жест, смущавший, но, очевидно, забавлявший Недоброво, и прирожденная неукротимость" (353) [322]. Из стихов Ахматовой, посвященных Недоброво, из статьи Недоброво, посвященной Ахматовой, не приметно, чтобы друг в друге их что-нибудь забавляло. Как правило, чужая неукротимость забавляет обычно пошляков, людей с низменными душами; какие основания полагать, что Недоброво был низок?.. С манерами же у Анны Ахматовой, если довериться повествованию мемуаристки, дело вообще обстояло неважно.
"Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью". С годами "чуть не хлопая" превратилось в «хлопала». "В бродячие годы старости, когда она проводила зиму, странствуя по Москве… она хлопала дверью перед носом каждой приютившей ее хозяйки" (508) [460]. Вот тебе и "настоящая дама"! Хлопать дверьми – неужели это и есть выравнивание манер и поступков, или, быть может, тот самый неистовый жест прирожденной неукротимости, который «забавлял» Недоброво? А по-моему, хлопанье дверью, да еще в чужом, оказавшем тебе гостеприимство доме – какая же это неукротимость? Это самое заурядное хамство.
Собираю, собираю, коплю черточки душевного и наружного облика Ахматовой, с большой щедростью разбросанные по страницам "Второй книги". Ведь далеко не всем посчастливилось, как мне, быть знакомой с Ахматовой: доверчивый читатель может вообразить, что перед ним правда. Ахматову, сообщает Надежда Яковлевна, "тянуло в круг повыше" (483) [437]… В старости ей стало казаться, будто все в нее влюблены, "то есть вернулась болезнь ее молодости" (118) [110]; "Путала она все" (487) [440]; Ахматова, пытаясь судить об отношениях между Осипом Эмильевичем и Надеждой Яковлевной, "во многом, если не во всем, попадала впросак" (148–149) [137]; "я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой" (259) [238]. Оно и неудивительно – наверное, в беседах с такими людьми, жизнь свою положившими на осмысление действительности, исторической и современной, какими были друзья Ахматовой в разные годы: Е. Замятин, М. Булгаков, Б. Энгельгардт, Ю. Тынянов, Ю. Оксман – бедняжка Анна Андреевна постоянно попадала впросак; с мыслями Ахматова вообще была не в ладу: перечисляя то, "чего она лишилась, когда эпоха загнала реку в другое русло", Ахматова "забыла… про мысль" (386) [351].
Несмотря на отсутствие у Анны Ахматовой мысли, на ее хлопанье дверьми и расстроенное воображение, Надежда Яковлевна ее любит и чтит. Называет ее "перворазрядным поэтом" (353) [322]. Ценит способность к самоотверженной и преданной дружбе. В частности, например, в полуголодные ташкентские годы Ахматова всегда делилась с Надеждой Яковлевной хлебом или обедом (499) [452].
Однако хлеб-соль ешь, а правду режь.
Вот, например, если верить правдолюбивой Надежде Яковлевне, отношение Ахматовой к театру.
"Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми" (359) [327]; "внезапная тяга к подмосткам (речь идет о второй, оставшейся неоконченной, пьесе Ахматовой «Пролог». Л.Ч.) кажется мне данью старческой слабости" (408) [370]. Спасибо, что не слабоумия. "Внешний успех трогает меня, как прошлогодний снег, – сообщает о себе скромнейшая Надежда Яковлевна, – и меня огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась этой слабости" (359) [327].
Благо иностранцам, понимающим в лучшем случае только содержание, только прямой смысл слова, но не слышащим оттенков. Когда читаешь книгу Надежды Яковлевны на отечественном языке, каждую секунду чувствуешь себя оскорбленной. Вульгарность – родная стихия мемуаристки; а ведь ничто на свете так не оскорбляет, как вульгарность. Пересказывая чужую мысль, передавая чувство, Надежда Яковлевна переводит всё на какое-то странное наречие: я назвала бы его смесью высокомерного с хамским.
Каждый человек, даже крупный мыслитель или писатель может в чем-то весьма существенном быть и неправым, и заблуждающимся; на человеческом языке оно так и называется – неправота, заблуждение, – а на высокомерно-хамском – брехня, дурень, умник, не удосужился додумать, поленился подумать… Ахматова бывала на моих глазах и несправедливой, и неправой, и раздраженной, и гневной, и светски любезной, и сердечно приветливой, и насмешливой (истинный мастер едкой литературной шутки!), но ничто в мире не было от нее так далеко, как то, что Пушкиным в "Евгении Онегине" названо «vulgar» и чем переполнена через край книга Надежды Яковлевны. Эта безусловная даль – еще одна примета мнимости изобретенного Надеждой Яковлевной «мы»: вульгарной, в отличие от Н. Мандельштам, Ахматова не была никогда и ни в чем – ни в мыслях, ни в движениях, ни в поступках, ни в языке.





