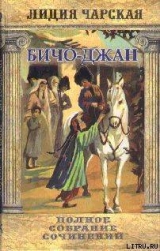
Текст книги "Том 35. Бичо-Джан Рассказы"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Рассказы
За веру, царя и отечество

Это все странно и неожиданно вышло… Жоржик, милый, славный, жизнерадостный Жоржик, получил внезапно предписание выступать со своим полком. Куда выступать – неизвестно. Только месяц назад его выпустили вместе с другими счастливцами, молоденькими офицерами из юнкерского училища. Только месяц назад они все, радостно взволнованные, удостоились слышать напутственное слово обожаемого Монарха, и счастливый, ликующий Жоржик, надев впервые блестящие, новенькие офицерские погоны, вспыхивая до ушей, небрежно козырял отдававшим ему честь солдатам. И вот выступление. Секретное предписание полку.
Еще как будто вчера только звучали драгоценные слова Государя, которых никто из них никогда не забудет: "Служите верой и правдой Мне и Родине". Только как будто вчера Государь поздравил их с производством, а сегодня уже в поход, прямо на театр военных действий и, по всей вероятности, в самое крошево стычек и битв. Неприятель… сражения… Может быть, отличия… может быть… Но черные мысли не посещают белокурой, под первый номер остриженной, головы Жоржика. Им нет места среди светлых, жизнерадостных грез, полных самых радужных надежд. Так давно накипела желчь против врагов дорогой Родины, так рвалась душа отплатить, наказать их за нечестное отношение к единокровному славянству; так неудержимо тянуло туда, вперед, постоять за правое дело, встать как один человек на защиту попираемой славянской чести.
Еще там, в училище, загорелось в связи с последними событиями пламя в груди. Как жадно следили все они за этими событиями, последовавшими за сараевским убийством! Как горели молодые умы! Как бились и трепетали молодые сердца! И вот, наконец, атмосфера разрядилась. Австрия представила ноту сербскому правительству, неприемлемую в некоторых ее пунктах свободным народом, уважающим свою национальную честь.
И началась война между Австрией и Сербией, а одновременно с нею – и блокада австрийцами беззащитного Белграда. Здесь же, в столице России, на улицах Петрограда пошли непрерывные манифестации в честь братьев-славян. Потом началась и мобилизация, так как Австрия в союзе с Германией, главной зачинщицей этой войны, старавшейся науськать австрийцев на маленькое сербское королевство, послала этим вызов нашей дорогой Родине, постоянной защитнице славянских православных народов. Само собою разумеется, что мы, видя боевые приготовления Австрии и, главным образом, ближайшей нашей соседки Германии, должны были в ожидании их нападения на нас приготовиться достойно встретить угрожающих нам врагов. И вот кичливый Вильгельм, не пожелавший тишины и мира, давным-давно завидовавший могуществу и силе России, первым бросил боевую перчатку русскому правительству. России оставалось с достоинством ее поднять.
И вслед за тем начался какой-то восторженный сумбур. Снова пошли непрерывные манифестации. Зазвучали торжественные звуки гимнов на улицах и под кровлями общественных учреждений, чередующиеся с громовыми, долго не смолкающими криками «ура». То здесь, то там стали произносить восторженные речи; особенно часто говорились они перед балконами посольств дружественных нам государств. Посланники выходили на балконы и раскланивались народу, отвечая речами на теплые приветствия толпы. На каждом шагу устраивали овации встречным офицерам. Останавливали их экипажи, автомобили и извозщичьи скромные пролетки, подхватывали сидящих в них офицеров на руки и качали их под дружное оглушительное «ура». Всюду теперь была сутолока, суматоха. В магазинах офицерских и солдатских вещей торговля в эти дни шла особенно бойко. Еще более бойко и ретиво торговали газетчики. Выходили то и дело новые выпуски газет, несущие свежие известия. Поговаривали о втором враге России, Австрии, которая следом за Германией должна была вот-вот, со дня на день, объявить нам войну. Говорили о дружественном соглашении трех стран: России, Англии и Франции – и опять звучал, не смолкая от зари до зари, знакомый и дорогой каждому русскому сердцу гимн "Боже, Царя храни", чередующийся с громким, подолгу не смолкающим "ура".
* * *
Семья Жоржика невелика. Мать, величавая, спокойная, всегда грустная и задумчивая, всегда погруженная в печальные мысли о своем горе. Она вдова героя, павшего на поле брани в последнюю русско-японскую войну. С ними еще живут две тетки – родные сестры покойного отца; затем Жоржик, голубоглазый, тоненький, совсем еще юный и хрупкий по виду, но с упорным профилем и энергичной упрямой складкой у рта, унаследованными им от отца, и Леля, вечно ликующая, радостная, смеющаяся четырнадцатилетняя девчурка, «красное солнышко» семьи.
При первом же известии о войне в семье Кубанских, как и во многих других русских семьях, все перевернулось вверх дном. Забывались часы обедов и ужинов, ежечасно покупались экстренные добавления всевозможных газет. Нанимали таксомотор и ездили смотреть на манифестации всей семьею. Мать по-прежнему была тиха и печальна, еще глубже замкнулась в своем горе, особенно ярко выступившем в ее памяти в дни приготовления к новой войне; тетки, поминутно охающие, испуганные и взволнованные страхом перед боевою грозою, и, наконец, Лелечка, негодующая, гневная, вся так и искрящаяся молодым задором.
– Германия – войну нам? Вильгельм на нас? Пруссаки осмелились? Да ведь это… это… – и, не находя слов, Лелечка топала ногами, сверкала глазками и разбила, в конце концов, алебастровую статуэтку Вильгельма, а следом за нею уничтожила и открытку с изображенным на ней Францем – Иосифом, императором австрийским, и до хрипоты кричала вместе с манифестантами «ура» и «живио» перед сербским посольством.
Относительно Жоржика, которого она, кстати сказать, боготворила с детства, Лелечка была совершенно спокойна. Выпущенный в гвардию, Жоржик никак не мог быть взятым сразу на театр военных действий. По слухам, гвардия пока что оставалась в Петрограде. Правда, на долю Жоржика выпала тьма работы по приему и сдаче запасных, бесконечное сиденье над записями в канцелярии воинского начальника, и только поздно вечером, и то редко, Лелечке удавалось мельком повидать брата, когда тот, полуживой от усталости и голода, приезжал домой перекусить и отдохнуть немного, чтобы снова с рассветом мчаться туда, где лихорадочно кипела работа и люди не спали над записями возвращающихся из запаса в действующую армию запасных солдат целую долгую ночь. Но все же Лелечку бодрило и радовало сознание, что Жоржик здесь, около нее, дома, что он жив, здоров, вне всякой опасности и находится под родной кровлей.
И Лелечка засыпала спокойная за своего любимца-брата в эти ночи.
Лелечка воспитывалась на казенный счет в институте как дочь героя, павшего на войне. Отца своего она помнила прекрасно. Ей было уже около пяти лет, когда она его потеряла. Никогда не забудет, она, Лелечка, того ужасного дня, когда ее мать, вернувшись однажды из главного штаба, куда ездила ежедневно за справками об отце с самого первого дня войны и его отъезда на Дальний Восток, вошла в гостиную с белым как мел лицом. В гостиной сидели тогда две тетки – тетя Юля и тетя Зина; маленький Жоржик, которому тогда было всего девять лет, и она, крошка Лелечка. Мама вошла и, прошептав беззвучно: "Молитесь за папу, дети, его уже нет в живых", – без чувств грохнулась на пол. Лелечка смутно помнит, что было потом. Тетки Юля и Зина, поминутно впадая в слезы, хлопотали около матери. Прислуга бегала и суетилась с нашатырным спиртом и водою. Сама же крошка Лелечка, забившись куда-то в угол, повторяла, плача больше от страха:
– Папочка! Папочка! Я хочу папочку!
И тогда-то Жоржик, большеглазый, хрупкий, как девочка, белокурый Жоржик, подошел к сестренке, положил ей на плечи свои худенькие ручки и, заставив поднять малютку залитое слезами лицо, произнес строго и серьезно, тоном вполне взрослого человека:
– Перестань плакать сейчас же, слышишь? Папочку жалко, а только и мамочку пожалеть надо. Видишь, какое с нею случилось. А если кричать и плакать будешь, то и она умрет.
Что-то было такое в тоне и голосе этого девятилетнего малютки, от чего мигом высохли слезы Лелечки, и она доверчиво прижалась головкой к плечу брата. С этого самого дня и началась между малютками самая нежная, самая трогательная дружба, окрепшая с годами. В доме же со смертью отца, пошла совсем новая жизнь. Мать как будто закаменела в своем горе и не пролила ни одной слезинки по дорогому усопшему. Только строже и замкнутее стало ее бледное, похожее теперь на мраморное, с застывшими чертами, лицо. И тетки притихли, нося теперь в сердцах постоянную горечь потери. Затаил в себе что-то с этого дня и маленький Жоржик. Он стал просить взять его из Анненской школы, где учился в младшем классе, и перевести в корпус. Теперь Жоржик бредил боями, стычками и маршами, распевал боевые песни и мечтал о войне. Забавный, остриженный наголо, со своими корпусными любимыми кадетскими выражениями и словечками, с бесконечными рассказами о том, как они «разыграли» нелюбимого преподавателя или как имели счастье лицезреть обожаемого Государя и заслужить в Его приезд Царское спасибо, Жоржик проводил теперь с сестрою только редкие часы досуга. Но его рассказы о корпусной жизни, о товарищах-кадетах и успехах ловились на лету жадными ушами Лелечки. И кадет-братишка представлялся девочке каким-то высшим, необыкновенным существом. Потом и Лелечку отдали в закрытое учебное заведение. Каждый праздник можно было наблюдать марширующего по направлению института Жоржика, спешившего на прием к сестре. И опять шла бесконечно милая болтовня между ними вплоть до самого звонка, возвещавшего о прекращении воскресного свидания с родными, и брат с сестрою с грустью расставались, обещая встретиться снова в первый же праздничный день. Дети подрастали, и с каждым годом крепла их трогательная, задушевная дружба. Жоржик прекрасно кончил свое образование в корпусе и поступил в юнкерское училище, ни на один день не забывая своей дружбы с сестрой.
* * *
– Завтра с восходом солнца мы выступаем!
Казалось бы, молния, внезапно упавшая с неба, не могла сильнее испугать и ошеломить четырех сидевших за чайным столом женщин, нежели это внезапное известие.
А неожиданно появившийся на пороге комнаты Жоржик весь так и сиял молодым радостным оживлением. Сияли голубые Жоржикины глаза, сияла светлая улыбка, сияли как будто и коротко остриженные волосы. Бросив на стул фуражку, он бодрыми уверенными шагами подошел к сидевшей у самовара матери:
– Благословите, мамочка! Завтра выступаем в поход.
– Но ведь гвардия…
– Вся гвардия как высочайшей милости просила Государя Императора двинуть ее в первую голову, чтобы дать нам возможность послужить Царю и Родине.
– Куда… вас отправляют?
– Неизвестно. Решено даже не опубликовывать в газетах маршрутов и расположения войск. Слишком много было несчастий в последнюю японскую войну благодаря доставлению мельчайших сведений публике о ходе военных действий. Теперь правительство решило поступать иначе и не оповещать население о событиях. Так будет лучше. Об убитых и раненых своевременно опубликуют в газетах. Можно будет узнавать о них и в главном штабе… Да все это мелочи по сравнению с тем взрывом патриотического восторга, который наблюдается нынче в народе, и сейчас у нас в Петрограде Бог знает что делается! Манифестация за манифестацией. «Ура» и "Боже, Царя храни" то и дело сменяются одно другим. К сербскому посольству по три раза в сутки ходят, кричат «живио»! Посланник выходил благодарить. Офицеров качали на всех перекрестках. Мы с Неверовым на моторе ехали; так остановили, сняли с мотора. Хотели мы было убежать от незаслуженной чести – куда там! Минут десять качали, подбрасывали. И лица у них всех такие праздничные, счастливые, хоть сейчас занести любому художнику на полотно. Самого председателя Думы в толпе заметили у посольства; наравне с простыми манифестантами «ура» кричал и пел гимн. А Белград-то все еще держится. Такие молодчинищи, эти сербы! Герои! Богатыри! Ну, да теперь скоро конец их муке. Идем на помощь. Завтра будет опубликован один манифест; а там, даст Бог, скоро выйдет и другой. Готовим подарки колбасникам. Всем по заслугам. Лопнуло терпенье; забурлила славянская кровь. Поздравляю всех вас с войною!
И Жоржик в избытке переполнявших его сердце чувств заключил в объятия сначала мать, потом перецеловал обеих теток и кинулся с протянутыми руками к сестре.
И тут случилось что-то, чего никак не ожидали ни мать, находившаяся в своем обычном состоянии замкнутого спокойствия (чуть только дрогнули ее губы да скорбно изломились брови на бледном лице при известии о выступлении в поход сына), ни тетки, растерянными, налившимися слезами глазами глядевшие на их общего кумира. Да и сама Лелечка менее всего ожидала от себя того, что случилось сейчас. Без кровинки в лице, белая, как батистовый воротничок ее летней блузки, с огромными, расширившимися зрачками, с перекошенным судорогою страдания и испуга ртом, она рванулась к брату с диким, полным неописуемого отчаяния криком:
– На войну? Чтобы искалечили? Чтобы убили, как папочку? Не отдам, не пущу! Ни за что не пущу!.. Жоржик, милый мой, родной мой, братец любимый! – и она вся затрепетала, вся забилась, как слабая былинка, как веточка под натиском бури, в обхвативших ее руках брата, не слушая увещеваний, отталкивая теток, бросившихся к ней со спиртом, водою и утешениями, и продолжая кричать на весь дом отчаянным, страшным голосом: – Не пущу!.. Не отдам! Не могу!.. Не могу! О, Господи… Господи!..
Тетя Юлия поспешила к окнам и плотно закрыла их, чтобы соседи по даче (Кубанские проводили это лето в Ораниенбауме, в сорока верстах от Петрограда) не могли слышать воплей и плача девочки. Тетя Зина мочила Леле одеколоном виски и то и дело давала нюхать из маленького граненого флакончика спирт, и сам Жоржик бережно и братски нежно гладил горячие, как огонь, и мокрые от слез щеки сестры и тихо, вполголоса, говорил что-то о своем долге перед Царем и Родиной и о своем ненасытном стремлении вложить свою скромную лепту в общее дело спасения Православного славянства и защиты чести дорогой родины.
Лелечка рыдала. Все – и славянство, и родина, и долг – казалось, отошло, вылетело из ее души и мыслей в эти минуты отчаянного страха за жизнь Жоржика. Думалось только про свое, личное, кровное горе; думалось и переживалось с такою невыразимой мукой, с какой еще ничего не переживалось до сих пор бедною Лелечкой. Жоржика берут. Он выступает с зарею… Пройдет десяток– другой дней, и может быть… ужас… ужас!..
Все громче, все горше делались слезы. Отчаяние опьяняло девочку, свинцовой тяжестью ложилось ей в душу. Все тускнело, все исчезало и казалось маленьким и ничтожным в сравнении с уходом Жоржа на войну.
– Не могу, не хочу!.. Не пущу его!.. Не могу! – слышались все те же исступленные вопли.
Тогда поднялась с кресла величавая, спокойная фигура матери. С тихим шелестом черного платья (иного цвета она не носила со дня смерти мужа) подошла она к дочери, и ее худые бледные руки осторожно, с ласковым усилием, стали отрывать от плеча Жоржика все залитое слезами Лелино лицо.
– Тише, Елена, тише, – зазвучал своими металлическими нотками всегда тихий, ровный, ласковый голос, – перестань, дитя. Что значат эти горести, эти переживанья, эти частные наши семейные печали перед тем, что должна переживать наша Родина, наша общая великая русская семья? Перестань же, слышишь, Леля!
И при этом ее вспыхнувшие решительным огнем глаза напряженным острым взглядом пронизывали дочь. О, как хотелось ей, испытавшей и перенесшей такое огромное горе, страдалице, влить часть своих сил, всыпать крупицу своей воли в душу этого так исступленно рыдающего ребенка! Но Лелечка была неутешна. Судорожный комок сжимал ей горло; слезы по-прежнему неудержимым потоком лились у нее из глаз. Глухие отчаянные рыдания становились с каждой минутой все безутешнее. Тогда мать решительно и властно обвила рукою плечи девочки, насильно заставила ее подняться со стула и повела в спальню. Здесь, в белой уютной комнатке, где все дышало миром, спокойствием, Гликерия Павловна уложила рыдающую Лелю в постель. Мягкий свет лампады, спущенные шторы, приятный полусвет и тихий шепот деревьев под окном Лелечкиной комнаты – все это благотворно повлияло на настроение девочки. А ласковые и энергичные руки матери, хлопочущие подле нее, невольно давали Леле сознание любви к ней ее ненаглядной заботливой мамочки, защиты ее и поддержки. Все тише и тише звучали теперь всхлипывания девочки, и вскоре наплакавшаяся до полной потери сил Лелечка беспомощно заснула, лишь время от времени вздрагивая во сне всем телом. Гликерия Павловна, бросив последний взгляд на уснувшую дочурку, отошла в угол к иконе, освещенной тихим мерцанием лампады. Бесшумно опустилась она на колени перед нею. Вся фигура женщины, за минуту до этого величавая и гордая в своем замкнутом горе, теперь была вся смирение, вся – беспредельная покорность судьбе. Глаза, обращенные к лику Спасителя, были сухи, а крепко сжатые губы молили беззвучно, без слов вместе с глазами, вместе со всем ее глубоко потрясенным существом матери.
Когда десятью минутами позже Гликерия Павловна вышла в столовую, где тетки наперебой угощали чаем и ужином (может быть, последним!) их кумира Жоржика, ее лицо снова казалось тою же мраморною непроницаемой маской, каким его знали все последние десять лет. В нем было то же величавое спокойствие, та же молчаливая покорность перед неизбежным и та же тихая уверенность в великой справедливости Божьего Промысла. Вероятно, в эти минуты в глазах матери было что-то особенное, что заставило Жоржика сразу подняться с места и без всякого зова подойти к ней, обнять ее высокий худой стан и пройти так, обнявшись, вместе с нею в ее комнату. Что говорилось между ними, чем напутствовала Гликерия Павловна перед походом любимого сына – так и осталось навсегда тайной для остальных членов семьи. И только по горящим глазам юного офицерика, подернутым влагою юношеских непролитых слез, да еще по более чем когда-либо бледному лицу Гликерии Павловны чувствовалось, что значила для матери и сына эта их прощальная, перед походом Жоржика, беседа.
* * *
Утром раньше всех поднялась в доме снаряжать молодого барина Лукерья.
И у нее было горе, не меньшее, чем у господ: забрали ее мужа Федора, запасного солдата, дворника того дома, где снимала в Петрограде квартиру Гликерия Павловна Кубанская Лукерья только весной вышла замуж за Федора, молодого вдовца и запасного солдата, у которого в деревне остались старики родители да дети, мал-мала меньше, от первой жены. Думали прежде, не призовут солдат его срока, а вышло иначе. Призывали и их. С замкнутым горем в сердце провожала мужа Лукерья, не проронив ни одной слезы.
Федор, приехавший еще вчера вечером сюда из города на дачу проститься с женою, должен был сегодня же явиться на сборный пункт, туда, куда его пошлют. У начальства все уже было распределено, расписано заранее, оставалось только выполнить предписание, данное свыше. Сейчас, в ожидании дачного поезда, Федор сидел на кухне в углу под образами, у стола, на котором Лукерья готовила обеды и завтраки на семьи Кубанских, пил с блюдечка кофе вприкуску, изредка поглядывая на жену, с особенным рвением хлопотавшую нынче на кухне, и бросал ей время от времени короткие фразы.
– Ты… того… Луша, не сумлевайся… Господь милостив, вернусь, может, с войны здрав и невредим, когда замирение выйдет. И опять на прежнее место поступлю, старший-то сказывал, что за мною место оставят, потому как за Царя и Родину службу буду на войне нести… Так ты не приходи в отчаянность, говорю, прежде времени, Луша.
– У немца-то, сказывают, пушки-то одним ударом скрозь вон какую домину пробивают, а ружейные пули-то, слышала я, в середке как ни на есть страшным ядом отравлены. И с ероплантов ихних горазды они очень эти бонбы-то бросать.
При этих словах глаза Луши испуганно расширились, а губы побелели.
– Никто, как Господь… А Царю-Отечеству служить надо. Про пули же с ядом, думается мне, брешут больше, – солидно утешал жену Федор, – да и так, к слову сказать, что пули? Наши-то больше на штык надеются. К тому же, опять возьми, что жидок немец-то, щей да каши не признает; твоему бабьему разуму оно, конешно, непостижимо, что войны касательно, а по-военному, значит, так выходит: он нас пулей, а мы ево штыком, на то мы и русские.
– Да ведь пуля-то, Федя, как полетит-то… Иной раз и сердце пробьет навылет… Мать Пресвятая Богородица, как помыслю об этом, так ноги и подкашиваются!
И Лукерья, неожиданно бросив самоварную трубу на пол, метнулась к мужу, обвила руками его голову, да так и застыла около него, сотрясаясь всем телом от беззвучных рыданий. Минуту длилось молчание. Что-то тихо шептали между всхлипываниями губы Лукерьи, о чем-то просили, чего-то недоговаривали. И слезы градом катились из сухих до этой минуты, воспаленных глаз.
Прозвучал звонок из комнат, и, наскоро утирая глаза передником, бросилась на господский призыв Лукерья. Тяжелый вздох вырвался из груди Федора. Скупая слеза скатилась по загорелой щеке и утонула, расплылась в курчавой рыжей бородке.
А часом позднее, задавив рыданья, с серым, безжизненным лицом, Лукерья шагала об руку с мужем по направлению дачного вокзала. Там было уже собрано немало других запасных солдат, живущих в окрестностях Ораниенбаума и подлежащих призыву. Их провожали родители, жены, дети, братья, сестры, знакомые и друзья. Запасные солдатики бодро утешали баб, просили их не тосковать по ним, уходящим. Женщины по мере сил удерживались от причитаний и слез. Все отлично сознавали всю необходимость принести жертву дорогой Родине. Плакали только несмышленые дети, не понимавшие всей важности момента и никак не желавшие отпускать своих тятек на войну. А в холостых кружках уже налаживалась песня. Где-то вспыхнуло «ура»… Оно было дружно подхвачено десятками голосов и раскатилось в одно мгновение широкою, могучею волною. Зазвучали первые, отрадные каждому русскому сердцу родные звуки народного гимна. И снова «ура» – мощное, сильное, покрывшее и слезы, и последний грустный момент прощанья.
С этим же поездом всей семьей провожали и Жоржика. Плакали тетки, по-прежнему исступленно рыдала Лелечка. И только мать с застывшим лицом, с маской кажущегося спокойствия на нем, но с растерзанным сердцем, спокойно, без слез, благословила и обняла своего уезжавшего любимца.
* * *
– Не понимаю, решительно не понимаю твоего спокойствия! Ведь и твоего папу послали на войну. Ведь и он пошел рисковать своим здоровьем, жизнью, а ты точно каменная! Право же, Ира, порою мне кажется, что ты холодна, как статуя, и совсем не умеешь чувствовать, как мы все, как я, например, – говорит нервно и раздражительно Лелечка своей закадычной подруге Ирине Крайской, с которой она едет нынче вместе с дачи в город.
Крайские – соседи по даче Кубанских, и за все лето Лелечка и Ира, сверстницы годами, не разлучаются друг с другом ни на один день. Ирин отец, капитан одного из петроградских полков, тоже выступил на днях во главе своей роты на театр военных действий. Само собой разумеется, что Ире было мучительно тяжело расставаться с любимым отцом, и упрек Лелечки показался ей не только бестактным, но и жестоким. Черные глубокие глаза Иры взглянули на Лелечку, на ее заплаканное лицо, на ее опухшие веки. И с этого юного, так сильно осунувшегося за последнее время, лица на Иру смотрело безысходное отчаяние, горе и злоба. Не слушая ответа подруги, Лелечка заговорила громко и возбужденно.
– Проклятые немцы! Что они наделали?! Сколько осиротят они теперь семейств, сколько погубят молодых сил, сколько перебьют народа?! И все это происходит по милости этого безумного Вильгельма, как пишут в газетах, их императора, вообразившего, что он второй Наполеон, прославленный гений, которому будто бы суждено покорить всю Европу. Боже мой, как подумаю я о том, что десятки и сотни тысяч людей пойдут по одному капризу этого безумца на верную смерть, на гибель, что, может быть, и… и… наш Жоржик… наш дорогой Жоржик!..
Она не договорила: слезы сдавили ей горло и рвались наружу.
Купе вагона того поезда, в котором ехали в город обе девочки, было переполнено людьми. Но Лелечка была далека от мысли даже стеснять себя перед всей этой незнакомой публикой. Разве горе ее не есть горе ее Родины? Разве осталась хотя бы одна семья во всей громадной России, откуда бы не был взят на войну отец, сын, муж, брат, добрый знакомый, наконец, добрый приятель? Значит, ее поймут здесь все и не осудят нисколько. И она тихо, не слушая увещеваний Иры, плакала, уткнувшись лицом в обивку дивана. Девочки ехали в Петроград нынче, с тем чтобы в часовне у Спасителя отслужить молебен о благополучном возвращении с войны одна – отца, другая – брата. Много таких молебнов о здравии и сохранении жизни дорогих воинов служилось теперь, в это тревожное время, в маленьком Петровском домике на Петроградской стороне. Девочки между собой решили совершить пешком весь путь от вокзала до часовни Спасителя. С едва ли не часовым опозданием прибыл в Петроград дачный поезд из Ораниенбаума. Леля и Ира вышли из вагона, подождали Лукерью, сопровождавшую их в город и ехавшую в другом отделении, в третьем классе, и все трое быстро зашагали вперед.
Яркий солнечный день, безоблачное небо, потоки июльского солнца и исключительное оживление на улицах давали полное впечатление большого праздника. То здесь, то там в кучках собравшегося народа вспыхивало «ура», подхватываемое соседними группами. Слышались крики: "Да здравствует Россия! Да здравствует Сербия! Долой Австрию! Долой немцев!" Целая туча, целая лавина народа заполняла Невский. Российские и сербские флаги колыхались над десятитысячной толпой.
– Куда идете? К сербскому посольству? – осведомилась Лелечка у молоденького безусого студента, несшего флаг с патриотической надписью.
– Были уже там. Сейчас к Зимнему дворцу направляемся. Говорят, Государь там. Может быть, выйдет показаться народу.
– Неужели правда? Ира, ты слышишь? Государь…
В заплаканных глазах Лелечки впервые с часа отъезда Жоржика вспыхнули радостные огни.
– Пойдем туда, хочешь?
– Какие еще могут быть тут вопросы. Идем, конечно!
– Не задавили бы, барышни… И ведь сколько народищу навалило – страсть! – заикнулась было Лукерья, но ее и не слушают даже.
– Туда, туда! На площадь! Заодно с толпой, заодно со всем Петроградом, со всей Родиной, воплотившейся в данный момент в его лице!
И обе девочки, пристроившись сбоку шествия, вместе с тысячами людей зашагали по направлению к Дворцовой площади, ко дворцу. "Боже, Царя храни!" – снова вспыхивало здесь и там и разрасталось в один миг громогласной волною, перекидываясь с одного конца шествия на другой. Гул голосов, поющих всем знакомые, глубоко прочувствованные строфы гимна, разносился далеко-далеко по улицам столицы, по всем закоулкам большого города. У всех обывателей его нынче были сияющие, не поддающиеся описанию лица, обнаженные головы, влажные глаза. А на площади перед Зимним дворцом скопилось целое море народа. Все ее пространство было залито толпою. На крышах домов, на балконах, на окнах – всюду были люди. Высоко уходила в голубое пространство Александровская колонна перед дворцом. Синее небо, позлащенное июльским солнцем, точно улыбалось собравшемуся здесь народу, точно благословляло его. Казалось золотым желтое поле императорского штандарта с фигурой Победоносца, изображенной на нем. А там, под ним, вокруг него, у пьедестала колонны было разлито по всей площади море голов, голов с сияющими лицами, с влажными глазами, обращенными в темнеющее углубление балкона, откуда мог появиться Тот, кого так восторженно и радостно ждал собравшийся здесь народ. Но вот мерно и гулко ударил у Исаакия большой громогласный колокол. За первым последовали второй и третий удары. И полились могучие звуки перезвона на многих колокольнях петроградских церквей. Ахнула, прогремела в Петропавловской крепости пушка; за нею вторая, третья… И в тот же миг дрогнула вся площадь от неудержимого, громового, бесконечно-ликующего, безгранично восторженного крика. Лавина-толпа дрогнула, подалась вперед, шарахнулась вправо, влево. Затихли выстрелы, и из широко раскрытых дверей дворцового балкона показалась хорошо знакомая и бесконечно дорогая каждому русскому сердцу фигура Государя. За ним следовала Государыня Императрица Александра Феодоровна. Вся площадь, затихшая было перед выходом на балкон Императорской четы, теперь разразилась снова не поддающимся описанию буйным, стихийным криком, сплошным гулом безудержного восторга, говорившего о преданности и любви к Царю-Отцу его сына-народа. Казалось, этот ликующий стихийный крик огласил весь город. И вот под эти звуки, под возбужденно-радостное многоголосное громовое «ура» все находившиеся на площади люди опустились на колени.
Государь склонил голову. Торжественным и взволнованным казался Он в эти минуты. Какие слова произносили Его губы, никто из присутствующих не знал, не слышал. Ликующие крики восторженной многотысячной толпы заглушали все. Но и в самом молчании этом между обожаемым монархом и коленопреклоненным народом шла, казалось, немая беседа, немой договор, который лучше всяких слов служил высшим доказательством их взаимной любви друг к другу, Державного Русского Царя и его славного народа.
И долго еще не стихали приветственные крики толпы. Долго не расходился народ с Дворцовой площади. Сияющими глазами смотрели люди в глаза друг другу. Незнакомые казались друзьями, чужие – приятелями. Пожимали друг другу руки, поздравляли один другого, как родные братья и сестры. Падали, как искры, в толпу взволнованные, зажигательные фразы об уверенности в победе, о скором возмездии немцам за их предательскую выходку против нас.
Лелечка, Ира и Лукерья с трудом вырвались из толпы. Их глаза были налиты слезами, и радостным возбуждением дрожали взволнованные голоса. Жоржик, его выступление, отправление на войну Федора, прощание Иры Крайской с ее отцом перед походом, муки страха перед возможными ужасами, свое личное горе и тоска по ушедшим – все стушевалось и отступило далеко-далеко в этот памятный час и казалось мелким и ничтожным перед восторгом слияния Царя с его народом, заставлявшим твердо верить в победу и успех.
И вернувшись к себе домой на дачу к обеду, Лелечка уже без острого приступа отчаяния, без рыданий и слез говорила об ушедшем на войну любимом брате. Она поняла, что иначе он не мог, да и не должен был поступить. И искренно ценила она теперь его молодой смелый порыв, увлекший юношу сражаться с лютыми врагами Царя и Родины.






