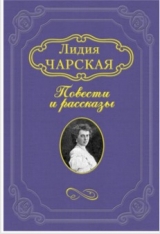
Текст книги "Нюрочка"
Автор книги: Лидия Чарская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Лидия Чарская
Нюрочка
I
Крошечная квартирка вахмистра Люлюева – «эскадронного папаши», как его называют бравые кавалеристы Г-аго полка – прибрана по-праздничному. Блестят полы, блестят дверные ручки и оконные задвижки, блестит доблестное лицо Суворова, висящее испокон веков в сомнительной рамке красного дерева. Очевидно, мокрая тряпка, гулявшая по мебели, не миновала характерного, выразительного лица героя. Словом, все в квартирке эскадронного папаши выглядит по-праздничному. Даже две канарейки и бесхвостый чижик, прыгающие в клетке, повешенной между рамой и тюлевой занавеской, чирикают как-то особенно – на праздничный лад.
Но торжественнее всех – и полов, и чехлов, и канареек, и мебели – выглядит молоденькая дочь вахмистра, восемнадцатилетняя Нюрочка.
С утра затянутая в красный шелковый лиф с белыми горошинками, с высоко взбитой белокурой челкой, Нюрочка очень авантажна, вся беленькая и свеженькая, как только что испеченная булочка. Глаза у неё синие-синие, как «Анютины глазки», а верхняя её губка очень высоко приподнята, что придает всему личику Нюрочки частью задорное, частью наивное выражение.
Нюрочка счастлива по двум обстоятельствам. Первое и едва ли не главнейшее – это сегодняшний эскадронный праздник, начавшийся службой в полковой церкви со следовавшим затем парадом на плацу, завтраком в манеже для нижних чинов и вечеринкой в квартире вахмистра Люлюева – Нюрочкиного папаши… К этой вечеринке в квартирке Люлюевых готовились исподволь, чуть ли не целую неделю: мыли, стирали, чистили и скоблили с утра до ночи.
Сама вахмистерша Люлюева, «эскадронная мамаша», дебелая сорокалетняя женщина, с чуть подкрашенными самым упрощенным способом – при посредстве уголька – глазами, ходит озабоченная и растерянная, обдумывая, чем бы угостить почетных гостей, состоящих из холостой молодежи своего и чужих эскадронов. В её голове поминутно проносятся картины в виде жареных индеек с каштанами, фаршированных килек, маринованных грибов и прочего и прочего. Она поминутно накидывается на Нюрочку, которая кажется ей вполне равнодушной к её тревоге.
Но Нюрочка далеко не равнодушна к первому событию, как не равнодушна и ко второму, волнующему все фибры её девственного сердечка.
Нюрочка – невеста.
Невестой Нюрочка числится уже две недели, но официальная помолвка должна произойти во время вечеринки эскадронного праздника, как и полагается «полковой барышне», какой самым искренним образом считает себя Нюрочка.
К тому же жених Нюрочкй не какой-нибудь «штафирка» (штафирок Нюрочка от души презирает), а из фельдшеров их же полка, что не мало способствует удовольствию Нюрочки.
Правда, Нюрочке представлялось более выгодная и почетная партия в лице будущего дьякона соседнего села, но Нюрочка, как вполне военная барышня, отказала дьякону-семинаристу и дала слово Федору Архиповичу Кукушкину, также вполне военному человеку из фельдшеров.
Ради такого двойного и торжества, Нюрочка и сшила к сегодняшнему дню красную кофточку с белыми горошинками, над строчкой мелких складочек которой просидела более двух суток. Кофточка оказалась немножко узка в талии, и Нюрочка надела ее с утра, чтобы «привыкнуть» к ней. С утра же надушилась Нюрочка дешевеньким пачули: ей все чудился и запах жареной индейки, специфической струей врывавшийся из кухни в комнату.
Подготовленная, во всеоружии своего обаяния, она теперь терпеливо ждала вечера.
II
К семи часам начали сходиться гости. Менее почетные и «свои» явились раньше.
Пришел Федя, жених Нюрочки, расторопный малый в нитяных перчатках, завитый бараном.
Федя развязно подлетел к Нюрочке, проделал перед ней какой-то неопределенный пируэт, нечто среднее между лезгинкой и пляской диких, и поднес ей фунт тянучек в коробочке от Абрикосова.
Нюрочка вспыхнула, потом присела и, снова вспыхнув, произнесла:
– Мерси-с!
Федя снова изобразил ногами нечто среднее между лезгинкой и пляской диких и, мучительно потея, отошел в сторонку, распространяя вокруг себя слабый, но назойливый запах карболки.
Пришла старшая дочь Люлюевых с мужем-лавочником, черноглазая Серафима, с выпяченным животом (она ожидала прибавления семейства). На ней было надето бывшее подвенечное платье, расставленное по швам, и голубая стеклярусная наколка.
Нюрочка увидела Серафиму и так и заволновалась.
– Ах, ужас! У нас офицеры будут! А она… Ты бы хоть накидку набросила, – и она испуганными глазами указывала Серафиме на её живот.
– А и дура же ты, Нюрка! – возмутилась та. – Скажите, афронт какой! Я ведь замужем. Это ежели не в браке, так действительно… А при законном супруге – так даже вроде почета!
– Это верно-с! – подхватил «законный супруг» – кургузый человечек с самодовольной усмешкой, – вы изволили слыхать, сестрица, как в писании сказано! Бесплодие в былое время-с за позор считалось. Сам Господь бесплодную смоковницу проклял-с… И обычай такой был-с, чтобы, значит, шапку сымать при тех дамах-с, которые ежели с добавлением. Да-с. Для почета-с.
– Хорош почет! – презрительно усмехнулась Нюрочка и птичкой порхнула навстречу двум рыженьким, веснушчатым девушкам, дочерям причетника.
Одна из причетниц была в розовом, другая в голубом платье.
Нюрочка с тревогой оглянула их с головы до ног и разом успокоилась: причетницы были одеты не по моде, тогда как её модная юбка цвета давленой земляники, по восемь гривен аршин, и ярко красная кофточка с белыми горошинками были по последней картинке, взятой из приложений к журналу «Нива».
Вслед за молоденькими причетницами явились два писаря из соседнего полка пехотинцев. Один – при часах, но без цепочки, другой – при цепочке, но без часов; один – скромный, кашляющий в кулак, другой – заядлый сердцеед и отличный дирижер. Последний был обладатель не совсем благозвучной фамилии Шлепкина и имел розу в петличке.
При виде Нюрочки, Шлепкин с истинно писарской любезностью сделал «глиссе» по натертому воском полу и, подлетев к молодой хозяйке, презентовал ей розу, предупредительно сорванную с груди, продекламировав при этом:
«Вы прекрасны, точно роза,
Только разница одна:
Роза вянет от мороза,
Ваша прелесть… никогда»!
Кончил он, особенно выразительно пустив «петушка» на высокой ноте.
Нюрочка присела декламатору, как присела пять минут до того Феде, и сказала, как и Феде:
– Мерси-с.
А гостей все прибавлялось и прибавлялось.
Вскоре в крошечной квартирке стало душно, как в бане. Потребовалось открыть форточки. Девицы сбились в кучку и, разглядывая друг друга, грызли карамельки.
Федя и дирижер Шлепкин изо всех сил старались занять их. Федя закрывал лицо обеими руками и мычал басом, как мычит корова, отбившаяся от стада в дурную погоду. Это изображало гром. Потом внезапно открывал лицо, придерживая, однако, обе руки у ушей на манер раздвижного занавеса и страшно вращал зрачками. Это означало блеск молнии.
Барышни хихикали. Барышням было весело. И Нюрочке было весело, потому что её Федя оказывался таким находчивым и остроумным.
Один Шлепкин, обиженный предпочтением Феде, не разделял общего удовольствия. Он в свою очередь отозвал в сторону сестриц-причетниц и глотал перед ними нож, опуская его незаметно за воротничок. И приговаривал при этом:
– Мы пехотинцы-с… Мы скромны-с… А вот по паркетной части-с нам нет равных-с… Не взыщите-с.
И кидал в сторону мычащего Феди уничтожающие взгляды.
Между тем дебелая мамаша Люлюева обносила всех наливкой и палила «для духу» монашек, расставленных по всем углам комнаты.
Офицеров ждали каждую минуту, и это ожидание наэлектризовывало и гостей и хозяев. Дамы смотрели на дверь и, напряженно улыбаясь, обмахивались платочками.
III
Они явились ровно в девять.
Впереди всех вошел бравый ротмистр Чернов с полуаршинными усами и добродушным лицом. За ним следовало около десятка молодежи своего и чужих эскадронов, в числе которых было три офицера, заставлявших сладостно трепетать не одно девичье сердце.
Эти трое были: штабс-ротмистр Турчин, черноволосый, черноглазый красавец, известный своим уменьем «докладывать» цыганские романсы и считавшийся в «Самарканде» своим человеком. Второй – адъютант Игнатович, с длинным породистым носом и искрящимися юмором глазами, влюблявшийся во всех женщин вообще и ни в кого в частности. И наконец, молоденький корнет Строевич, с пленительными усиками и с таким красноречивым блеском в глазах, немножко дерзких, немножко страстных который едва ли выдерживали даже замужние дамы.
Корнет Строевич симпатизировал Нюрочке, любезно заговаривал с ней при встречах и дразнил, называя ее своей невестой.
– Здорово, Кузьма Демьяныч! Здорово, братцы! – приветствовал «эскадронный» начальник своего любимого вахмистра и нижних чинов.
– Здравия желаем, ваше высокородие! – вырвалось стройным гулом из двух десятков солдатских глоток.
И тотчас же, словно по волшебству перед господами офицерами очутилась дебелая вахмистерша с подносом, на котором были расставлены бокалы с пенящимся в них шампанским.
– Не обессудьте на угощенье, – растягивала она, словно пела, своим сочным голосом, – не побрезгуйте выкушать за счастье жениха и невесты.
Произошло легкое смятение.
– Кто жених? Кто невеста? – послышались удивленные возгласы среди офицеров.
Тогда вахмистр Люлюев взял одной рукой руку Нюрочки, другой – руку Феди, вспотевшую, мокрую сквозь нитяную перчатку, и подвел их, красных и смущенных, к группе офицеров.
– А-а! – не то радостно, не то изумленно протянул Чернов. – Ну-с, совет да любовь! Выпьем за ваше счастье, Нюрочка!
И взяв два бокала с подноса, он передал их жениху и невесте, сам взял третий, чокнувшись с молодой четой, духом опустошил свой бокал, после чего, бросив краткое «можно» в сторону Феди, наклонился к Нюрочке и чмокнул ее в розовую щечку.
Нюрочка вспыхнула и потупилась.
И остальные офицеры пили за счастье будущих monsieur и madame Кукушкиных и с одобрительной улыбкой поглядывали на пылающую румянцем Нюрочку.
Один только корнет Строевич не пил шампанского и, пробравшись поближе к Нюрочке, говорил ей полушутливо, полустрого:
– Как же так? Как же так, Нюрочка? А еще моей невестой считалась! Ай-ай-ай, как нехорошо! Изменница вы коварная, вот что!
– А вы очень влюблены в жениха, Нюрочка? – прищурившись на хорошенькую дочку госпитального сторожа и покручивая свои шелковистые усы, спрашивал Турчин.
– Нюрочка, молчите! Ни слова о любви! – вскричал патетически Строевич, – ибо я ревнив, как Отелло! Вы не можете знать, конечно, кто был Отелло, Нюрочка, но верьте мне – он был страшно ревнив, и я…
– Не побрезгуйте, ваши благородия, хлеба-соли откушать… Чем Бог послал, – затянула снова своим певучим голосом мамаша Люлюева, и все двинулись к столам.
Офицеры с изысканной любезностью ухаживали за дочерьми и женами своих подчиненных, наполняя их рюмки и тарелки и усиленно угощая жеманившихся дам.
Мужской персонал «попроще» уселся за второй стол, где было поменьше изысканных закусок, за то побольше белых бутылок с заманчивыми этикетками «казенки».
Пили за государя, за государыню, за царскую семью, за «полкового», «эскадронного», за хозяина с хозяюшкой, за гостей и снова за молодых.
Кто-то из офицеров крикнул «горько». Крик подхватили. Вызвали Федю со второго стола и помолвленных заставили поцеловаться. И красная, как мак, Нюрочка целовалась с Федей к вящему удовольствию гостей.
От Феди пахло луком, так как он уже успел «вкусить» фаршированной селедки – неизменной спутницы «казенного нектара».
Впрочем, пили не одни мужчины. Пили и барышни, хихикая и жеманясь.
Серафима, около которой примостился полковой адъютант с искрящимися юмором глазами, пила, не разбирая, и водку, и наливку, и мадеру, и портер и только обмахивала кисейным платочком свое разгоревшееся лицо.
Её супруг, присоседившийся к эскадронному (он, как «вольный», менее стеснялся сидеть за офицерским столом), говорил, сильно упирая на «о».
– Мы, извольте видеть, ваше высокородие, торгуем помаленечку… То есть, опять-таки по какой части пустить… Наша статья особенная-с… И то сказать надо, так штобы это-с вполне можно на барыш завсегда-с надеяться… А опять-таки… значит…
– Что вы предпочитаете – вишневку или смородинную? – смотря своими искрящимися юмором глазами прямо в зрачки его жены, спрашивал адъютант.
– Вишневку! – тянула размякшим голосом та, довольная и своим соседом, и папашиной вечеринкой.
А Нюрочка алела, как роза. Около неё сидел Строевич и чистил для неё собственноручно кильку, при чем так выворачивал свои тонкие, гибкие, нежные пальцы, что они казались восхищенной Нюрочке не пальцами, а какими-то розовыми конфетами. И от пальцев-конфет пахло peau d’Espage, приятно щекотавшим обоняние Нюрочки.
«А от Феди-то как луком несло!» – почему-то внезапно вспомнила Нюрочка, и что-то кольнуло ее в сильно бьющееся сердечко.
Между тем Строевич очистил кильку, и налив вина себе и Нюрочке, шепнул значительно:
– Я пью за здоровье того, кто любит кого.
Бросив обжигающий взор на Нюрочку, он духом осушил бокал.
В туже минуту послышались звуки аристона. Нижний чин Петушков, исполняющий денщицкие обязанности при Кузьме Демьяныче, энергично завертел ручку аристона, выигрывавшего пресловутый мотив «Стрелочка».
Молодежь встрепенулась и повскакала со своих мест. В одно мгновение тяжелые столы были сдвинуты к стенке, стулья также, и таким образом получилось место для танцев.
«Три девицы шли гулять, шли гулять, шли гулять», – пронзительно высвистывал аристон при участии Петушкова. Офицеры, а вслед за ними фельдшеры и писари (по желанию начальства) приглашали девиц. Девицы жеманились, поводили боками, но все-таки шли становиться в пары, на кадриль, предупреждая кавалеров «дирижировать по-русски».
Первую фигуру начал дирижировать Строевич, танцевавший с Нюрочкой, но на второй фигуре спутался, перейдя на французский язык, и передал дирижерство писарю-щеголю, обладателю не совсем гармоничной фамилии – Шлепкин.
И Шлепкин оказался на высоте своего призвания: он топал ногами, выворачивал руки барышням, делая balancé, и так энергично кружил свою даму, что с успехом можно было сосчитать у той количество надетых юбок. При этом он визгливо выкрикивал тенорком:
– Кавалеры, наступай! Кавалеры, в бок! Кавалеры, фертом!. Ассаже силь-ву-плюй. Барышни, кружить… Барышни, цепочку… Барышни, в пристяжку!
И опять ассаже, фертом, силь-ву-плюй, в пристяжку!
– Молодчина Шлепкин! Жарь вовсю! – подбадривает, «эскадронный», танцевавший визави с самой мамашей Люлюевой, слегка посапывавшей от удовольствия и усталости.
И окончательно озверевший Шлепкии орал еще исступленнее:
– Барышни, вперед! Барышни, в приступку! Барышни, винегрет. Плисе веером. В закрутку силь-ву-плюй!
Федя танцевал с одной из рыженьких причетниц и бросал сияющие взгляды на Нюрочку. Он гордился вниманием офицера к его невесте и старался в тоже время всеми силами обратить на себя её внимание. Для того он, когда Шлепкин, дирижировал: «кавалеры, вперед», подлетал к Нюрочке фертом и отлетал от неё в присядку задом, по направлению к своей даме – рыженькой причетнице, оберегавшей от него всеми силами свои пышные оборки.
«Стрелочек» сменился «Березой» при благосклонном участии того же Петушкова.
Шлепкин, охрипший после четвертой фигуры, изрекал теперь каким-то зловещим шепотом:
– Цепку… Цепку разорвать… Дам в бочонок. Кавалеры, запри… Кавалеры, разомкнись. Дамы, веночек… Дамы, корзинку… Ка-чай!
Несколько минут слышалось только усиленное топанье ног и бряцание шпор. Потом раздался визг, хохот. Дам, запертых в кружок кавалерами, придавили. Они приятно взвизгивали и не менее приятно смеялись.
Чье-то дыхание обожгло шейку Нюрочки.
– Леденчик мой! – послышался сладкий голос Феди, трепаного, красного, с замаслившимися глазами.
От Феди пахло по-прежнему луком, но к этому запаху присоединился еще спиртной, так как Федя усердно прикладывался к продукту казенного производства в антрактах между фигурами. И Нюрочке вдруг стало неприятно присутствие Феди, и запах водки, и сладкий комплимент, которым он, вместе с этим запахом, наградил разгоряченную танцем Нюрочку.
После кадрили следовала венгерка. Аристон венгерки не играл и поэтому её мотив заменили полькой Фолишон, имевшейся в репертуаре аристона.
Нюрочка не танцевала венгерки и поэтому, пока её подруги притоптывали каблуками в объятиях кавалеров, Нюрочка сидела между комодом и сундуком, куда ее увел Строевич, и обмахивалась платочком.
Радостное настроение охватило Нюрочку. Проходя в свой уголок, она мельком заглянула в зеркало и зеркало отразило разрумянившееся личико с синими, искрящимися глазками. И Нюрочка почувствовала, что она прелесть. Впрочем, и не одна Нюрочка почувствовала это. Корнет Строевич, очевидно, разделял мнение Нюрочки. По крайней мере, его влюбленные глаза красноречиво говорили это синим глазкам Нюрочки. И не одни влюбленные глаза корнета Строевича обладали красноречием: губы его шептали близко-близко у розового ушка его дамы:
– Какая вы хорошенькая, Нюрочка! Вы прелесть какая хорошенькая! Вы лучше всех, решительно лучше всех, милая, милая Нюрочка! Хотите вальсировать со мной под польку Фолишон?
И Нюрочка шла вальсировать, в то время как другие пары с неподражаемым ухарством откалывали венгерку. И Строевич ближе, чем следовало, прижимал к себе свою даму, так что золотые шнуры его венгерки приятно холодили разгоревшуюся щечку Нюрочки, а блестящий ментик игриво ударял ее по носику. И сердце Нюрочки подпрыгивало в такт веселой польки…
IV
Бал был в полном разгаре.
Число бутылок на столах значительно уменьшилось. Офицеры, с разрешения дам, отстегнули верхние шнуры венгерок. Лица дам напоминали теперь корольки самого лучшего качества.
Дирижер Шлепкин окончательно выбился из сил и с надорванным голосом сидел у двери и дико вращал глазами.
Теперь дирижировал Федя, танцевавший с Нюрочкой.
В промежутках между фигурами он по-прежнему подкреплялся незаметным для
начальства образом, и потом прибежав опрометью на место с растерянным, встрепанным видом, делал масляные глаза по адресу Нюрочки и лепетал умильно:
– Мой леденчик! Моя конфетка!
И Нюрочка вспыхивала от досады. Комплименты Строевича – и комплименты Феди! Какое сравнение!
И зачем она, Нюрочка, родилась дочерью папаши Люлюева, а не бригадного генерала!
Между четвертой и пятой фигурой Федя сказал мрачно:
– Вы жестокая кокетка-с, Нюрочка, вы тираните меня и все мое пламенное сердце. Мы не господа офицеры, Нюрочка, это верно-с! И не прошли всех тонкостей кавалерского обхождения, но мы можем не меньше их чувствовать, Нюрочка, да-с!
В голосе Феди дрожали пьяные слезы. Он ударял себя кулаком в грудь и наступал на оборку Нюрочкиного платья цвета давленой земляники, по восемь гривен аршин.
Оборка трещала под тяжеловесной ступней Феди. Нюрочка злилась и вторично сожалела, что она дочь папаши Люлюева, а не бригадного генерала.
Но если вторая кадриль навеяла некоторую грусть на мысли Нюрочки, то следовавший за ней вальс «Дунайские волны» вполне рассеял ее. Опять золотые шнуры холодили щечку Нюрочки и серебряный ментик щекотал её маленький носик, и опять голос корнета шептал:
– Ах, Нюрочка! И зачем только вы невеста Кукушкина, а не моя! Какой удар, Нюрочка! Изменница, недобрая, злая. А вед вы немножко симпатизировали мне когда-то, чуточку, капельку? Да? Скажите «да», милая, хорошенькая Нюрочка!
Но Нюрочка не может сказать «да», потому что она невеста Кукушкина, но глаза её, стыдливо поднятые на корнета Строевича, глядя снизу вверх, говорят «да» за нее – Нюрочку.
А корнет Строевич все кружится и кружится по крошечному зальцу и все теснее и теснее прижимает к груди свою даму. От корнета Строевича пахнет peau d’Espage и дорогой сигарой. Его губы совсем близко-близко от белокурой челки Нюрочки. И эти губы шепчут:
– Вы хорошенькая, чудо, какая хорошенькая, Нюрочка! Сегодня праздник, наш праздник! Сегодня вы моя. Завтра опять учения, манеж, плац, казармы… Завтра вы будете далекая, чужая Нюрочка, а сегодня нет. Мы вместе. Сегодня наш праздник, да?
И теплая волна разом захлестывает млеющую Нюрочку. Ей безумно хорошо и безумно весело. Что-то острое, сладкое захватывает её сердечко и уносит куда-то далеко-далеко, в иной мир, где звучит иная музыка, а не «Дунайские волны» разбитого аристона…
Эта музыка продолжает звучать в душе Нюрочки, когда она, вместе с мамашей Люлюевой, в пятом часу мрачного осеннего утра, светит уходящим от них по темной лестнице офицерам.
Madame Люлюева низко кланяется в пояс, по-бабьи, эскадронному командиру и тянет своим певучим голосом:
– Покорно благодарим, покорно благодарим, что непобрезгали на угощенье, ваше высокородие!
А папаша Люлюев таращит глаза, готовые сомкнуться и всеми силами стремясь удержать равновесие, приличествующее его вахмистрскому сану, не совсем твердым языком вторит жене:
– Покорно благодарим, ваше высокородие! Премного обязаны!
Нюрочка никого не благодарит и никому не кланяется. Её глаза прикованы к стройной фигуре уходящего корнета Строевича и сердце её замирает сладко и тоскливо…







