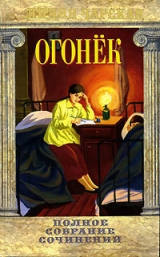
Текст книги "Огонёк"
Автор книги: Лидия Чарская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Ну да, Огонек, – улыбнулся старый художник, – и наверное, по живости своей натуры вы не так внимательно отнеслись бы к своему призванию, между тем это было бы грешно, Камская, не раздуть искру, данную вам Богом!
Он говорил серьезно, отрывисто, даже резко. А я стояла как дурочка, с широко раскрытым ртом, и сияла, как луна. Воображаю, что за умное лицо у меня было в ту минуту! Наверное, в нем уже не оставалось и тени трагического! И на Марию Антуанетту я походила, должно быть, как червяк на звезду.
Решено! Я сделаюсь художницей, если Золотая ничего не будет иметь против. А мечту о медицине пока спрячу в карман.
На уроке истории сразу два происшествия. Преподаватель истории, прозванный Гунном за его густую, лохматую голову и скуластое лицо, вызвал меня как раз в ту минуту, когда я мысленно видела себя в залах выставки картин и упивалась относящимися к моему произведению похвалами. Я уже слышала приятный гул от множества восторженных голосов. Среди этого гула разбирала:
– Скажите пожалуйста! Камская… Талант отца! Яблоко от яблони недалеко катится… И такая молоденькая! Почти ребенок! Поразительно, восхитительно, гениально…
И вдруг:
– Госпожа Камская. Скажите мне условия Тильзитского договора!
Я поднимаюсь растеренная, улыбаюсь и с блаженными глазами и глупым лицом (могу себе представить, как я выглядела в ту минуту!) восторженно смотрю на него – и ни слова. Только улыбаюсь.
Гунн кажется очень удивленным:
– Госпожа Камская? Вы не именинница сегодня?
– Нет! Нет!
Чтобы доказать ему, что со мною ровнехонько ничего не случилось, ничего, конечно, болтаю что-то такое, чего вовсе нет в заданном уроке. Его огромная голова колышется из стороны в сторону, а на скулах загораются пятна румянца. По всему видно, что он недоволен.
– Из уважения к прежним вашим заслугам я вам ставлю «три», но… но вы должны мне дать слово, госпожа Камская, что к будущему уроку выучите Тильзитский мир, слышите ли, назубок.
– Назубок! – вырывается у меня эхом так неожиданно глупо, что со всем классом делаются конвульсии от смеха.
– Госпожа Камская? Я вас не понимаю!
Гунн смотрит вопросительно.
– О да, я буду знать, даю слово, да!
Он все еще смотрит на меня, как будто я одержимая, потом кивает головою:
– Хочу вам верить! – говорит он, потом переводит глаза на Марусю Линскую.
– Госпожа Линская, пожалуйста, вы.
Линская встает.
Господи! Что такое с нею! Сорок пар глаз устремились на первую ученицу. Что за лицо?! Красное-красное как кумач! Глаза больше, чем когда-либо, запали и горят нездоровым ярким огнем. Она хочет произнести слова и не может. Голос какой-то хриплый, чужой.
Вдруг… На глазах всего класса Линская закачалась, как тоненькая слабая березка под порывом урагана, взмахнула руками и словно подкошенная, без чувств рухнула на пол.
Ее подняли, унесли в имеющуюся при нашей гимназии перевязочную комнату. Потом отвезли Марусю домой.
Как-то сумрачно и тоскливо прошел этот день. Внезапная болезнь Линской отозвалась на нас ужасно. Все как-то притихли. Мне тоже дышалось нелегко.
Жаль бедную Линочку, как мы называем ее, и сердце что-то теснит в груди… До боли. Если бы не радостное сознание, что через месяц и три дня увижу Золотую, право, жизнь казалась бы далеко не такой прекрасной, какова она есть на самом деле.
Февраль 1904… Замок Ярви. Финляндия.
О сколько событий, самых неожиданных, самых необычайных!.. Право, точно арабская сказка из «Тысячи и одной ночи». Действительно, презабавной проказницей бывает иногда судьба! Жили себе смирно и тихо девочки гимназистки, учились, сидели в классе, готовили уроки, «экстерки» расходились в одну сторону, мы, интернатки, – в другую, в определенное время, и вдруг! Налетел шквал, закружил ураган, разразилась гроза, разыгралась буря, и мы очутились (я говорю о нас, интернатках) в глуши Финляндии, в замке (хотя на замок-то он и не похож нисколько) Питера Ярви, отца Ирмы. А экстерок просто-напросто распустили по домам на… на неопределенное время.
Дело в том, что в гимназии появилась непрошенная, зловредная гостья – скарлатина. Линская оказалась ее первой жертвой и – увы! – не единственной. За нею заболела Вершинская, Руловина, Ремизова, Калачева, Сосновская и еще многие гимназистки из других классов. Настоящая паника охватила начальство. Надо было во что бы то ни стало прекратить источник заразы, распустить учениц по домам, а нас, живущих при гимназии, изолировать, увезти куда-нибудь подальше из города, где свирепствовала ужасная болезнь. В Петербург приехал по делу отец Ирмы и, узнав об отчаянном положении по отношению возможности заразы его дочери и ее подруг, тут же предложил Марье Александровне свой уединенный замок в его поместье под ее интернат до тех пор, пока не утихнет эпидемия скарлатины. Ах, как это было кстати! Мы буквально ошалели от восторга и чуть не задушили от радости румяную Финку, изъявляя ей нашу благодарность.
Одно меня смущает немного. Это то, что Золотая, приехав в Петербург усталая и измученная с дороги, должна будет предпринять новое, хотя и не особенно продолжительное путешествие для свидания со своим глупым Огоньком.
Мы собирались с какою-то безумною поспешностью. Ехали с нами, семью интернатками: сама Марья Александровна Рамова, Маргарита Викторовна и инспектор. Предполагалось продолжать по мере сил и возможности занятия, причем Федор Федорович Глинский (фамилия инспектора) и m-lle Боргина должны были заменить нам на время всех других учителей.
Приехали в Ярви вчера ночью.
На станции нас ждали два старомодных рыдвана, в которых предки Ирмы ездили, должно быть, в кирку по воскресным дням. Потом маленькие изящные санки для «молодой барышни» то есть для Ирмы, как заявил правивший гнедой пони работник-финн. И рыдванами тоже правили работники в серых кафтанах с трубками в углах рта. Наша Финка совсем преобразилась с той минуты, кок ее нога ступила на родную землю. Куда давались ее обычная апатия, спокойствие и неловкость?! Со всеми рабочими здоровалась за руку, похлопывала их по плечу, как самый заправский мальчуган, и лопотала что-то неустанно на своем оригинальном наречии. Она была так любезна, что предложила мне место в своих саночках, которыми управляла сама. Пони рысью взяла с места, и мы понеслись.
Несмотря на ночь, я увидела прекрасные картины. Белые горы, покрытые снегом, темные мохнатые призраки хвойных деревьев. Обрывы на каждом шагу и сверкающие синими льдами закованные озера в лунном свете. Это было так величественно красиво, что я не выдержала и завизжала во все горло:
– Но ведь это волшебная страна, Ирма, глупышка вы этакая, чувствуете ли вы это?!
Она, ничуть не обиженная моим высказыванием, повернула ко мне голову и, переложив вожжи из одной руки в другую, проговорила:
– О, моя родина – это… это… Ничто в мире не сравнится с ней!
И лицо у нее было в эту минуту гордое, как у королевы! Она права. То, что я видела при лунном свете, было прекрасно и сказочно, как сон. Проехав верст пятнадцать, мы очутились у замка.

Так вот он каков! Я привыкла судить о замках исключительно по средневековым романам.
Готические окна, зубчатые башни, подземелья, подъемный мост. Ничего подобного не встретишь в Ярви. Просто-напросто огромный деревянный дом, плотно и грубо сколоченный из тесовых бревен. Двухэтажный, с бельведером, с которого, по уверению Ирмы, великолепно можно летом наблюдать грозу на море, а море видно все, как на ладони. Весь замок окружен забором, высоким и крепким на диво. Во дворе пристройки: ледники, кухня, рабочая изба, амбары.
Сад расположен на южной стороне. Он весь точно висит на скате стремнины. Усадьба всяна горе. Под горою озеро, с берегом, поросшим соснами, а там, далеко впереди, беспокойное, говорливое в летние, весенние и осенние месяцы, а теперь – увы! – закованное, как узник в свои ледяные оковы, море.
В замке нас ждала госпожа Ярви, бабушка Ирмы, важная молчаливая старуха с вязаньем в руках. Старая служанка повела нас в предназначенные для интерната комнаты. Меня поместили с Ирмой, Принцессой и Живчиком в одну, малюток и сестричек Кобзевых в другую. Раю, как еще не окрепшую после операции, Марья Александровна взяла к себе. Великолепное распределение!
Ура! Ужинали все вместе в большой, с низким потолком, столовой. Хозяйка извинилась и ушла к себе. Она привыкла рано ложиться. Ирма долго оставалась в комнате бабушки. Она вернулась как раз в ту минуту, когда я вела целую войну с Маргаритой Викторовной, требуя от нее мой дневник, походную чернильницу и ручку.
– Но вы хотите уморить меня, Ирина, я не могу сейчас же броситься разбирать багаж!
– Но, m-lle, я тоже не могу уснуть, не записав моих впечатлений!
– Послушайте, однако…
– Если я не получу моей тетрадки, я испишу все стены, печи и полы!
– Боже мой, это не девушка, а фейерверк! Вы совсем от рук отбились с тех пор, как скарлатина перевернула всю нашу жизнь.
И все-таки она дала просимое. И дневник, и перо, и чернильницу. Все! Бедная Маргарита! Несмотря на ее строгий неприступный вид, душа у нее мягкая, чуткая… и терпеливая на славу.
Вот вам и сметанные воротнички, так испугавшее меня в первую встречу.
Ах, как здесь чисто! Пол блестит (хотя он и некрашеный), стены блестят, потолки блестят. На всех столиках белые вязаные скатерти, на диванах и креслах такие же салфеточки.
– Это все бабушкина работа, – не без гордости сообщила нам Ирма.
– Папа все больше живет в Петербурге, у него там дела, оттого он и меня отдал туда, а не в наше финляндское училище, а бабушка одна-одинешенька здесь, в замке. Одно только развлечение у нее – вязание. Хорошее развлечение тоже! Упаси Господи посадить на это «развлечение» чернильное пятно! Берегись, милейшее перышко! Воображаю, что бы тогда было с Ирмой!
Записала все, что успела. Аминь. Ложусь спать. Принцесса с Живчиком тихо выспрашивают Ирму о замковой жизни, о здешних обитателях, обо всем. У молодой Ярви счастливое, блаженное лицо, и право же, она даже как будто похорошела.
Но вот в стенку слышится троекратный стук. Это Маргарита Викторовна напоминает нам о том, что ночь дана миру не для разговоров.
– Если вы не замолчите, сейчас я приду тушить свечку, – слышим мы через минуту ее недовольный голос за дверьми.
Тороплюсь записать и это. Потом оборачиваюсь к Ярви:
– Послушайте, очаровательная, а в вашем замке подземелье есть?
– Да! Как же! Там запасы моркови, репы и картофеля. Главным образом картофеля и сушеной черники, – отвечает она с тем же блаженным сиянием в лице.
Вот тебе раз, хороша поэзия тоже! Спокойной ночи, мои милые! И ты, заветная тетрадка, спокойной ночи!
Февраль 190…
Наша жизнь течет как по маслу. Утром занятия по всем предметам с Василием Дементьевичем до обеда. Обед в час (не то что в Петербурге). Потом прогулка до двух и уроки иностранных языков с Маргаритой. В четыре чай. Потом до пяти опять прогулка и приготовление уроков. Сестрички и Живчик, как принадлежащие к другому классу, занимаются, наоборот, с Маргаритой утром, а с Василием Дементьевичем после обеда. Малюток учит сама Марья Александровна, и им предоставлено больше свободного времени, нежели нам.
Маленькое разочарование. Уезжая сюда, и мы мечтали о сокращении часов ежедневных уроков, а тут напротив.
– В праздники отдохнете, – утешает нас со своей добродушной улыбкой инспектор, – а теперь старайтесь, старайтесь, барышни! К экзаменам надо пройти все.
– А когда мы вернемся домой? – осведомляется Живчик.
– И вам не стыдно, m-lle Сушкова, думать о душном, шумном городе, когда здесь такая красота!
Действительно, красота! При дневном свете Ярви очаровательно. Белые горы, зеленые хвойные леса, озера, окованные синею ледяной корою, а там, дальше, море. Как здесь, должно быть, хорошо летом, весной, когда вскроется оно…
Ирма встает в пять часов утра и ходит доить коров вместе с работницами. А в девять как ни в чем не бывало сидит за уроком.
Сегодня написала письмо Золотой. А в то время, пока наши гуляли, поймала беловолосого Кука – сына здешней скотницы – и написала с него крошечный эскиз. Думаю написать с него картину – «Кука и его салазки». Хочется зарисовать еще Ирму среди коров в хлеве, с подойником. Но увы! – для этого надо встать в пять часов, а подобный подвиг Огоньку не под силу.
У меня табличка с черточками. Это символическая табличка. Я вычеркиваю на ней дни, оставшиеся мне до разлуки с Золотой. Еще три недели и два дня. На первой неделе поста она приезжает… Боюсь, как бы мне не спятить от восторга. Живчик по этому поводу утешает меня.
– Успокойтесь Ирина, – говорит она лукаво, – с ума сходят только те люди, у которых имеется кое-что тут! Чтобы было, с чего сойти, понимаете? – и стучит пальцем по собственному лбу.
– Что? Стало быть, я дурочка, что ли?
– О!
Тут она кидается мне на шею и орет на весь замок.
– Ни-ни! Вы самый чудный! Вы самый прелестныйи самый умный в логике Огонек!
– Ну где тут логика, прошу покорно!
Принцесса здесь производит фурор. То есть не она сама, а золотые волосы Принцессы. Когда мы чинно выходим парами на прогулку, как бывало и в Петербурге, все встречные, предварительно поклонившись нам (удивительно любезный и радушный народ эти финны!), смотрят широко раскрытыми глазами на Марину и начинают оживленно беседовать между собой.
– Они принимают вас за нашу, – предупредительно поясняет Ирма, – и восторгаются вами.
Что они восторгаются Мариночкой, это понятно. Она очаровательнейшая девушка в мире, но что Марина похожа на финку, это уж, ах оставьте…
Их женщины некрасивы, со светлыми, почти белыми, волосами и бесцветными по большей части глазами. А головка Принцессы – золотое руно и глаза ее серо-синие, глубокие, с огромными зрачками и темными ресницами, совсем не северные глаза.
От Золотой переслано мне письмо из Петербурга, поэтому замок дрожал от моих диких прыжков к полному удовольствию и при ближайшем участии малюток… Живчик как бешеная хохотала над нами, исполняющими танец диких апахов вокруг костров.
За это от Марьи Александровны выговор за обедом, а бабушка Ирмы смотрит на меня, как на вырвавшуюся из лечебницы психиатрическую больную. Даю себе слово впредь сдерживать себя.
Февраль 190…
Сегодня праздник.
С утра нас ожидал сюрприз. Работник Адам, пожилой светлоглазый финн, с которым Ирма обязательно за руку здоровается каждое утро (мне это безумно нравится в нашей толстухе), принес несколько пар лыж, легких, как перышки.
Принцесса, Живчик, Ирма и я привязали их на ноги к теплым сапогам и отправились в путь. Что за роскошь скользить так по сверкающим в лучах февральского солнца сугробам! Точно птица! Ирма, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, так ловко бегает, как заправский спортсмен. Она – наш профессор. Показывает нам, как надо держаться, как сохранять равновесие, спускаясь с горы. Дух захватывает, когда с головокружительной быстротою скользишь по откосу. Ирма не нахвалится на меня.
– Вы управляете лыжами как прирожденная спортсменка, – говорит она, похлопывая меня своей полной рукой, одетой в теплую рукавицу, по плечу.
Живчик тоже не отстает от меня. Только вот с Мариной не ладится что-то. Она несколько раз уже «закопала репу» и едва не разбила до крови нос.
Мы исходили все окрестности и вернулись в замок с красными, как кумач, лицами и волчьим аппетитом. Сестрички и Слепуша забросали нас вопросами по поводу нашей прогулки. Малютки же казались обиженными. У Адочки даже на глазах были слезы, а Казя, надув прелестные свои губенки, протянула:
– Когда я вырасту большою и буду матерью семейства, я никогда не стану запрещать моим детям полезные удовольствия вроде бега на коньках и на лыжах.
– Ах ты мышонок!
Я торжественно поклялась девчурке, что в следующий же праздник поведу ее на море, расчищу кусок льда от снега и буду с нею кататься на коньках до самого вечера.
– Ну, не советую, – вмешался в разговор Василий Дементьевич, – лед в марте уже ненадежен. На месте Марьи Александровны я не пустил бы вас.
– О нет, я была там нынче утром, и море еще держится крепко! – успокоила его Ирма, – и старый Адам то же говорит.
О, старый Адам! Это настоящей авторитет в глазах молоденькой Ярви!
Решено. В ближайшее воскресенье веду моих малюток на лед. Надо выбрать самые маленькие коньки из запасов Ирмы. Кажется, у нее их бесчисленное множество, так как эта молодая особа занимается спортом чуть ли не с четырех лет.
Март 190…
Весна. Радость. Расцвет природы. Хотя снег еще покрывает горы, но с юга уже дохнуло теплом.
Через неделю приезжает в Петербург Золотая. О! Моя радость так велика, что я боюсь не вынести ее. Я не видала ее только полгода, а мне кажется, что после нашего прощального поцелуя прошла целая вечность. Целая вечность. Но сюда, в Финляндию, она не попадет раньше, нежели не пройдет ее дебют на образцовой сцене.
– Это для того, – пишет мне мое сокровище, – чтобы без помехи отдаться радости свидания с моим Огоньком!
Да, да, пусть так, пусть так! Конечно. Во сто раз лучше увидеть ее счастливой, беззаботной, отрешившейся от всяких посторонних дел.
Сегодня я отправилась к госпоже Марии-Анне-Ярви.
– Madame, – произнесла я голосом, сладким, как леденчик, – моя мама приедет ко мне погостить дня на три. Могу ли я просить уделить ей одну из комнат замка? Госпожа Рамова послала меня просить вас об этом.
Старуха подняла очки на лоб, отложила в сторону вязанье и сказала по-немецки (она всегда изъясняется с нами на этом языке):
– В замке Ярви всегда рады гостям. Или вы не знали этого, малютка?
Почему-то эта фраза ударила мне по сердцу. И вся внешность этой седой, важной, молчаливой старухи, осужденной одиноко проводить свои последние годы, возбудила жалость во мне. Захотелось видеть ее счастливой хоть отчасти, доставить ей что-нибудь приятное. Развеять ее одиночество хотя бы на короткие минуты. Ее внучка больше занята своими коровами, лыжами и маслобойной (удивительное масло выбивают здесь работницы под наблюдением Ирмы), но только не старой бабушкой, отнюдь не ею! Я же была так счастлива сегодня, так непростительно счастлива от предстоящего мне через неделю свидания с Золотою, что хотелось излишком этого счастья поделиться с кем-нибудь.
– Не хотите ли, госпожа Ярви, я расскажу вам о моей маме? – предложила я неожиданно, и пока старуха не успела еще прийти в себя, стремительно пододвинула к ее ногам скамеечку, и, опустившись на нее, стала говорить, говорить без умолку, без передышки!
С описания и восхваления всех внутренних и внешних качеств моей незаменимой мамули я перешла к рассказу о нашей жизни в провинции, о нашей труппе, о бабушке Лу-лу, Кнутике, дяде Вите, Заза.
И я добилась того, что эта суровая старуха слушала меня с улыбкой, а когда я уходила от нее, она погладила меня по голове и сказала:
– Должно быть, ваша мама очень счастлива, имея такое дитя.
Вот так финал! Подобной похвалы я вовсе не ожидала!
Ушла от нее, а она неотступно стоит передо мною, суровая, важная, а когда улыбается – удивительно симпатичная старуха. Решила нарисовать ее в кресле с вязаньем, неподвижно застывшую в своем олимпийском спокойствии. Вечером, ложась спать, взялась было за эту тетрадку.
Вдруг… распахивается дверь и как пуля влетает Живчик.
– Что вы сделали, Огонек? А? Старая хозяйка от вас в восторге. Сама слышала, как говорила нашей Марье Александровне, что никогда еще ей не приходилось видеть такой приятной особы… И… ваша мама, Огонек, получит лучшую комнату в замке!
Клянусь, о комнате-то я и совсем забыла, когда принялась развлекать старуху!
Принцесса уверяет со смехом, что я, должно быть, родилась в счастливый час, так как умею обворожить всех от мала до велика. Странно! А между тем я совсем не думаю об этом.
Сейчас записываю самое важное, что случилось сегодня. Старый Адам рубил дрова и едва не отхватил во время нашей прогулки себе полпальца. По крайней мере, нижний сустав висел как на ниточке. Милой нашей Слепуше сделалось дурно при виде крови. Остальные были белы, как смерть. Пока бегали за старшими, я обмыла в чистом снегу палец Адама, предварительно сняв его верхний грязный слой, потом разорвала свой полотняный платок и туго-туго перевязала раненый палец. Когда все вернулись вместе со старшими, перевязка была окончена, и Адам улыбался. Марья Александровна, инспектор, Маргарита Викторовна хвалили меня так, точно я какая героиня! А по-моему, тут нет ничего такого. Не сделай этого я, сделали бы другие… И никакого подвига тут нет…
Март 190…
Я не знаю решительно, что мне делать, плакать или смеяться, горько, горько! Нет, положительно Бог наказал меня! Да будет Его воля! Но эта кара мне не под силу. Ах, как тяжело! Да, да, это мне послано в наказание, в этом я не сомневаюсь! И поделом, и поделом тебе, глупый, гадкий Огонек! Но по порядку, по порядку, госпожа Ирина Камская, пишите в строгом последовательном порядке, хотя это и не особенно-то приходится вам по вкусу, милое дитя!
А все из-за того, что я смеялась… Бессовестно, подло смеялась над другими! Но чем же я виновата, что знакомый бес неистовства опять запылал во мне. Ах, эта непростительная шалость! Стыдись, Ирина! Что скажет Золотая, когда прочтет о ней…
О, я наказана за нее превыше меры!
В замок Ярви приехали гости. Три окрестных помещицы с их дочерьми, никогда в жизни никуда не выезжавших из их лесных трущоб-усадеб. Это было презабавно, когда они все расселись вдоль стенок и, раскрыв рты, слушали мою болтовню. Все эти девицы неуклюжие, как тумбы, в кашемировых платьях, морщивших у талии, с веснушчатыми лицами, с носами, похожими на кнопки электрических звонков. А их руки в нитяных перчатках, огромные руки великанш!.. Они были великолепны!
К несчастью, госпожа Ярви была в отлучке, а Ирма дика, как волчица, и для нее сущая пытка занимать гостей.
– Милая Ира, вы такая «общественная», не поможете ли вы мне в этом деле? – медовым голосом попросила она меня. А сама спаслась в коровник. Я великодушно согласилась.
И заняла же я их!
Боже мой, чего я им не наговорила! Из них никто не читает газет, нигде не бывает, кроме церкви, и живут они, не видя свежих людей, как добровольные узницы в тюрьме, а знать все, что делается на свете, хочется и им тоже. Ну и наврала же я им на славу!
Жизнь в Питере – малина. Все ездят на моторах, даже мальчишки из мясной, и во всех скверах можно обедать даром, к Гостиному двору теперь не ходят, а летают на аэростатах, а дома как и в Нью-Йорке там строят даже в 17 и 28 этажей.
Дамы заахали, барышни завздыхали… Как жаль, что они не читают газет эту зиму! Но они живут так далеко от станции, трудна доставка, и так далее и так далее… – сокрушались они на ломанном немецком языке.
А я уже продолжала, предвкушая новую забаву.
– А видели ли вы когда-нибудь настоящую принцессу? – неожиданно огорошила я их внезапным вопросом.
– Что? Принцессу? Нет… Нет… А разве?.. и окончательно растерянные, они заморгали глазами.
– Не видели? Ну-с, в таком случае поздравляю вас! Вы ее увидите сию минуту.
И быстро сорвавшись с места, я бросилась бегом на половину нашего интерната, схватила за руку Марину, почти насильно притащила ее в приемную и поставила перед лицом гостей.
– Вот! – произнесла я голосом торжественным и почтительным в одно и то же время – ее высочество принцесса Марина, осчастливившая нас совместным с нами учением. Она воспитывается в гимназии госпожи Рамовой и мы имеем честь видеть ее в своей среде! – и я преважно отвесила перед оторопевшей Мариной поклон чуть не до земли.
Гостьи стремительно повскакивали со своих мест, на которых сидели до сих пор как приклеенные, вдоль стенок, и каждая из них, красная до предела возможного, сделала великолепный книксен.
– О, ваше высочество, принцесса! – прошептала самая молоденькая и самая неопытная из них. Потом новые книксены, еще и еще… Это было презабавно и, давясь от смеха, я предпочла убежать от них подальше и наедине сама с собой «выхохотаться» до слез.
Когда Марина пришла и узнала от меня, рыдающей от смеха, про мою выдумку, она рассердилась и прочла мне великолепную нотацию, занявшую, по крайней мере, целых двадцать три минуты. А потом случилось и это. Вошла Раиса и подала мне письмо. Уже при одном виде этого письма во мне екнуло сердце. Зачем письмо, когда Золотая уже в дороге?
Мои руки плясали, когда я вскрывала конверт. А когда прочла первую страницу, мне показалось, что потолок предполагает улечься мне на голову. Как все это ошеломило меня! Дебют мамы отложен на месяц. Золотая хотела, несмотря на это, приехать раньше, но заболела бабушка Лу-лу, приходится ухаживать за бедной одинокой старушкой… Не бросать же ее, в самом деле, на произвол судьбы одну! Теперь я увижу мою Золотую только в конце апреля. Это, должно быть, оттого, что я такая скверная. Да! Казнись, глупый Огонек! Казнись!
Март 190…
Боже мой! Боже!
Мы были на волосок от гибели. Подумать только… Смерть носилась уже над нами… Боже мой, благодарю Тебя!
Благодарю за то, что Ты дал мне такую Золотую, молитвы которой за ее глупого Огонька доходят до Тебя…
И за то, что я умею плавать, как рыба. И за то, что никогда не теряю присутствия духа! За все! За все благодарю Тебя!
Сейчас я лежу в постели, растертая спиртом, с целой массою теплых одеял на ногах и груди, и вожу дрожащей рукою карандашом по этим страницам. Когда они придут сюда снова, я спрячу мой дневник с карандашом под подушку, вот и все… А пока… пока я могу занести весь этот ужасный случай на его страницы.
Утром малютки пристали ко мне, говоря, что я их обманула.
– Обещали пойти с нами на море кататься на коньках, а сама… Хорош Огонек, нечего сказать! Три праздника подряд пропустил!
– Ах вы глупышки! А вы видели море, каково оно сейчас?
– Нет.
Я потащила их в бельведер.
– Глупышки мои, глупышки! Смотрите!
Из окна бельведера оно видно как на ладони. У берега на полверсты лед еще крепок и по нему можно ходить и ездить, а там дальше синяя, огромная, темная и красивая масса воды. По ней, как белые медведи, плавают большие и маленькие куски льда. Льдины и льдинки, стремящиеся куда-то вдаль по этому огромному водному пространству, сталкивающиеся друг с другом и снова бегущие куда-то вперед.
– Ах, как красиво! Идем туда!
Казя, стремительная во всем, бросилась сломя голову одеваться.
– Но что скажет Маргарита Викторовна? – слабо запротестовала я.
– Но ведь мы же не одни будем, а со старшей воспитанницей, – вставила свое слово и тихая, покорная Адочка.
– Ну ладно! Попадет мне, а не вам! Ступайте погулять по берегу со мною.
Сегодня воскресенье. День теплый, и наши его проводят в саду – помогают расчищать дорожки от талого снега Ирме, раскидывают запоздалый сугроб. Мы оделись так быстро, как только могли, в теплое платье и вышли из дому. Полверсты до берега миновали в две минуты, бегом, изображая тройку, я – посредине, малютки по бокам. Прилетели на берег как бешеные. Б-р-р! Здесь было далеко не так тепло, как наверху, у замка. Ветер дул в лицо сердитый, угрюмый, совсем не весенний ветер.
– Как странно, – щебетала Казя, как странно, поглядите, Огонек, здесь лед такой толстый и крепкий а там дальше… Адочка ты не боишься добежать со мной до самой воды. – И прежде, нежели девочка успела ответить что-либо, с веселым беззаботным смехом маленькая Заржецкая вырвала из моей руки свою и опрометью бросилась бежать по льду туда, навстречу зловеще синеющей полосе моря.
– Казя! Назад! Безумная этакая! Назад, приказываю я тебе! – кричала я что было мочи, зная отлично, что чем дальше было от берега, тем тоньше и ненадежнее был весенний лед.
– Вернись! Казик, вернись! – присоединила к моему свой слабенький голос и Адочка.
Но увы! Наши голоса, заглушенные ветром, не доходили до назначения. Казя мчалась, как дикая лошадка, почуявшая волю, изредка оборачивала свое разгоревшееся лукаво-смеющееся лицо в нашу сторону, манила нас за собой и снова бежала вперед.
«Разумеется, она легка, как серна, а все же нельзя вполне надеяться на обманчивую крепость льда», – вихрем кружила в моей голове тревожная мысль.
– Казя! Вернись или… или я знать тебя не захочу, негодная девчонка! – крикнула я так громко, как только могла. Но опять ветер унес мои слова и развеял по морю, как былинки.
Тогда я обратилась к оставшейся второй малютке:
– Адочка, будь благоразумна, дитя, вернись обратно и подожди меня на берегу! Я должна догнать и привести Казю во что бы то ни стало!
Я говорила спокойно, настолько спокойно, как могла, но, очевидно, лицо мое не могло скрыть обуревавшей меня тревоги, потому что моя маленькая спутница вдруг схватила меня за руку обеими руками, и лицо ее стало белее белой шапочки на ее голове.
– Нет, нет, и я с вами, Огонек! И я с вами… Мы вместе побежим догонять Казю… Иначе… я не хочу! Не хочу!
И прежде, нежели я успела удержать ее, она бросилась вперед, вслед за подругой.
– Казя! Остановись! Остановись, Казя! – кричала она, чуть не плача, инстинктом почувствовав опасность.
Но та по-прежнему бежала да бежала там, далеко впереди.
Я кинулась за ними. Меньше всего я думала о возможности опасности в эти минуты. Я боялась, однако, что мне не успеть догнать Казю, что девочка уже близка к тому месту, где лед, должно быть, много слабее, чем у берега, и…
И я не бежала теперь, а уже летела, неслась, как на крыльях.
Разумеется, мои ноги много быстрее, нежели их. В несколько секунд я обогнала Адочку и теперь уже почти достигала упрямицу Казю.
– Т-р-р!
Этот звук был похож на тихий выстрел, и он пронизал меня дрожью всю с головы до ног. Этот певучий, красивый, тихий выстрел пронзил эхом по всему берегу. Негромким, зловещим эхом… Казя остановилась как вкопанная и повернулась лицом ко мне. В нем застыло выражение скорее глубочайшего изумления, нежели испуга. Она точно спрашивала всей своей маленькой фигуркой:
– Это еще что такое?
Но объяснять ей не было времени. Надо было действовать тотчас же, пока не поздно.
Я схватила за руку младшую малютку и вне себя бросилась к Казе:
– Стой на месте! Не двигайся! – громким голосом крикнула я.
Через две минуты мы были уже рядом все трое.
– Скорее, скорее на берег! Это было безумие – убегать сюда! Ах Казя! Казя! Лед треснул. Слышишь? Назад! Назад, детки мои!
Мы схватились за руки.
Новый треск чего-то надламывающегося, разрушающегося послышался за нами.
Я оглянулась, и крик ужаса помимо воли вырвался у меня из груди. Позади нас зияла широкая чернеющая полоска воды. Как будто маленький пролив между двумя ледяными плоскостями. И в тот же миг поверхность, на которой мы стояли все трое, чуть заколебалась под нашими ногами… Чуть заметно, невидимо на глаз, но наша льдина плыла… Страх и отчаяние лишили меня мысли в первую минуту. Но это длилось всего несколько секунд. Проливчик был еще очень узок, не шире трех четвертей аршина, и его легко было перепрыгнуть…








