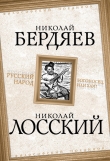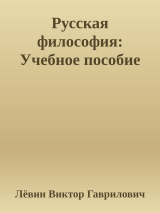
Текст книги "Русская философия Учебное пособие"
Автор книги: Лёвин Гаврилович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Радищев отмечал, что признание смертности души тягостно для человека, поэтому наш философ искал аргументы для доказательства ее бессмертия. Противоречия между идеей смертности и бессмертия души Радищев не смог разрешить.
4. ВЗЛЕТ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ В XIX СТОЛЕТИИ
4.1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ XIX ВЕКА
XIX век был для России эпохой славной и драматической одновременно. Главные события этого века: победа в Отечественной войне над Наполеоном, восстание декабристов, позорное поражение в Крымской войне, тяжелые войны с Турцией. Назревает кризис феодально-крепостной системы, повлекший за собой отмену крепостного права, налицо также расцвет русского национального самосознания. Появляются шедевры русской классической литературы, развивается русская наука (Сеченов, Мечников, Пирогов, Ковалевский, Лобачевский и др.). Возникают новые общественные движения: революционные демократы, либералы, консерваторы, народники. Организуются террористические акты с целью свержения царя. Ответом становятся репрессии против революционеров.
На этом сложном историческом фоне формируется самобытная великая русская философия. Множество ее течений, школ представлены созвездием ярчайших имен: Чаадаев, Хомяков, Герцен, Достоевский, Толстой, Федоров, Соловьев и др.
4.2. ГЕНИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX В.
Русские мыслители XIX в. вновь поднимают вопрос о месте России в мире. Свое веское философское слово в разработке этого вопроса сказал П.Я. Чаадаев (1794-1856). В 1828-1830 гг. он создал цикл работ, озаглавленных «Философические письма»; первое письмо было опубликовано только в 1836 г. в журнале «Телескоп». Публикация вызвала огромный резонанс в российском обществе. Царь объявил Чаадаева сумасшедшим, журнал был закрыт, а его издателя на три года выслали из Москвы.
Главные идеи Чаадаева состояли в следующем. Он заявил, что России нужен опыт европейских государств. Свою государственность Россия получила благодаря Петру I, и он перенес на русскую почву европейский образ жизни. Тем самым Петр сделал Россию европейской державой, с которой вынуждены считаться другие страны. Одновременно Чаадаев крайне критически относился к российской реальности. Он писал, что «пережитое пропадает для нас безвозвратно». Российская история не знает преемственности, а, следовательно, ее путь обречен на неудачу. Впрочем, Чаадаев говорил и об особом культурно-историческом предназначении России. Русский народ он объявлял исключительным, поскольку им всегда руководит сила Провидения. Идеи Чаадаева не были однозначно восприняты русским обществом и стали отправной точкой для спора между славянофилами и западниками.
Как философ Чаадаев был объективным идеалистом религиозно-мистической окраски. Первопричину исторического развития он видел в неисповедимом роке. Бог сотворил человека и дал ему божественную идею в виде рассудка и индивидуального духа. Человечество развивалось силою мысли. Интересы всегда следовали за идеями, а не предшествовали им. Убеждения никогда не возникали из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции, говорил Чаадаев, были, в сущности, духовными; люди искали истину и попутно обрели свободу и благосостояние.
Составляя основу человеческого мира, божественная идея, по мысли Чаадаева, наиболее полно выражается в христианской религии, которая оказывается непосредственным общественным стимулом деятельности. Более прогрессивной религией Чаадаев признает католицизм, сохранивший истинные заветы Христа и обеспечивший успешное развитие цивилизации на Западе. Россия, восприняв православие у дряхлой Византии, все более обособляясь, отстала в своем развитии, преодолеть которое нужно путем оживления веры.
Гносеологическая позиция Чаадаева также была религиозно-идеалистической. Он признавал два пути познания: обычный и откровение. К обычному пути он относил чувственную и рассудочную деятельность. Им пользуются естественные науки о природе. Для изучения общества и духовного мира человека нужны не опытные, а рационалистические приемы познания. Общие законы бытия «стезей бога» познаются путем сверхъестественного откровения, основанного на вере в бога.
Считая западный мир образцом для России, Чаадаев стал предшественником «западничества»; отводя религии решающую роль в жизни общества, он явился провозвестником социологии славянофильства.
К активным и плодотворным мыслителям славянофильского направления относились А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков. Ю.Ф. Самарин и др. В целом это направление представляло собой идеологию либерального российского дворянства 30-х – 40-х гг. XIX в. Это был круг людей, обеспокоенных обострением противоречия между властью (бюрократией) и обществом, между европеизированным дворянством и народом, хранителем истинных русских начал.
Будучи патриотической частью дворянства, желавшего преодолеть отсталость страны, найти особый путь ее развития, отличный от западного, они разработали утопическую программу обновления, основанную на началах православия, самодержавия и народности. Обновляя содержание этих принципов на базе критики бюрократических общественных порядков и требования отмены крепостного права, противоречащего христианской заповеди (человек не должен быть рабом другого человека), славянофилы выдвигали условие: при этом не должны потерпеть ущерб ни дворянство, ни деревенская община – хранитель русских православных первооснов жизни.
По своим философским убеждениям славянофилы были объективными идеалистами православного направления, считая первоначалом всего сущего божественное творение, а основой познания – божественное откровение и веру в бога.
Славянофилы отрицательно отнеслись к петровским преобразованиям, считая их чуждыми народному духу, поскольку, как они полагали, Петр I оказался деспотом, превратил народ в рабов, исказил отношения между государством и народом и т.д. Представители славянофильства рассматривали общину как совершенную форму народного быта, выражающую материальное и духовное единство русского народа, способную предотвратить внутренние смуты и революции.
Славянофилы идеализировали народ, воспевая его патриархальность, терпимость, смирение, религиозность, но не предлагали реальных мер по улучшению его жизни. Идеи славянофилов развивались «почвенниками» и другими мыслителями религиозно-идеалистического толка.
А.И. Герцен (1812-1870) прошел трудный путь арестов, ссылок и эмиграции. Велики его заслуги в развитии освободительного движения и общественной мысли в России, в организации Вольной типографии в Лондоне, в издании «Полярной звезды» и «Колокола», на страницах которых пропагандировались прогрессивные идеи.
В трудах «Дилетантизм в науке», «Письма об изучении природы», «Былое и думы» Герцен разработал новую «реалистическую» теорию мира на базе обогащения материализма диалектикой, которая для него была «алгеброй революции», обосновывавшей единство бытия и мышления, общества и человека, практики и теории. Материя истолковывалась Герценом не в качестве косной инертной застойной массы, а определялась как вещество-субстрат, находящийся в непрестанном движении и созидании.
Герцен развивал диалектическую теорию познания. Он отмечал, что истинное знание – результат единства чувственного и логического в познании, опыта и умозрения, эмпирии и размышления. Герцен выступал за союз естествознания и философии. Философия, не опирающаяся на частные науки, есть призрак, метафизика, идеализм.
А. Герцен разработал теорию «крестьянского социализма», которая была по своей сути утопичной, но до сих пор остаются актуальными ее гуманистические и демократические веяния.
Н.Г. Чернышевский (1828-1889) – признанный вождь российского освободительного движения середины XIX в., выдающийся мыслитель, превративший журнал «Современник» в трибуну пропаганды антикрепостнических и антисамодержавных идей; за это в 1863 г. он был сослан на каторгу в Сибирь, откуда вернулся спустя 20 лет.
Основные труды Чернышевского: «Антропологический принцип в философии», «Очерки гоголевского периода русской литературы», «Эстетические отношения искусства к действительности», «Критика философских предубеждений против общинного владения», романы «Что делать?», »Пролог» и др.
Как философ Чернышевский был материалистом-диалектиком, хотя создать целостную систему диалектического материализма не успел. Заслугой Чернышевского в развитии общественной мысли в России является признание классового характера исторических процессов, борьбы классов. В своих романах Чернышевский разрабатывает этику «новых» людей (Рахметов и др.) на основе гуманистического принципа «разумного эгоизма», соблюдения собственного интереса без нанесения ущерба другим.
Чернышевский заложил материалистические основы эстетики, утверждал примат жизни над искусством, ставя перед ним три задачи: отображение действительности, ее оценка и вынесение своего приговора.
Чернышевский материалистически истолковывает основные эстетические категории, подчеркивая, что прекрасное и возвышенное действительно существует в природе и в человеке, а трагическое как ужасное в человеческой жизни и комическое как критика несовершенства в природе не встречаются.
Чернышевский вступил на путь борьбы за переустройство жизни в соответствии с высшими интересами человечества. Теорию «общинного социализма» А. Герцена Н. Чернышевский дополнил идеей революционных политических преобразований.
М.А. Бакунин (1814-1876) – анархист, противник государства, которое считал источником зла и насилия. М. Бакунин полагал, что народ – социалист и революционер по инстинкту, его надо бунтовать. М. Бакунин прошел сложный путь идейных поисков, у него была трудная жизнь, связанная с политической борьбой. В кружке Станкевича он изучал немецкую классическую философию. Одно время был убежденным гегельянцем. В духе консерватизма истолковывал формулу Гегеля «все действительное разумно, все разумное действительно». Затем Бакунин учился в Берлине, примкнул к «левым гегельянцам». От консерватизма перешел к пропаганде разрушения всего устаревшего. Был приговорен русским царизмом к смертной казни, сидел в тюрьмах, был сослан в Сибирь, бежал из ссылки в Англию. Жил затем в Италии и Швейцарии. Участвовал одно время в работе I Интернационала, выступал против К. Маркса и марксизма. Бакунин защищал позицию анархизма, материализма и атеизма как интеллектуальную базу освобождения личности. Он утверждал, что всем истинно свободным людям государственная власть не нужна. Общество будущего видел как свободную федерацию земледельческих и фабрично-ремесленных ассоциаций.
Ф.М. Достоевский (1821-1881) – великий писатель, автор романов «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и др., проникнутых «болью о человеке», оказал заметное влияние на развитие мировой философской и художественной мысли.
В 40-е гг. Достоевский входил в кружок "петрашевцев", выступавших за насильственное свержение царизма и устранение крепостничества, за что был приговорен к смертной казни, замененной каторгой. В 60-80-е гг. он возглавил движение "почвенников" (Ф.М. Достоевский, Ап. Григорьев, Н.Н. Страхов), сочетавших славянофильство с западничеством.
Достоевский считал, что основой, "почвой" общественного развития является православный народ – "богоносец", сохранивший заповеди Христа о всепримиримости и всечеловечности. Как гуманист Достоевский сурово осуждал политическое насилие над народом, а человеку внушал мысли о покорности, восклицая: "Смирись, гордый человек! Смири свою гордыню!" Идейно-политическую борьбу называл недоразумением.
Миссию русского народа Достоевский видел в объединении славянских народов путем нравственного совершенствования, приобщения к христианской истине. Идя таким путем, Россия сама спасется и спасет Запад от "ужасов социализма", безбожия, насилия над личностью.
Достоевский отстаивал идею самоценности человека, у которого разум подчинен воле, а человеческую психику объявил недоступной разуму. Человеческий разум не способен оградить от эгоизма, цинизма и зла, поскольку человек склонен к мучительству и наслаждению мучениями.
Л.H. Толстой (1828-1910) – гордость русской культуры, писатель с мировой славой, создатель романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение», повестей, рассказов, статей. Он создал религиозно-этическое учение, получившее название «толстовство», которое отразило интересы патриархального крестьянства.
Учение Толстого охватывает коренные проблемы бытия: мира, человека, смысла жизни, переустройства общества. Убежденный гуманист, Л. Толстой искренне желал народу счастья, благополучия, подверг суровой критике общественное устройство в России как несправедливое, построенное на угнетении простого человека. Он отрицал цивилизацию, поскольку она недоступна простому народу. Вместе с тем отрицал и государство, служащее богатым, церковь, которая обещает рай на небесах, тогда как, по заповедям Христа, его надо обрести на земле.
Настоящий путь "спасения" виделся Толстому в "истинной" религии, которую он назвал "религией любви, братства людей", отнеся к промежуточному пути "непротивление злу насилием", ибо зло нельзя искоренить злом, как нельзя тушить огонь огнем.
Бог в учении Л. Толстого – это всеобщий разум и высший закон нравственности, познание которого – главная задача человечества и разгадка смысла жизни. Ни естественные науки, ни философия, ни социология не дают разгадки проблемы, так как способны поставить вопросы "что?" и "почему?", но не могут сказать "зачем?" Разум корректирует надразумное знание народа. Это знание заключается в вере, дающей ответ на вопрос о смысле жизни человека, который состоит в совершенствовании себя и общества.
Цель жизни указана Христом: "Будьте совершенны, как Отец ваш небесный", и достигается она выработкой в себе любовного общения со всеми людьми, установлением царства Божия внутри нас и вне нас. Надо самим сделаться лучше, не делать зла, не участвовать в насилии и не одобрять его.
С этими требованиями нравственности были связаны и социально-политические взгляды Толстого. Главную роль он приписывал принципу ненасилия. Он отвергал идеалы классовой борьбы, потому что они разделяли людей, противопоставляли их друг другу и озлобляли. Но "злом нельзя пресечь зло". Этот путь породит еще большее зло и насилие, чем то, что есть теперь. Насилием не устранить насилия. Всякое насилие безнравственно. Что ему противопоставить? – Ненасилие.
Толстой считал, что ненасилие не ведет к покорности и смирению. Напротив, в нем он видел средство сопротивления насилию. Толстой не призывал к революции, он искал иные пути устранения социального зла. Ему принадлежит разработка целой программы неучастия в государственном и ином насилии. И эту программу в значительной мере применил затем на практике выдающийся лидер индийского освободительного движения М.К. Ганди, считавший себя учеником Толстого.
Свое учение Л. Толстой называл религиозным анархосоциализмом, центральной идеей которого был отказ от всех форм насилия, от всевластия государственных структур, неизменно приводящих к насилию; он апеллировал к крестьянской общине как основе общества, построенного на принципах добра и любви.
Русская православная церковь усмотрела в личности Л. Толстого носителя непомерной гордыни и предала его проклятию, отлучила от церкви. Социалисты же в лице В. Ленина называли Л. Толстого «зеркалом русской революции».
Н.Ф. Федоров (1828-1903) – один из оригинальнейших русских мыслителей. Его труды вливались в поток своеобразной модернизации христианской философии в России. В них видны неожиданные переходы к просвещенной вере, к натурализму, к деятельной жизни, к достижениям науки... Он ищет благородный путь развития для России.
Федоров отмечал необходимость для философии найти, наконец, потерянный смысл жизни, понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно этой цели. Он говорил о необходимости движения от понимания к осуществлению цели, для чего разрабатывал свой проект лучшего мира. Федоров выступил против культа знаний и идей, против созерцательной позиции философии. Он критикует преклонение перед всем естественным, данным. Разумное существо способно управлять делами природы, считал Федоров, может творчески решать исторические задачи. Сам Творец не все выполнил в природе.
Н. Федоров резко говорил об отвлеченном характере науки и философии, об их бездейственности, и в этом он видел проявление первородного греха. Согласно Н. Федорову, можно и нужно связать мысль и действие. Сила спасения уже есть, уже пребывает в мире. Человечество – орудие Божие. И все теперь, после Христа, зависит от людей. Дело человеческое пойдет далеко – по всей Вселенной. Для того и создан человек.
В трудах Н. Федорова обосновывается идея целостного человечества. Он против людской разобщенности, за братские отношения, а кроме того, за восстановление памяти и жизни умерших поколений. Идея воскрешения, преодоления смерти – главная в проекте Н. Федорова. Его позиция состояла в том, что жить нужно не для себя и не для других, а со всеми и для всех. Реализуя эту идею, люди должны войти в царство Божие.
Современная цивилизация, отмечает Федоров, выросла на "небратской" жизни, на страхе и насилии. Сложилась купеческая, утилитарная нравственность. Все служит торговле, войне и барышничеству. Любовь и братство превратились в пустые слова. Федорова особо удручает господство смерти. В ней он видит космическую неправду. И эта неправда поселилась также среди людей.
Сам Федоров зовет к борьбе со смертью. Он похож на фантаста. Говорит о вселенской регуляции в направлении окончательного одухотворения природы. В своих конструкциях он осуществляет выход за пределы Евангелия, полагая, что спасены, т.е. вырваны у смерти, могут быть не только избранные, но все. Федоров искал силы и возможности преодоления процессов энтропии, рассеяния, разложения. Верил в магическую способность объединения людей, в возможность усвоения и проявления могущества благодати через великое общее дело – в условиях общества, которое называл "психократия".
Конечно, Федоров – утопист. Но он великий утопист. Он стремился изжить пустой утопизм, подключая к этому процессу собственную праведную жизнь. Доказательство знания действием Федоров осуществлял своей личной судьбой: он был уверен, что его бескорыстная общественная деятельность включается в совокупный мироисправляющий процесс.
Сегодня мы хорошо осознаем имманентную незавершенность проекта Н. Федорова. Его концепция может быть названа идеалистическим натурализмом, она противоречива. Выражая уверенность в продвижении людей ко всеобщему благу, он делал упор на фактическое устремление людей к единству, не опираясь на законы борьбы социальных сил, не исследуя причин, задающих прогрессивный вектор преобразований земной цивилизации.
B.C. Соловьев (1853-1900) – один из самых ярких русских философов. Он прожил короткую, но насыщенную и плодотворную жизнь. К двадцати годам он получил три образования, защитил магистерскую диссертацию; после защиты докторской диссертации он начал преподавать в университетах. Однако после выступления вместе с народовольцами против смертной казни для террористов -убийц царя Александра II он был вынужден подать в отставку. Зарабатывал на жизнь публицистикой. Вел отдел в словаре Брокгауза и Эфрона. Оставил после себя объемное наследие, которое до конца не изучено. Главные его труды – «Критика отвлеченных начал», «Чтения о богочеловечестве», «История и будущность теократии», «Россия и вселенская церковь», «Оправдание добра». Концепция В. Соловьева представляет собой религиозно-идеалистическое учение, основанное на признании божественности бытия. В ней онтология называется теологией, гносеология – теософией, социология – теократией.
Бытие, по Соловьеву, распадается на безусловное, абсолютное, совершенное (Бог) и несовершенное обусловленное, неистинное (природа). Промежуточное положение отводится человеку (богочеловек). В гносеологии, продолжает Соловьев, истина, добро и красота постигаются лишь "цельным" знанием, синтезом мистического (религия), рационального (философия) и эмпирического (науки) знания, т.е. единства веры, мысли, опыта. В социологии Соловьев развивал мысли о духовном союзе людей, который благословляется религией, объединяющей силой общества. Идеалом общественного устройства объявляется всемирно-теократическая монархия, для достижения которой необходима "вселенская" религия на основе союза католичества и православия.
Концепция Соловьева содержит прогностические компоненты, указывающие на логику развития мира и человеческого общества в направлении богочеловечества. Важным понятием философии Соловьева является "мировая душа", которую философ называл Софией. София – это идеальный план мира, который отражает его упорядоченность. В понимании Соловьева София – это тайна, которая вобрала в себя сущность мира. Для философа София была также воплощением любви.
Соловьев положительно оценивал научное знание. Для него истина могла быть достигнута только в результате синтеза философии, науки и богословия. Он полагал также, что любое знание должно иметь практическую направленность.
Ему принадлежит разработка понятия "русская идея". Для Соловьева русская идея имела смысл лишь в связи России со всем человечеством. По его мнению, ни государство, ни церковь, ни что-либо другое не может выразить русской идеи независимо от единства мира. И смысл существования России заключается в объединении, консолидации всех христианских стран.
5. РУССКОЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
В конце XIX – начале XX вв. возникло течение, получившее название «духовное возрождение». Оно представляло собой продолжение русского религиозного реформаторства, толчок которому дал Вл. Соловьев.
Течение новых "соловьевцев" было представлено именами Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, С.Л. Франка и др. Многие из них какое-то время сочувствовали марксизму, входили в движение "легального марксизма", но не принимали революционной направленности марксизма. В конце концов, покинув лагерь марксистов, представители "школы Соловьева" стали активно выступать против "друзей народа" и "друзей пролетариата". От марксизма они шли к "новому религиозному сознанию" – через субъективный идеализм кантианского толка, а также через символизм и мистицизм.
Это течение ставило целью преодоление материализма, защищавшегося "школой Чернышевского"; объявляло своей задачей богоискательство, выдвинуло лозунг защиты "настоящей русской философии". В 1909 г. представители "духовного возрождения" выпустили сборник статей "Вехи", в котором выступали против радикализма, против революционных настроений русской интеллигенции. Последняя обвинялась в абсолютизации ценностей разрушения. На фоне революционных событий 1905-1908 гг. это была идейная контрреволюция.
Однако социально-политические оценки "веховства" весьма преходящи, они имеют отношение лишь к конкретному моменту русской истории, именно к первой русской революции, когда страсти противоборствующих сторон горели ярким пламенем. Теперь же можно увидеть в статьях названного сборника более фундаментальные пласты мысли. В них просматривается замысел проектирования будущей духовной жизни и России, и объединенного человечества. Во главе этой жизни предполагалась обновленная интеллигенция, несущая с собой внецерковную христианскую философию, а также просвещенную сквозь призму науки веру и облагороженное христианством знание. Например, Н. Бердяев подчеркивал, что высшее знание, которое он связывал с философией, должно подниматься над злобой дня. Он же говорил, что интересы творчества нельзя ставить ниже интересов распределения и уравнения. Он сетовал по поводу низкой философской культуры русской интеллигенции XIX века, отмечал, что в трудах русских мыслителей прошлого не были освещены вопросы о духовной культуре (в качестве исключения называл П. Чаадаева, В. Соловьева и Ф. Достоевского). Н. Бердяев сетовал на то, что интересы теоретической мысли у нас принижены, говорил о необходимости перехода к конкретному идеализму и онтологическому реализму, к живому бытию – через мистическое постижение. Философ выступал за примирение знания и веры. Вместе с тем он говорил, что современная ему мистика нуждается в философской объективности. Но еще более настаивал на том, что нужна положительная религия, способная синтезировать знания и веру. Такую задачу уже позже в России стремились решить П. Флоренский, А. Мень и др.
В статье С. Булгакова «Героизм и подвижничество» отмечалось, что ожидания, связанные с русской революцией, не оправдались, государство не обновилось и не укрепилось, в стране наступил мрак: идут многочисленные смертные казни, налицо необычный рост преступности, огрубление нравов; в литературе – вал порнографии... С. Булгаков говорил, что отныне утратили значение как наивная вера славянофилов, так и розовые утопии старого западничества. Разрушительная энергия революции оказалась сильнее созидательной. Мыслитель отмечал, что для преобразования России нужен образованный класс с русской душой, с просвещенным разумом, с твердой волей. Он признавал героизм старой интеллигенции, устоявшей под полицейским прессом и выросшей на клятве борьбы с самодержавием. К основным чертам русской интеллигенции С. Булгаков относил мученичество, мечтательность, утопизм, антимещанство. Но вместе с тем указывал на наследственное барство, неприятие упорного труда. Разумеется, С. Булгаков говорил не обо всей русской интеллигенции. В его характеристике нет упоминания о разночинной и народнической интеллигенции, нет речи о революционной интеллигенции марксистского направления. Зато, будучи религиозным мыслителем, он подчеркивал переход значительной части интеллигентов на позиции атеизма. Этот атеизм, по мнению С. Булгакова, неглубок и берется на веру, как религия наизнанку. Для многих образованность и просвещенность стали синонимами религиозного индифферентизма. На атеизме, полагал С. Булгаков, культуру не построишь, поскольку для культуры важны высшие абсолютные ценности, а они даются только религией.
С. Булгаков имел в виду христианскую религию, а мечтал об общечеловеческой культуре как предмете веры и идеале. Но ведь человечество неоднородно по культуре и по фундаментальным верованиям. Есть разные типы мировой культуры, разные системы высших ценностей. Взять, к примеру, ценность человеческой жизни. Мы видим, сколь по-разному она воспринимается христианством, исламом, иудейством или буддизмом. Столь различны жизненные пути и обстоятельства подвига людей, что не может быть универсальных высших ценностей для оправдания человеческой судьбы, жизни и смерти. Добавим, что разные культуры во многом оказываются несовместимыми, ведут подчас кровавую борьбу друг с другом. Как в таких условиях сформироваться идеальной общечеловеческой культуре, построенной на традиционных религиозных ценностях, непонятно.
Зато С. Булгаков понятен как религиозный деятель, когда противопоставляет революционному настроению мораль христианского смирения. Он говорил о необходимости религиозного подвижничества в бушующем страстями земном мире. Такое подвижничество предполагало неукоснительное исполнение религиозного долга. Этот долг требует всего человека, его душу, сердце, волю, и тогда христианин становится исполнителем воли Провидения. Неясно, однако, готов ли С. Булгаков сохранить за человеком какое-либо право на самодеятельность, на личную ответственность за собственный выбор в поведении, на личный вклад в культуру.
Идею личного подвига, личной ответственности защищал в этом же сборнике П.Б. Струве, который прямо говорил, что не может быть религии не только без идеи Бога, но и без идеи личного подвига. Здесь же он утверждал важность личного самоусовершенствования человека и критиковал атеистический социализм за игнорирование этой идеи. П. Струве в своих трудах представил христианское мировоззрение как нравственное философское зеркало, но отразилось в нем не столько православие, сколько протестантизм с его формулой «Бог в сердце человека, а не во внешних институтах давления на религиозную совесть».
П. Струве упрекал русскую интеллигенцию за то, что она не внесла в революционный процесс ни грана религиозной идеи. Он даже утверждал, что ее действия, религиозные (легковерные, фанатичные, нетерпимые) по форме, были безрелигиозны по содержанию. Интеллигенция, да, была радикальна и требовательна в материалистической устремленности. Но радикализм допустим только в следовании религиозной идее, в служении высшему началу. В решении же земных задач религиозная идея способна смягчить жесткость и жестокость революции. По Струве получалось, что нашей интеллигенции надо было заниматься не подталкиванием людей к ужасам революции, а воспитанием в демократической среде христианского смирения и согласия. Он явно не хотел видеть, что и неудачная, и "ужасная" революция воспитывала общество. Царь, получив новое "воспитание", научился лавировать, вести хитрую игру с революционными силами. А народное движение в лице многих его вождей воспиталось в вере, что против ненавистного самодержавия надо действовать более решительно и смело, уметь вовремя "дать ему последнего пинка". В событиях уже второй революции 1917 г. одной стороне воспитание не помогло; вторая же сторона восторжествовала.
Однако П. Струве прозорливо подметил, что в политике, и в революционной политике непременно, важна не только идея возбуждения негативных чувств и страстей; в ней еще должна быть представлена идея воспитания. Иначе общественный переворот превращается в гражданскую войну, что и произошло после большевистского переворота в России.
Надо отметить, что вхождение в революцию любых политических сил, принимающих идею опрощения, считающих культуру ненужным и непозволительным барством, не прошедших хотя бы низших ступеней современной культуры, способно при определенном раскладе сил породить избиения и уничтожение культуры и её прямых носителей. Об этом предупреждал в "Вехах" C.JI. Франк в статье "Этика нигилизма". Появление в советской России 20-х гг. XX в. класса "лишенцев", т.е. деятелей культуры, лишенных всех прав, подтвердило верность его предостережения. Он оказался дальновидным и в том, что социализм, лелеянный многими русскими интеллигентами, не мог стать абсолютной и вечной формой народного счастья.
Впоследствии авторы этого сборника прошли трудными личными путями духовных исканий. Из их рядов вышли виднейшие русские мыслители; некоторые, не по собственной воле оказавшись за рубежом, составили идейно-философскую оппозицию "победившему коммунизму" в России. Бывшие "веховцы" стали решительными критиками русского и советского марксизма.