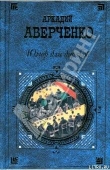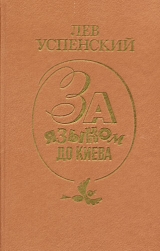
Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Лев Успенский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
ПРОЦЕСС
И так им и прошения тамошние люди пишут: «Суди меня, судья неправедный!»
А. Н. Островский
Суд Соломона – мудрый и милостивый суд, основанный на разуме и совести.
Фразеологический словарь
Дед мой с материнской стороны – Алексей Измайлович Костюрин, прежде чем скончаться в 1902 году, «наломал дров», если только можно в разговоре о начале века употреблять такого рода выражения.
Еще в восьмидесятых годах прошлого века он был всеми уважаемым, разумным и рачительным хозяином, главою семьи, состоявшей из жены, сына и трех дочерей.
К концу девяностых годов все это пошло хинью.
«Щукинский барин» в понимании окрестных мужиков явно стал «цудить». Он забросил все дела, опустился и превратился ни с того ни с сего во что-то среднее между Федором Павловичем Карамазовым, если от того полностью отнять все признаки «инфернальности» и оставить только «и цыпленочку», и Мишукой Налымовым А. Толстого. Впрочем, конечно, он был и ни то и ни это, а сам себе образец. И почему такое с ним случилось, я знаю очень хорошо.
В свое время я нашел на щукинском чердаке дедовскую приходно-расходную книгу за годы с 1891-го по 1901-й. В ней нет ничего, кроме того, что в таких книгах и должно содержаться, – записей трат и доходов.
Но, на мой взгляд, мало можно найти на земле более трагических по содержанию рукописей.
На протяжении нескольких сотен разграфленных, как и положено в гроссбухах, страниц даже самый беглый и не посвященный в тайны психиатрии взгляд безусловно увидит историю полного и катастрофического разложения личности под влиянием какого-то – я не берусь определить, какого – психического заболевания.
Начальные листы книги исписаны аккуратным, четким почерком. Все, даже самые малые, поступления в дом оприходованы. На каждую, даже ничтожную «убыль» приложены оправдательные документы: там корявая расписка золотаря, тут – почтовая квитанция. Во всем заметна система и привыкшая к строгому порядку твердая рука.
Но по мере течения годов все изменяется, начиная с почерка. Сначала буквы начинают плясать, слова сливаться друг с другом. Концы строк, недавно вытянутые как по уровню, все сильнее загибаются то вниз, то вверх. Начинают выпадать буквы из слов, слова из предложений… Почтовые квитанции сначала приклеиваются уже не горизонтально, а наискось, потом «изнанкой» кверху, и наконец уж – одна прямо, вторая – вверх ногами…
И вот нельзя различить ни слов, ни цифр – все превратилось в бесконечные пряди полустрок, полуросчерков, вытянутых слева направо по страницам, как космы водорослей в струях быстротекущей реки… Нельзя уже разобрать хотя бы двух-трех слов подряд. И только периодически, на равных расстояниях друг от друга, видимо, примерно раз в неделю, из этой свистопляски чернильных росчерков выделяется, как какое-то «менэ-тэкел-фарес», как таинственное и грозное напоминание о том, что тот, кто эту кудель запутанных линий вытягивал по строчкам неверной рукой, когда-то был человеком, одно по-прежнему ясно и четко выведенное предложение:
«Ольге Жуковой – 1 р.».
Словом, вопрос ясен: дворянин Алексей Костюрин к старости лет своих заболел душевной болезнью.
Это вызвало два неизбежных следствия. Во-первых, распалась семья. Сын – я не знаю, как именно – погиб при несчастном случае где-то в Царстве Польском (он был офицером). Младшая дочка скончалась от менингита. Старшая вышла замуж, и, наконец, жена, моя бабушка, и средняя дочь, моя мать, не в силах выносить того, что происходило на их глазах с дедом, уехали от него в Петербург.
Это было первым следствием. Вторым, тесно связанным с первым, оказалось вот что. Как и естественно было в те времена, потерявшего всякую власть над собой человека немедленно окружила целая шайка приспешников и поставщиков удовольствий, охотно соглашавшихся за свои услуги получать не наличными, а векселями, которые дед вскоре стал подписывать, даже не читая, даже не вглядываясь в проставленные там цифры, а то и не заботясь о том, проставлены ли они на самом деле.
Словом, едва только гроб с прахом дворянина Костюрина опустили под кирпичный свод родового склепа в Михайловом Погосте, у южной стены старой голубенькой деревянной церкви Успения, как наследницам его – бабушке, маме и тете Жене (к этому времени обе дочери были уже замужними) – были вчинены многочисленные иски по опротестованным векселям, которые предъявили разные лица.
Что это были за «лица»? Я бы мог перечислить здесь большинство из них поименно, но зачем? У них родились и уже состарились дети, у них, возможно, живы внуки… Жизнь и детей и тем более внуков ничем уже не напоминает жизнь их отцов и дедов… Так чего ради смущать их покой моими «разоблачениями»! Скажу одно: держателями векселей были несколько человек из крестьян побогаче, да из числа мещан, занимавшихся кое-каким ремеслом или торговлишкой в принадлежавшем деду торговом Михайловом Погосте. И общая сумма всех их исков (иски эти каким-то образом вскоре, очевидно по сговору между векселедержателями, объединились в один совокупный иск) достигла, как мне сейчас представляется, двадцати тысяч рублей. С тех пор как это случилось, прошло семь десятков лет. Того сложнее: за эти годы смысл и значение, которое мы вкладывали в понятие «рубль» (или «тысяча рублей»), столько раз изменялись, что так просто названная сумма решительно ничего не говорит слуху и взгляду моего сегодняшнего младшего современника.
Попробую показать, что такое были тогдашние двадцать тысяч.
Ну, скажем, в Псковской губернии тех дней на эти деньги можно было бы приобрести имение примерно в четыреста или пятьсот десятин («душевой» надел скобаря-крестьянина не превосходил четырех десятин с какими-то десятыми).
Чтобы выплатить все деньги по этим искам, отцу моему, в те годы надворному советнику и петербургскому чиновнику, пришлось бы отдавать все, что он получал в качестве жалованья, в течение по меньшей мере пяти лет. Моему же дяде Михаилу Тимофееву, в то время артиллерийскому армейскому поручику, понадобилось бы для такой расплаты по меньшей мере лет десять, если не больший срок, – военные в те времена получали несравненно меньше «штафирок».
Вспомним Антона Павловича Чехова: и за свое Мелихово, и за ялтинский участок земли, и уж тем более за еще одну крымскую «землицу», которую он на какой-то короткий срок приобрел между Ялтой и Байдарскими воротами [1]1
За это именьице Кучук-Кой – всего 2000 рублей, за Мелихово – 13 000 рублей.
[Закрыть], он уплатил цены существенно меньшие, нежели эти двадцать тысяч.
Напротив того, всего лишь пятьдесят тысяч рублей Адольф Маркс заплатил Чехову за право пожизненного издания и переиздания всего, что им было ко времени подписания договора написано; а ведь это написанное было три четверти того, что мы теперь именуем: «Чехов».
Да что там говорить: имея двадцать тысяч рублей, человек не слишком притязательный мог спокойно купить преуютненький домик в любом русском уездном городке и на оставшиеся средства прожить с небольшой семьей – не роскошно, конечно, но и отнюдь не влача нищенского существования – долгую и мирную жизнь, ни в чем особенно не нуждаясь.
Словом, двадцать тысяч рублей в тысяча девятьсот втором году составляли «куш», отдать который кому-то ни за что ни про что, в совершенном убеждении, что деньги эти были бесчестным образом выманены у человека умственно расстроенного, было и принципиально возмутительно, да и фактически немыслимо.
Впрочем, почему «немыслимо»? Мыслимо! Стоило продать Щукино и полученные деньги обратить на уплату по иску, и все было бы кончено.
Да, но ведь и для бабушки, и для тети Жени, и в особенности для моей мамы «продать Щукино» было равносильно жизненной катастрофе, полному нравственному краху. «Наше Щукино» было тогда для них (а после и для нас с братом), может быть, даже чем-то большим, нежели «вишневый сад» для его растерянных владельцев.
В конце концов зятья деда – мой отец и уже упомянутый мною дядя Миша – без особенного, может быть, желания приняли на себя реальную ответственность по этому делу и разрешили женам отказаться от уплаты по иску. С этого дня над моей семьей, а также над моим детством и юностью взошло и нависло мрачноватое, попервоначалу имевшее вокруг себя ореол какой-то полусказочной таинственности, слово процесс.
Вот, скажем, бабушка тихо и мирно живет с нами в Петербурге, покуривая свой любимый табачок «Бр. Месаксуди» из гильз фирмы «Режи», повязывая от нечего делать хорошенькими костяными или деревянными челночками причудливые кружева, именуемые «фриволитэ», из которых она потом изготовляет красивые покрывала на кровати. И вдруг она начинает нервничать, тревожиться, суетиться и внезапно, уложив свои саквояжи, уезжает на какое-то время в Великие Луки.
Это – процесс. В Луках живет нотариус Косицкий. Он на нашей стороне. Она поехала с ним советоваться.
Или мы – весной в Щукине: четверо ребят, мы с братом и наши кузины, девочки Тимофеевы, бабушка, мама, тетя Женя – все. Идет май; цветут яблони. Внезапная телеграмма:
«Буду среду необходимостью личных переговоров Осокин».
Это – процесс: нашему петербургскому поверенному, адвокату Осокину вздумалось, может быть, уточнить какие-то данные в беседе со всеми ответчицами, а возможно, и просто выяснить что-то на месте.
И адвокат Осокин в красивом рединготе, в отличной летней шляпе приезжает ранним утром на нашей линейке из Локни и целый день ведет с «ответчицами» таинственные переговоры, а вечером, блаженствуя на балконе, тонущем в сиреневых кустах, по-адвокатски разглагольствует уже от нечего делать и уговаривает молодых и приятных на взгляд доверительниц своих не упускать той прелести, которая окружает их тут, в этом дворянском гнезде, и хоть по разу, по два в вечер ходить нюхать запах цветущих яблонь.
Войти на закате, как в свежие волны,
В прохладную глушь деревенского сада… —
путая слова, декламирует он Бальмонта, а я слушаю и понимаю, что и эти стихи – тоже процесс…
А то – другой день, вернее, другой поздний вечер в том же Щукине, году, наверное, в 1906-м.
Осень, темно. За стенами – ливень, буря, завыванье ветра. Мы – все те же, да еще фрейлейн Валерия Прейс, – сидим в столовой, не то играя в лото, не то попивая вечерний чай.
Под потолком жарко горит керосиновая лампа под белым фаянсовым абажуром. На стене тикают, нет, не ходики, конечно, – я до 1917 года и слова-то такого не слышал, – а часы с гирями: одна гиря для хода, другая – для боя. Очень красивые и дорогие часы!
Тепло и уютно, а за окнами – буйство стихий. В столовой, на окнах, выходящих на балкон, – глухие, снаружи обитые железом, ставни. В окна зала из темноты, «как путник запоздалый», стучит ветками каштановое дерево; с крыши льет на неисправный железный лоток с грохотом дождевая вода.
Время от времени темный зал вдруг как бы весь вспыхивает от блеска молнии: на секунду вырывается из непроглядной тьмы китайский бильярд слева от входа, наши детские качели, недвижно висящие в дверях «темной лакейской», две отличные гравюры на стенах – «Мазепа, преследуемый волками» и «В читальном зале».
Потом все гаснет, и я – естествоиспытатель по натуре – начинаю считать секунды до громового удара, а бабушка встает и несет в другую «лакейскую» – «длинную» – образок святого Серафима, чтобы поставить его лицом к текущему дождевыми струями стеклу на защиту нашего дома…
Да, конечно, тут, в столовой, тепло, уютно, но… В грозу все-таки всем жутковато. Неспокойно.
И вдруг на улице яростно, с хрипом и подвыванием залились псы: сначала цепной – Разбой, потом «бегающие» – Каштан и Цыган. По мостику через канаву прогремели колеса… Бабушка, мама и тетя Женя в тревожном недоуменье поднимают брови: «Кто это может быть? В такое ненастье, ночью?»
Мама в нашей семье всегда была главной «храбрейшиной»: однажды она даже застрелила из маленького дамского пистолетика хорька в цветнике и потом дня три по нем плакала. Мама командует Дуняше, летней горничной. Дуняша хватает настольную лампу на длинной ножке. Они вдвоем трогаются навстречу неизвестному в темные сени, но не успевают далее раскрыть дверь.
Дверь распахивается сама, и на пороге появляется среднего роста бородатый человек, в раскисшей от дождя шляпе, в темном плаще, с которого льют потоки воды. За ним наш кучер Илья с фонарем несет мокрый желтый чемодан…
Человек, похожий на цыгана, скидывая на ходу плащ, идет спокойно, как будто он каждый вечер сюда заезжает, прямо к нам в столовую.
Бабушка, вставая из-за стола, недоуменно вглядывается в «путника запоздалого».
– Кто это? Что это? – скорее удивленно, чем любезно, произносит она.
– Петров, Петров, Петров! – спокойно отвечает незнакомец, отжимая мокрую бороду и вытирая руки носовым платком. – Член суда Петров… О, да у вас рояль! – внезапно прерывает он свои объяснения, даже не успев подойти хотя бы к бабушке, к ручке. – И кто же играет? Нет, что вы, какой чай?! Что-нибудь в четыре руки, а? «Фингалову»? Ну что ж, давайте «Фингалову». А потом вот можно будет и чайку попить.
Что это было? Это был процесс…
Я был совсем крошечным – процессуже шел. Мне стало десять лет, процесспродолжался. По-прежнему бабушка ездила в Великие Луки к Косицкому. По-прежнему от времени до времени либо у нас появлялся элегантный Осокин, или кто-либо из старших ездил к нему не то на Московскую, не то на Ивановскую. Дело переходило из окружного суда в судебную палату, возвращалось обратно куда-то вниз – не знаю, в губернский или уездный суды. Я уже кое-что понимал. Мне уже стало известно, что дедушку кто-то не хочет признать сумасшедшим, но что экспертиза во главе с профессором Бехтеревым признала его «душевнобольным» и что теперь все будет хорошо…
Однако ничего хорошего не происходит, и процесспродолжается, а к профессору Бехтереву у меня большого почтения нет: в Академическом саду вместе с нами гуляет его дочка или внучка, и няня у нее – «чухонка», и наша няня относится к ним свысока. «Ахти матушки! – говорит она. – Это ж надо, к ребенку в няньки чухонку взять! Ну что у ее за разговор: „Та-та-та, ла-лала-ла!“ – а понять ничего невозможно. Вот по-нашему сказано – свинья, так на нее посмотришь, и видно: свинья и есть. Уж ее собакой не назовешь… А у них…»
Да, экспертиза была, и дед был признан невменяемым, но «противная сторона» оспорила заключение экспертов, и все завертелось сызнова…
Мне теперь представляется, что если бы мои родители знали, что в Щукине на чердаке лежит под грудами бумаг та дедушкина приходно-расходная книга, и, раздобыв ее, предъявили бы суду в качестве «вещественного доказательства», вопрос был бы разрешен мгновенно. А впрочем, вполне возможно, что я и ошибаюсь.
… Процессдлился, и остановить его было уже немыслимо, и он вносил в нашу жизнь немало неприятностей.
Отец и, я полагаю, дядя Миша Тимофеев вошли в крупные долги. От времени до времени у нас появлялись кредиторы «за процентами» – какая-нибудь Лидия Никаноровна Заумова со своим розовощеким сыном-студентиком Митенькой, и бабушка ходила, держась пальцами за виски – мигрень, папа нервничал и ворчал, что за такие деньги он мог бы давным-давно приобрести великолепную виллу на Южном берегу Крыма или возле Сочи: и там были «удельные земли»; мама рвала и метала.
Но деньги аккуратнейшим образом выплачивались: «Я не Александр Николаевич Елагин, не дворянин! Александр Николаевич чем больше должен, тем блаженнее себя чувствует… Я так не могу… Я разночинец!»
И вот наконец наступил вожделенный день, когда папа радостно сообщил маме, что все кончено; последняя сотня рублей выплачена. И Щукино очищено хоть от этих долгов.
Щукино-то очистилось, но процессне закончился. И что всего любопытнее, так это то, что папе удалось выплатить последние взносы в погашение долга к рождеству тысяча девятьсот шестнадцатого года. За два месяца до Февральской революции наше Щукино стало вроде как бы наполовину нашим! А процесс? Процесс по-прежнему шел, и никому не было ясно, какая же судебная инстанция сможет наконец распутать этот от года к году причудливей затягивающийся гордиев узел…
Для людей иного склада, чем мои родители, случившееся могло обернуться трагедией. Многие, терявшие значительно меньше, чем они, в семнадцатом году впадали либо в полное отчаяние, либо в неистовую ярость.
Папа отнесся к происшедшему с ним иронически. Много позже я задал ему вопрос, очень ли на него подействовал такой «реприманд неожиданный» со стороны истории. Отдать долги за два месяца до революции!
– Ну, как? Глупо, конечно, получилось… Но, с одной стороны, все это ваше Щукино стоило в десять раз меньше, чем мое положение… и чин, и пенсия, и эмеритура… Это все было страшно чиновникам, а ведь я был, слава богу, не чиновник, а инженер… Я не сомневался, что найду себе работу… в новой стране… А потом… Ведь, сказать по правде, пока дело тянулось, деньги-то в цене все падали, падали, падали… Тысяча рублей в девятьсот втором, когда я их брал в долг, было очень много. Тысяча в 1916-м… Нет, это уже была совсем не та тысяча!.. Так что ж особенно горевать?
Впрочем, не только в глазах одного папы, но и в наших глазах все обернулось так, что мы и думать забыли не только о несвоевременной расплате с кредиторами, но даже – страшно сказать! – и о самом процессе. Нам – мы, правда, не рассуждали об этом, – нам могло бы (да и должно было бы!!) показаться, что он… Ну, потух сам собой, как гаснет лесной пожар в тот миг, когда на него обрушивается гроза и буря с ливнем и дождем.
Но это было бы с нашей стороны наивностью. Как оказалось, такие «процессы», как это ни странно, обладают способностью переходить даже из эпохи в эпоху.
Разразившийся революционный ураган все перевернул в нашей семье. Действительный статский советник В. В. Успенский, на короткое время оставшись без службы (какие же теперь уделы!), поступил вскоре на работу в Петроградскую городскую думу к М. И. Калинину, а затем, переселившись в Москву, стал одним из основателей и руководящих работников Высшего (или Главного, не помню, которое название было самым ранним) геодезического управления.
Мы – мама, бабушка, брат Вовочка и я – перебрались из голодающего Питера в хлебное и дорогое нам Щукино. Из забавы оно вдруг превратилось для нас в единственный источник средств существования. Применяя навыки, полученные, так сказать, в детских барских играх, мы стали всерьез и умело пахать землю, косить луга; пекли хлебы, доили коров, стригли овец, – где нам было думать о процессе? Нам было не то что ясно, что он «приказал долго жить», нет, просто мы о нем забыли. Но вот он-то о нас не забыл и в один прекрасный день внезапно напомнил о себе.
Не буду стараться вспомнить, когда именно это произошло: не вспомню. Мы работали у себя дома, как каждый день. Была ранняя осень, и мы «домолачивали житишко» (или «овсишко»: скобари тех времен вообще никогда не «молотили», а только «домолачивали». Скажешь: «молочу» – получается много. Скажешь: «домолачиваю»– и выходит, что так – кое-какие последочки)…
Внезапно на гумне, как вестник рока в античных трагедиях, появился в проеме огромных прадедовских ворот без створок Костя Селюгин, секретарь народного судьи Янисона, и вручил нам собственной, его же, Костиной, рукой начертанную повестку. Повестка была на имя гражданок Надежды Костюриной и Натальи Успенской: они вызывались в суд для слушания дела по иску к ним со стороны таких-то и таких-то шестерых истцов, на общую сумму, скажем, в девятнадцать тысяч девятьсот шесть или в двадцать одну тысячу восемьдесят рублей ноль-ноль копеек.
Откровенно признаюсь, что мы с братом, хоть и было нам с ним всего лет – мне девятнадцать, а ему семнадцать, поглядели друг на друга и захохотали (Костя Селюгин уже ушел: у него повесток было много). Смеяться нам было над чем.
В самом деле: в тысяча девятьсот втором году, когда почти одновременно родились и процесс, и мой брат Всеволод, двадцать тысяч рублей были величина. Сила!
Как хочешь прикинь: приличная лошадь стоила тогда рублей сорок. На двадцать тысяч можно было приобрести табун в пятьсот скакунов (ну, не скакунов, а средних крестьянских коней).
За двадцать тысяч можно было купить в Петербурге довольно приличный дом: не шестиэтажную громаду, конечно, но хорошенький доходный домик где-нибудь на Выборгской или 16-й линии Васильевского острова.
Очень много рабочих получали по двадцать рублей в месяц: им надлежало бы гнуть спины тысячу месяцев, чтобы отработать подобную «кучу денег». А ведь тысяча месяцев – это восемьдесят с лишним лет…
Можно было бы вложить такие средства в скромную табачную лавочку или превратить в пай в приличной аптеке и жить припеваючи всю оставшуюся жизнь.
Так было в 1902 году.
А теперь, в 1919-м, когда брату Вовочке и «процессу» минуло уже 17 лет, на двадцать тысяч рублей «керенками» (они долгое время ходили у нас купюрами по двадцать и по сорок рублей и после Октября), то есть, иначе говоря, за толстую кучу неразрезанных листов этих самых зеленовато-красноватых и рыжевато-коричневых квадратиков, с которых сконфуженно глядел на их обладателя ощипанный какой-то «керенский орел», больше напоминающий нынешних цыплят-бройлеров, – теперь на 20 000 рублей можно было в Погосте купить – ну, в самом счастливом случае – пару ягнят-летошников или подсвинка на вырост…
Судиться на такую сумму, может быть, и нашлись бы желающие, – нам, во всяком случае, это не улыбалось. Стоит нервы тратить, если взял, свез в воскресенье в тот же Погост куль ржи (девять пудов) – и иск погасишь, и еще для дела чего надо приобретешь…
Домой мы с сенсационной вестью не побежали, а продолжали тихонько работать на гумне, рассуждая, что идти на суд нам как-то и неуместно, да и не очень-то хочется.
Дело заключалось в том, что протекшие годы и революция резко переменили, так сказать, «соотношение сил» в нашей Михайловской волости. И если семнадцать лет назад существовал, с одной стороны, впавший в невменяемое состояние помещик, а с другой – пятерка или полудюжина крепких мужичков, считавших, что это им бог послал такую добычу и что грешно божьим даром не воспользоваться, то теперь в Щукине жили мы с братом, а в Погосте и окрестных деревнях – дети и внуки тех мужичков или михайлово-погостских обывателей. Их сыновья и дочери.
И за частью этих дочерей и внучек мы теперь ухаживали на гулянках, а с другой частью сыновей и внуков могли приятельствовать. И было бы крайне неудобно вдруг на судебном заседании в «дяпе», куда, очень возможно, набьется много народа, выводить в порядке судебного следствия на чистую воду и самого покойного деда, да и отцов или матерей наших нынешних знакомых и приятелей…
Да пропади он пропадом, этот куль ржи или осьмина гороха!
Так представляли себе дело мы, братья. Но, явившись домой пообедать, мы столкнулись с совершенной неожиданностью. Услышав от нас про повестку, бабушка (а в какой-то степени и мама) внезапно впали в то, что английские юристы определяют как «состояние телесного страха».
Бабушка побледнела, задрожала, руки у нее затряслись. Мама: «Ну, мамочка, что ты, возьми себя в руки!» – побежала ей за стаканом воды; но все было напрасно. Для нас-то принесенная Костей бумажка была повестка как повестка, а для них, для мамы и особенно бабушки, она была процессом.
Оказывается, он не потух, не кончился, не расплющился под развалинами старого мира. Вот он выползает из-под них и…
– Ах, ну что вы меня успокаиваете! – махала на нас руками, куря папиросу за папиросой, бабушка. – Что же я, не понимаю? Если уж мой, дворянский суд пятнадцать лет не мог признать меня, дворянку, правой, так неужели же теперь Янисон, великолуцкий оркестрант, обвинит ихи оправдает меня?
Никакие наши уговоры и рассуждения до нее не доходили.
– Зачем вы мне говорите такие глупости?! – сердилась она. – Ну при чем тут ваши керенки? Алексей Измаилович-то векселя не на керенки подписывал? Что ж они, дураки, что ли, чтобы на ваших керенках помириться? И Янисона я знаю – великолуцкий мастеровой, голытьба! Скажет: дворянка, буржуйка – и все с нас взыщет… Все! Ну что вы тогда будете делать?
Могу сказать уверенно: мы всячески старались хоть несколько ободрить бабушку, с одной стороны, и с другой – избежать неприятной необходимости принять участие в «судоговорении». Но бабушкины отчаяние и ужас были столь глубоки и непритворны, что мы вынуждены были в конце концов примириться с необходимостью явиться в суд. Мы только сделали все, что от нас зависело, чтобы убедить наших «старших», что ничего особенно страшного этот самый суд нам принести не может. С мамой это более или менее удалось; с бабушкой – ни в какой мере.
И вот в осенний звонкий день, уже с морозцем, мы с братом Вовочкой направляемся в Погост, в «дяпо».
Пожарное депо, место проведения всех мероприятий, а в том числе и постоянное местопребывание народного суда, стояло на горке, в самой возвышенной точке всего Михайлова Погоста, чуть юго-западнее почтового отделения.
Едва войдя в Погост, мы с Вовочкой поглядели друг на друга: кроме суда в «дяпе» ожидалось, видно, еще какое-нибудь привлекательное зрелище или само наше дело оказалось этакой сенсацией, но народ к «дяпу» валил валом.
Очень быстро выяснилось, что справедливо последнее предположение. Слишком много еще жило на свете Михайловских мужиков и баб, которые помнили «как сейчас» все, происходившее перед смертью моего деда в Щукине; слишком много разговоров о его последних годах ходило в окрестности, чтобы они отказали себе в удовольствии пойти «послухать», что теперь будет говорить такой-то или такая-то из бывших дедушкиных кредиторов и соблазнительниц и что расскажут новенького «щукинские мальцы», то есть мы.
Зал «дяпа» вмещал, наверное, человек семьдесят или сто. Он был полон. Народ – и бородатые деды, и молоденькие девчонки – стоял и на лестнице; мы опасались, что не пройдем, но – что вы! – нас почтительно пропустили, как героев дня.
В самом зале было изрядно накурено. Люди сидели на некрашеных скамьях и теснились у стен. В переднем углу, возле самой эстрады со стоявшим на ней столом, накрытым красным, маленькой кучкой скопились наши противники…
Я со странным чувством смотрел на них. Два десятилетия назад это были одни люди, теперь – совсем другие. Они расслоились между собою: вот этот был когда-то лавочник, а тот – простой мужик, хотя и очень зажиточный. Этот смотрел на «того» свысока. А сегодня – как раз наоборот: лавочник стал просто продавцом в «сяльпе», и теперь уже «тот» поглядывал на него, как на «погостскую гольтепу». Вчера еще каждый из них сам ломал голову над тем, как выкрутиться из своих трудностей, а сегодня, вероятно, неожиданно и для них, подобно джинну из бутылки, вдруг вознесся в облака, он, процесс, и заставил всех их собраться опять вместе. Как девятнадцать лет назад, как в те дни, о которых они уже давно и думать забыли и которые нежданно-негаданно снова воскресли для всех них из небытия… К добру ли?
Мы с братом не без любопытства глядели на «них». Нет, нельзя было никак заметить, что они нам «враги». «Здравствуйте, Леу Васильевич!», «Здорово, Васильич…» «Во, ходите сюда: тут мяста есть…»
Какие уж тут «враги»: и смотрят как бы слегка сконфуженно. Появился Костя Селюгин, строго приказал прекратить курение. Самые злые курцы начали пробиваться обратно к дверям, другие – гасить крученки о бревенчатые стены…
«Суд идет!» И потом: «Слушается дело по искам таких-то и таких-то к гражданкам Костюриной и Успенской общей суммой двадцать одна тысяча восемьдесят рублей…»
В девятнадцатом году деньги хоть и потеряли стоимость, но слова, их называвшие, еще как-то сохраняли свой вес. Кое-кто в зале приглушенно охнул: «Двадцать тысяч! Мать честная!»
– Истцы такие-то?
– Здесь.
– Ответчицы?
Костя Селюгин с секретарской точностью положил на стол перед судьей им же засвидетельствованную доверенность от бабушки и мамы на мое имя. Судья Янисон, человек еще молодой, плотный этакий блондин, подумал, почесал затылок рукояткой писчей вставочки.
– Так… Ну чего ж? Истцы! Кто из вас изложит… существо вашего иска?
Истцы, что называется, «сбледнели с лиц»: вот этакого подвоха они никак уж не ожидали. Они приглушенно зашумели. Они шептались, крутили головами.
– Ну чего ж вы, истцы? – проявил нетерпеливое неудовольствие судья. – Ждать вас суду, что ли?
И вот тут произошло то, к чему не только такие молокососы, как мы с братом, но никакой Плевако, никакой Карабчевский прошлых лет, разумеется, не мог бы оказаться готовым.
Из числа истцов поднялся один, самый из них интеллектуальный, когда-то в прошлом владелец пекарни, после революции на короткое время объявивший себя эсером. «У нас, в Погосте, уважаемая Наталья Алексеевна, наблюдается известный прогресс вперед!» – сказал он маме как-то, еще до начала мировой войны, и с тех пор так и остался у нас «Прогрессом вперед».
– Гражданин судья! – неуверенно, разводя длинными руками, заговорил Прогресс. – Вот мы тут посоветовались… Истцы… Дело, извините за выражение, такое… Как вам это объяснить? Мы – люди, извиняюсь, с недостаточным образованием… Мы так решили: просим, так сказать, Льва Васильевича вам это все изложить. Он – лицо образованное, с понятиями. Ему – легче.
Мы с братом Вовочкой, разинув рты, уставились на судью Янисона, а он нас. Потом:
– Это как так? Чтоб представитель ответчиц излагал содержание вашего иска? Да где это слыхано? Да как же? А он возьмет и все в свою пользу повернет?!
Бородатые истцы, как бояре в допетровской думе, все в новых полушубках, все мужики хитрые, умные, понимающие, что они могут, и чего нет, молчали вздыхая.
Наконец один – ну, скажем, Василий Семенов Кулаченков, на свадьбе дочери которого я был недели две назад посаженым отцом, потому что дед мой – вот этот самый! – крестил ее когда-то, – наконец этот Василий махнул рукой с зажатой в ней заячьей шапкой.
– Повярнет, повярнет! – хрипловатым баском и даже с некоторой бесшабашностью проговорил он. – Чего тут поворачиваться-то? Он правду скажет, Левка. Давай, судья, делай дело: мы яму доверяем, Лёуке щукинскому… Он – малец добрый!
Судья теперь скреб ручкой уже бритый подбородок свой.
– Ну, братки, – пробормотал наконец он. – Сколько сужу, а такого еще не слыхивал, да навряд ли когда и услышу… Ну, а вы, товарищ Успенский? Беретесь вы кратенько пояснить нам, что тут и к чему?
Я бы рад был «пояснить кратенько», но это было совершенно невозможно. И я, отнюдь не замыслив какой-нибудь хитрый адвокатский ход, а, пожалуй, просто стараясь как-либо оттянуть неприятный для меня момент, ответил Янисону так.
– Товарищ судья! – сказал я, подумав. – Не берусь! Да и никто не сможет «взяться»: дело-то тянулось почти двадцать лет. Оно началось – мне было два года. Теперь – девятнадцать. Мир тогда один был, теперь – другой совсем… Зачем же я буду ворошить всякое старье? А что я вам, если разрешите, посоветую, – так ведь вам же, вероятно, прислали само «дело». Прикажите секретарю вынести его… Попробуем как-нибудь разобраться…

![Книга Хреновинка [Шутейные рассказы и повести] автора Вячеслав Шишков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-hrenovinka-shuteynye-rasskazy-i-povesti-246182.jpg)