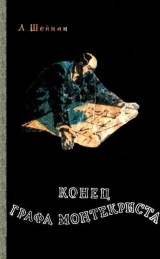
Текст книги "Конец «Графа Монтекриста»"
Автор книги: Лев Шейнин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Лев Романович Шейнин
Конец «Графа Монтекриста»

Конец «Графа Монтекриста»
Мы не рискуем впасть в преувеличение, утверждая, что моральный облик пятидесяти с чем-то обитателей Энской городской тюрьмы (почти без исключения уголовников с солидным стажем) заметно выиграл от сравнения с чистокровными арийцами, занявшими этот городок в один сентябрьский вечер. Право, рядом с представителями «доблестной» германской армии все эти марвихеры, домушники и конокрады выглядели скорее шаловливыми воспитанниками детского дома, нежели уголовными преступниками.
В тот сентябрьский вечер, о котором идет речь, тяжелый немецкий снаряд начисто скосил угол тюремного здания. Растерявшись от свободы, явившейся к ним» столь неожиданно, заключенные столпились у ворот тюрьмы, точнее, у того, что осталось от этих ворот. Напротив полыхала два дома, зажженные снарядами. В багровом зареве мелькали, как на экране, темные фигуры людей, спешивших покинуть город. Грохот артиллерийской канонады и треск пулеметных очередей сливались с ревом скота, угоняемого населением на восток. Немцы неожиданно прорвались на ближние подступы к городу, и жители не успели вовремя эвакуироваться.
Первыми на опустевшие улицы влетели немецкие мотоциклисты. Они непрерывно и беспорядочно стреляли из автоматов, которые были укреплены на рулях их машин. На перекрестке один из них круто затормозил и, спрыгнув с мотоцикла, бросился к женщине, которая бежала с ребенком, таща за собой узел. Выкрикивая что-то на своем языке, немец стал вырывать из рук женщины узел. Девочка, которую женщина держала за руку, заплакала и стала помогать матери, не желавшей отдавать свое добро. Обернувшись к ребенку, немец раскроил ему череп прикладом своего автомата.
Это произошло мгновенно, на глазах у заключенных, все еще продолжавших толпиться возле тюремных ворот. Многие из них хорошо знали эту девочку. Она жила напротив тюрьмы а часто играла на улице. Заключенным было известно, что девочку зовут Женей, и слова смешных детских песенок, которые она распевала, знали в тюрьме ужо наизусть. Парой, когда Женя начинала петь, камеры дружно подхватывали мотив.
В свою очередь, и Женя знала обитателей этого страшного дома с решетчатыми окнами. Более того, ей было достоверно известно, что этот дом – тюрьма, что в тюрьме сидят жулики и что жулики – дурной народ. Но, говоря по правде, жулики Жене почему-то правились, и нередко, завидев их лица, прильнувшие к оконным решеткам, она улыбалась им без тени какой-либо укоризны.
И вот теперь эту девочку убил белокурый немецкий фельдфебель. Мать Жени закричала так страшно, так пронзительно, что крик ее, сразу заглушивший треск автоматов и гул орудий, казалось, прорезал весь объятый тьмою город, а может быть и весь мир.
И в то же мгновение, не раздумывая, не сговариваясь, даже не оглянувшись, заключенные бросились на фельдфебеля. Едва успев вскинуть автомат, он рухнул от двойного, комбинированного удара в висок и подложечку. Это был удар мастера, и нанес его заключенный, известный в городе под кличкой «граф Монтекрист», которую он дал себе сам, выпустив почему-то из фамилии героя Александра Дюма последнюю букву «о». Он не раз судился за хулиганство и уличные драки и, скажем прямо, был специалистом своего дела. Через минуту белокурый фельдфебель перестал быть таковым, ибо мертвые не знают рангов. Он стал просто рядовым покойником, этот чистокровный ариец.

А заключенные пошли на восток.
Они пошли на восток так же, как бросились на фельдфебеля, – не раздумывая, не сговариваясь, не рассуждая. Они шли в строю, как солдаты, и вел их, как солдат, «граф Монтекрист». И хотя никто из них не произнес ни слова, и хотя все они были людьми разных возрастов и биографий, осужденными за разные преступления и на различные сроки, – шли они организованно, дружно, как один батальон, как одно небольшое, но крепко сколоченное, хорошо сжившееся соединение.
Они проходили улицы, корчившиеся и пожарах, поля, истоптанные и опоганенные врагом, луга, расстрелянные в упор, дороги, изрытые снарядами. Они проходили через окровавленные села и обуглившиеся деревни, по искалеченной, измученной, замолкшей земле, которая была их землей, и их родиной.
Да, родиной. И, может быть, именно в простом этом слове, которое никто из них не решался произнести вслух, и надо было искать разгадку того нового, необычного, что вдруг засветилось в глазах этих людей и что так сурово и требовательно вело их вперед, на восток. И хотя все они были предоставлены самим себе и любой из них мог свободно и безнаказанно определить свой маршрут, свою судьбу, сделать свой жизненный выбор, – они продолжали шагать вместе, рядом, в строю…
В полдень они пришли в областной центр и построились у здания прокуратуры. «Граф Монтекрист» прошел в кабинет прокурора и коротко объяснил ему суть дела.
– Гражданин прокурор, – сказал он, – имею доложить, что с марша прибыли заключенные из Энской исправилки.
Прокурор выглянул в окно и увидел группу людей, нетерпеливо переминавшихся с ноги на ногу и выжидательно заглядывавших в окна его кабинета,
– А вы, собственно, кто такой? – спросил прокурор, с интересом разглядывая курносую, задорную физиономию «графа», его запыленный бушлат и пышную, затейливо завязанную чалму из старой рогожи на его голове.
– Уполномоченный, – с большим достоинством, не моргнув глазом, ответил «граф». – Ихний уполномоченный. Фамилия – Мишкин, статья 74-я, вторая часть.
– Срок? – коротко опросил прокурор, сразу сообразив, что имеет дело с человеком бывалым, который поймет его без лишних слов
– «Петух», – ответил Мишкин. – Имею «четыре «ногтя», но без поражения прав.
– За что прежде судились?
– По той же специальности, – по-прежнему серьезно ответил «граф». – Исключительно, гражданин прокурор, страдаю за драки. Сызмальства мучаюсь зудом в руках, и, если месяц не заеду кому-нибудь в ухо, нервы не выдерживают, честное слово… И даже начинаются головные боли. Я уж и к врачам обращался, да все без толкуй. «Современная. – говорят, – медицина еще до вашей болезни не дошла. Если там насчет туберкулеза или камней в печени, то, – говорят, – пожалуйста и милости просим, а насчет рукоприкладства наука пока бессильна.
– А где же конвой, путевка? – перебил его прокурор.
– Разрешите доложить, конвой ввиду военной обстановки добыть не представилось возможным. Который в тюрьме был, то снарядом поубивало, а двое несознательных дали драпу. Так что, хоть и не по своей воле, по оказались мы вполне на свободе. Самоходом отошли. Оно, конечно, без конвоя как будто и непривычно, но где его сейчас возьмешь? К тому же время военное – капризничать не приходится. Но ничего, прошли довольно аккуратно– потерь и побегов нету. Один только с немцами остался, паразит…
– Фамилия? – спросил прокурор.
– Моя или паразита? – не понял Мишкин.
– Его, – ответил прокурор.
– Трубников, – произнес Мишкин и, вздохнув, добавил: – Ну, а как теперь насчет благоустройства? Куда прикажете садиться?
* * *
«Граф Монтекрист» родился, рос и воспитывался в том самом городке, в котором война настала его в качестве обитателя местной тюрьмы. Последнее обстоятельство не очень смущало «графа», поскольку за последние годы оно было для него довольно привычным. Четыре судимости, которые «граф» имел в свои двадцать лет на личном счету, успели приучить его к тюремной обстановке. Он в совершенстве овладел уголовным жаргоном, усвоил нравы и обычаи своих товарищей то камере и отлично разбирался в своеобразной психологии мелких уголовных преступников. Не брезгуя подобной компанией, «граф», однако, никогда не забывал, что сам он не совершил за свою жизнь ни одной кражи и что своими судимостями он обязан главным образом чрезмерно веселому нраву, и непреодолимой склонности к уличным дракам. Из всех статей уголовною кодекса Мишкин считал для себя приемлемой только одну – 74-ю, в тексте которой отлично ориентировался.
«Одно дело, – размышлял про себя Мишкин, – сидеть за озорство, за хорошую драку, за дебош в клубе с разбитием стекла и снятием штанов с заведующего, а уж совсем другое – пойти на воровство пли грабеж, увести лошадь или там корову и вообще покуситься на чужую собственность. Это уже совсем неблагородно и некрасиво.
В тюрьме «графа» любили за острый язык, за необыкновенное умение рассказывать всякие веселые истории, а главное – за то, что был он человеком слова, никогда не заискивал перед начальством, всем делился с товарищами и не давал спуска нахалам.
«Настоящий парень, – с уважением отзывались о нем уголовники, – и котел у него варит, и себе цену знает, и других в обиду не даст. Конечно, «деловой» из него не выйдет, сидит он всегда исключительно по идейности рук, дерется без толку, но и фраером тоже назвать нельзя».
В Энске Мишкин считался своего рода городской знаменитостью. О его похождениях и следовавших за ними судебных процессах ходили легенды. И в самом деле, ни одна драка не обходилась без его участия; а в городской больнице, когда туда доставляли очередного потерпевшего со свороченной скулой, перебитым носом или ухом, разорванным до мочки, доктор Эпштейн, старожил, любимец города и весельчак, покачивал головой, перевязывал страдальца, и неизменно говорил:
– Да, батенька, ничего не скажешь… Лихо вас отдубасили. Сразу видно – «графская» работа. Золотые руки у подлеца! Хирург, честное слово, хирург!
Еще до войны начальник гормилиции товарищ Быстрых, которого местные уголовники в противовес его фамилии именовали «Тихоходом», при одном лишь упоминании графского титула имел обыкновение нервно вскакивать и хвататься за наган
– Горе моего района! – с чувством отзывался он о Мишкине. – Социально-опасный и в корне преступный элемент. Аль-Капоне против него щенок и младенец!..Акула уголовного мира!
Справедливость требует отметить, что товарищ Быстрых ненавидел «графа Монтекриста» главным образом за то, что последний, судившийся уже несколько раз, в совершенстве овладев всякими юридическими тонкостями и знал уголовно-процессуальный кодекс лучше, чем начальник гормилиции. Поэтому, как только милиция задерживала Мишкина и начинала расследование по его делу, тот разражался в ответ градом жалоб и допекал товарища Быстрых разоблачением всякого роди «процессуальных нарушений».
– Бумаги! – вопил он истошным голосом, едва его водворяли в камеру. – Опять этот нахальный произвол!.. Имею жалобу на незаконные действия в порядке статья 115-й Уголовного кодекса… Где санкция прокурора на мой арест, согласно Конституции, статья 131 и?! Где заявление потерпевшего, ироды? Если ты образованного юриста берешь, Тихоход, так хоть законы соблюдай по всей форме! Три года начальником сидишь а Упека не знаешь, дубовая твоя голова.
– Экий прохвост, этакая тонкая бестия! искренне удивлялся начмил и, вызвав начальника стола дознаний, строго приказывал ему «вести дело по всей форме и со всеми соблюдениями».
– Ты смотри, – предупреждал он, – веди дело тонко, чтобы комар носу не подточил. Сам знаешь, что это за клиент. Если б не озорной характер, так по своей образованности и юридическому мышлению он вполне мог бы лекции в университете читать по уголовному праву. Что тебе академик Трайнин!
– Не беспокойтесь, Василий Петрович, – отвечал подчиненный. – Сам себе не враг. С таким сутягой живо выговор из области заработаешь. Еще вчера, как приказано было его взять, так я всю ночь не спад, за кодексами просидел. Готовился. Не успели посадить негодника – уже жалобу строчит, прямо прокурору республики. Так и чешет все статьи наизусть, честное слово, 1и даже какие-то особые слова употребляет. Ущемление, дескать, гарантии и непонимание общей превенции.
Общей, говоришь, превенции? переспрашивал начмил, покрываясь холодным потом. До чего же, однако, подлая личность, чтоб ему провалиться! Вот идол, всю кровь высосать норовит. Обвинение предъявить, как полагается, в двадцать четыре часа чтобы не было задержки ни на минуту! Прогулки– три раза в день, не менее чем по тридцать минут… В камере чтоб пылинки не было. Чтоб сидел у нас, как в раю… Понятно? Как у мамы…
– Есть, чтоб сидел, как у мамы, – отвечал начальник стола дознаний и, подавленный, выходил из кабинета товарища Быстрых.
А Мишкин в это время уже заканчивал писать свою пространную и притом весьма ядовитую жалобу.
«Независимо от нахального ущемления неприкосновенности моей личности, – старательно выводил он, высунув от усердия язык, – я не в силах молчать. И поскольку факт, что взяли меня на улице, а санкции не было, то я только удивляюсь, чего смотрит районный прокурор, призванный блюсти законы и мои процессуальные гарантии… И хоть сижу я ровно один час двадцать пять минут, а допрос мне не учинен и обвинение не предъявлено, а также и ордера я в глаза не видал, хотя и должен на нем расписаться, как требует уголовный процесс.
Не могу умолчать и об отсутствии воспитательной работы над моей личностью в порядке общей превенции преступных поступков с моей стороны. Начмил Быстрых не обеспечивает культработу в камерах, как-то: кино, шашки, полезную литературу и игру в лапту…»
* * *
Никто не знал о том, что была у Мишкина и несчастная любовь. Сам он скрывал это очень тщательно и даже, пожалуй, самому себе не признавался в том, что образ Гали Соболевой представляется ему как-то слишком уж часто. Галя была инструктором Энского райкома комсомола. Мишкин знал ее давно, еще с детских лет, – они росли и играли на одной улице.
Галя была тогда смуглой, курносой, норовистой девчонкой, всегда окруженной мальчишками, вместе с которыми она лихо лазила по деревьям, забиралась в чужие сады и уезжала далеко по реке на рыбалку. Мальчишки ценили в ней смелость, (выносливость, озорство, а главное – то, что она не имела обыкновения, как другие девчонки, ябедничать и хныкать по всякому поводу.
Так прошло несколько лет. И однажды случилось нечто внезапное и совершенно неожиданное. Мишкин, которого звали тогда попросту Петькой, встретил Галю на улице и только то обыкновению хотел было схватить ее за вихор, как вдруг почувствовал, что сердце у него нежно и мучительно заныло. Перед ним стояла стройная, смуглая, красивая – да, именно красивая-девушка, а вовсе не прежняя Галка, которая была совсем, как мальчишка. Она, вероятно, тоже почувствовала, что с ее однокашником и приятелем произошло что-то странное, чего раньше никогда не было. Это что-то имело некое прямое и загадочное отношение к ней, к ее пятнадцати – годам, к ее новому яркому платью, к первой прическе, которую шутя сделала ей сегодня старшая сестра.
– Здравствуй…те, Петя, – произнесла она тихо, и лицо ее вспыхнуло румянцем.
– Здравствуй, – ответил почему-то басом Мишкин и, подумав, протянул ей руку.
После этого они по-прежнему часто бывали вместе, но отношения их совершенно переменились. Оба смущались, когда им случалось встретиться глазами, или в разгаре игры, или на прогулке коснуться друг друга. Оба тосковали, если хотя бы два дня проходило без этих встреч и игр.
Прошло несколько месяцев. И однажды зимой Мишкин (он никогда по забудет этого дня) предложил Гале пойти на лыжную прогулку. Оба они отлично владели лыжами и прежде не раз ходили на такие прогулки, но почему-то теперь, когда Галя услышала его предложение, она покраснела и тихо прошептала только одно слово: «Хорошо».
Через час они уже были на высокой Зеленой горе, возвышавшейся над озером, недалеко от города.
Стоя вдвоем на самой ее вершине, они долго смотрели вниз, на широко расстилавшееся перед ними молчаливое, покрытое снегом озеро, на фиолетовую дымку его далеких берегов, на снежную целину, которая искрилась в лучах морозного солнца. Никогда еще мир не казался им таким огромным и таким радостным.
– Ну что, рванем вниз? – спросил наконец Петя.
– Давай, только я вперед, – ответила она.
Проверив крепления, Галя подошла к краю ската, представлявшего собой чуть ли не отвесный обрыв. Она заглянула туда, куда ей сейчас предстояло ринуться, и в первый раз почувствовала головокружение. Покраснев от мысли, что Петька заметит ее неуверенность и еще подумает, что она струсила, Галя, вскрикнув, оттолкнулась и полетела вниз. Но в поспешности не рассчитав толчка, она на середине пролета не удержалась и с разбегу упала на бок. Прямо на нее мчался сверху Петька. Еще мгновение – и своими лыжами он (разрезал бы ей лицо. Но в последнее мгновение страшным напряжением мускулов он заставил лыжи вырваться из глубокой лыжни и, раздвинув их накрест, затормозил свой стремительный бег. Присев, он с тревогою наклонился ко все еще лежащей испуганной Гале. Глаза девочки были закрыты, но, почувствовав его близость, она открыла их медленно и широко. И мальчик прочел в них такое выражение нежности, ласки и благодарности, что неожиданно для самого себя поцеловал ее в губы. Опустив веки, она ответила на его поцелуй.
Это был первый поцелуй в жизни обоих.
На другой день, когда Петька пришел к Гале в дом, мать ее сказала, что Галя сейчас очень занята и выйти к нему не может. Самолюбивый Петька дал себе клятву больше с ней «не гулять». И в самом деле, встретив ее на улице, он издали поздоровался с ней с подчеркнутым равнодушием. Она вспыхнула и при следующей встрече вообще не ответила ему на приветствие. Пути их разошлись.
Галя продолжала учиться в школе и работать в комсомоле. Петька бросил учебу и начал озорничать. Через год ею в первый раз судили за уличную драку.
Так прошло еще четыре года. Галя по окончании десятилетки осталась на комсомольской работе в горкоме. Мишкин наводил страх на гормилицию и время от времени устраивал шумные драки и дебоши. Галю за все это время он несколько раз встречал на улице, но никогда с нею не здоровался и однажды, встретив ее, зачем-то даже притворился пьяным и начал горланить какую-то частушку.
И никто не знал, что все эти годы, у себя дома или отбывая очередное наказание в тюрьме, гроза города «граф Монтекрист» с горечью и нежностью вспоминал об удивительном морозном дне, о снежном озере, о фиолетовой дымке его берега, о теплых и «покорных губах своей первой любимой.
* * *
Оставшийся в Энске Трубников был осужден за растление малолетних. Отец Трубникова был в свое время расстрелян за участие в белой банде, которая оперировала в этом районе в 1919 году.
Трубников был невысокого роста, рыхлый человек с узенькими, бегающим 1» глазками и толстыми, всегда влажными губами, которые он имел обыкновение часто вытирать тыльной стороной руки. Его оплывшее бабье лицо всегда имело сонный вид, и лишь маслянистые, неустанно шныряющие глаза свидетельствовали о том, что в этом ленивом теле непрерывно тлеет нечистое, воровское, требовательное желание.
Трубников незаметно улизнул от других заключенных как раз в ту минуту, когда они набросились на фельдфебеля, убившего девочку. Сначала он тайком пробрался за угол, а потом бросился бежать со всех ног.
На перекрестке Трубникова задержал немецкий патруль, и он был доставлен в комендатуру. Утром его вызвали на допрос. Допрашивали два офицера, один из которых говорил по-русски.
Трубников поспешил отрекомендоваться и объяснил, что отец его был расстрелян за борьбу против советской власти и что сам он также отбывал тюремное заключение по приговору суда. Он хотел было обойти молчанием преступление, за которое его осудили, но среди документов, найденных у него при обыске в момент задержания, оказалась копии судебного приговора Ознакомившись с нею, офицер, говоривший по-русски, засмеялся и что-то сказал другому офицеру. Они пошептались между собой, а затем офицер прямо сказал Трубникову.
– Вот что, господин Трубников. Нам нужен верный человек, на которого германские власти могли бы положиться. Судя по первому впечатлению, вы – подходящий для нас человек. Нам нужен бургомистр, городской голова – одним словом, хозяин юрода. Если вы готовы честно работать с немецкими властями, с военным командованием, то, как говорят п России, – в добрый час! Вы меня понимаете?
– Понимаю, господин офицер, запинаясь, ответил Трубников, искренне удивленный сделанным ему предложением. – Душевно благодарю за честь. Вот только насчет образования: я всего шесть классов окончил. Дальше не пришлось, дознались про моего папашу.
– Вы можете не краснеть за своего отца, – ласково произнес офицер. – Судя по всему, это был порядочный человек. Приступайте к работе. А мы будем вам помогать
На следующий день в приказе, расклеенном по городу, было объявлено, что энским бургомистром назначен Степан Семенович Трубников и что ему «германское командование вверяет всю полноту гражданской власти и организацию должного порядка и необходимого благоустройства».
И Трубников приступил к своим новым обязанностям.
Он начал с выдачи немцем не успевших эвакуироваться советских работников и членов их семей. В первые же, дни на главной площади города было повешено по его указанию несколько десятков ни в чем неповинных людей По ночам из подвала дома, в котором разместилась «русская полиция» и отделение полевого гестапо, доносились крики истязуемых.
Затем все население, включая больных, стариков и малолетних детей, было объявлено мобилизованным на «оборонные работы» и партиями выгонялось под конвоем для расчистки дорог и рытья блиндажей. У населения были принудительно изъяты все остатки продовольствия, и в городе начался голод.
Трубников положил немало трудов, чтобы организовать два публичных дома для немецких солдат и офицеров и насильно определил в эти притоны несколько десятков женщин и девушек.
Словом, началось истинно немецкое «благоустройство».
Казалось, что эти меры должны были сломить всякий дух сопротивления в жителях города. Немецкие власти, довольные старательным бургомистром, именно на это и рассчитывали. Тем более удивительным было для них то, что каждое утро приносило новые доказательства существования в городе какой-то тщательно законспирированной и притом очень активной организации, ведущей борьбу с немцами и их прислужниками. Ежедневно «русская полиция» срывала с городских заборов десятки листовок и прокламаций, призывающих к борьбе с оккупантами, клеймящих позором предателей и разоблачающих лживость германской пропаганды. По ночам на воротах городской пожарной команды кто-то аккуратно выписывал мелом краткое содержание сводок Советского информбюро.
Немцы решили поставить у этих ворот ночной пост, но наутро после первой же ночи часовой был найден заколотым, а на воротах белела очередная сводка информбюро. В связи с этим гестапо арестовало и расстреляло еще несколько десятков человек, но так и не добилось успеха.
Городок жил какой-то странной, двойной жизнью. Днем это был обычный оккупированный немцами населенный пункт. По улицам тяжело маршировали вооруженные немецкие солдаты. В магистрате восседал Трубников и его чиновники, набранные из разного сброда. Расклеивались очередные приказы военных властей и «городской управы» с очередными угрозами расстрела. В публичных домах веселились господа офицеры, забираясь в них чуть ли не с утра. После шести часов дня движение на улицах для гражданского населения прекращалось.
С наступлением темноты немцы уже боялись высунуть нос на улицу, а Трубников прятался дома за семью замками. Городок начинал жить своей, второй, настоящей жизнью. В Заречье включали секретные радиоприемники и слушали Москву. На окраинах печатали на гектографах листовки. Связисты уходили за сто километров в партизанский отряд, связь с которым не прерывалась ни на один день. Невесть кем и как доставлялись свежие советски газеты, которые жадно прочитывались людьми.
И до рассвета городок снова становился советским.
* * *
В конце сентября линия фронта приблизилась к тому областному центру, в котором продолжали отбывать наказание Мишкин и его «коллектив». Заключенных нужно было эвакуировать. В связи с этим областной прокурор посетил тюрьму и начал проверять списки, лично беседуя с заключенными. Когда очередь дошла до «графа Монтекриста», его ввели к прокурору. Оба сразу узнали друг друга.
– А, уполномоченный, – улыбнулся прокурор. – Ну как, зуд в руках проходит? Как дела?
– Какие у меня дела, – хмуро ответил Мишкин. – Дела на фронте, а у меня никакого дела нет… Так, жалкое, можно сказать, прозябание и тюремный тыл… Сижу вроде как дезертир какой. В глаза людям стыдно смотреть. Немец во-всю орет, а я, байбак здоровый, в камере отсиживаюсь. Всю жизнь за драки судился, а при этакой драке сижу сложа руки… Это при моем-то характере! Душа болит, гражданин прокурор, честное слово!..
– Ну, а чего бы вам хотелось? – серьезно спросил прокурор.
Мишкин задумался. Потом он почему-то оглянулся на дверь и взволнованно произнес:
– Вот в газетах пишут, что у немцев, дескать, уголовникам почет. Бургомистрами назначают, и всякая такая штука. Очень обидно читать это нашему брату.
– Что ж обижаться, – ведь это правда! – сказал прокурор.
– Гражданин прокурор, – горячо возразил Мишкин. – разве мы, уголовники, вовсе без совести или совсем сознания не имеем? Ведь родина-то, она наша родина! Нам то разве бить фрицев не хочется? Или, если и, скажем, хулиган, так у меня и души уже нет, и я вовсе гад, а не человек? Или контра какая? Или перестал быть русским? Эх, не так это все, не так, гражданин прокурор!.. Большая беда всем пришла– так тут нечего статьями считаться и судимости на пальцах отсчитывать…
Он говорил еще долго. А на следующий день Мишкин был досрочно освобожден от наказания. В ясный прохладный сентябрьский день он вышел за тюремные ворота. Город жил тревожно. Но улицам, торопясь, проходила колонны красноармейцев; из города на восток тянулись грузовики, увозя оборудование заводов и фабрик. С тоскливым ревом проходили стада колхозного скота, угоняемого от врага. Фронт был уже недалеко.
Два дня пробыл Мишкин в городе, неизвестно, где жил, неизвестно, с кем встречался, а потом неизвестно, куда сгинул. Был Мишкин – и не стало Мишкина. Ушел невесть куда, невесть зачем, словно в воздухе растаял.
Впрочем, событие это так и осталось тогда незамеченным. Жаркое было время, жаркие пошли бои уже на ближних подступах к городу, и было тут не до Мишкина.
* * *
Но дело в том, что Мишкин скоро объявился, да в таких местах, где вовсе его и не ожидали. Объявился он в том самом родном его городке, который был теперь в немецком тылу и в котором бургомистр Трубников устанавливал «новый порядок».
Около пяти часов дня «граф Монтекрист» лично проследовал по главной улице города и по свежим табличкам, приколоченным на перекрестках, установил, что эта улица теперь именуется «Проспектом Адольфа Гитлера». Убедившись, что вблизи почти нет прохожих (приближался час, когда уличное движение должно было прекратиться), Мишкин немедленно приступил к работе Он сорвал табличку, счистил с нее перочинным ножом свежую надпись и вместо нее старательно вписал химическим карандашом.

«Здесь была, есть и будет улица Карла Маркса, а паразиту Гитлеру никаких у нас улиц не полагается. На том свете в пекле отведем ему улицу».
Полюбовавшись новой надписью, Мишкин подумал и дополнительно приписал:
«А, кроме того, обещаем ему в одно место осиновый кол».
Восстановив, таким образом, справедливость на данном участке городского благоустройства, Мишкин двинулся дальше. У здания горсовета, в котором теперь разместился «магистрат», хрипел репродуктор, выставленный на балконе. Диктор передавал на русском языке «последние известия верховного командования германской армии». «Граф Монтекрист» прислушался. Из репродуктора неслась обычная безудержная ложь: будто Красная Армия уже полностью уничтожена, будто она уже прекратила сопротивление и будто «в ближайшие дни Гитлер будет лично принимать парад войск на Красной площади».
Несколько исхудалых людей молча слушали рядом с Мишкиным эти «последние известия». Немецкий патруль торжественно проследовал мимо «магистрата», чеканя пресловутый «гусиный шаг», то есть изо всех сил задирая ноги вверх и с яростным рвением стуча ими потом о мостовую.
«Граф Монтекрист» внимательно посмотрел на нелепо шагающих солдат, усмехнулся, лукаво подмигнул людям, слушавшим радио, и направился дальше, к реке.
Между тем диктор, закончив «последние известия», начал с пафосом читать статью на тему «об историческом превосходстве германской расы и о новом порядке», коим эта (превосходная раса намерена осчастливить мир.
Таким образом, – гудел диктор, – всякому непредубежденному человеку должно быть понятно, что доблестная и непобедимая германская армия несет на своих штыках…
Очевидно, в этом месте диктор решил заинтриговатъ слушателей, так как вместо того, чтобы обрадовать их, объяснив, что именно «несет на своих штыках» германская армия, он неожиданно замолчал. Вместо голоса диктора из репродуктора донесся шум какой-то странной возни и звуки, отдаленно напоминающие аплодисменты. Потом чей-то звонкий голос крикнул:
– Граждане, минуту терпения, часовой уже готов, сейчас я еще этому орателю закачу пару плюх, а засим продолжу передачу!
Снова, на этот рае уже более явственно, послышались звуки оплеух; последние, судя по их звучности и истошным воплям диктора, были солидного веса.
Затем Мишкин, – ибо это был он, – обратился к несколько озадаченным и явно заинтересованным слушателям с краткой, но выразительной речью:
– Дорогие граждане! Передаю вам привет от советской власти и Красной Армии, хоть и не имею от них на то полномочий. Не верьте немкам. Врут они, как сивые мерины, хотят вас обморочить через подлюгу-диктора, который продался им. Я ваш земляк и могу сообщить по совести военные факты, потому что видел все своими глазами. Красная Армия не уничтожена, а бьет фрицев почем зря. Дорого обходится немцам их продвижение. Не подчиняйтесь приказам бургомистра и прочей сволочи. Всем им скоро придет конец.

Когда «русская полиция» и несколько немецких солдат впопыхах примчались в радиостудию, было уже поздно. Связанный диктор тихо скулил в углу – он был основательно избит и количество зубов у него поуменьшилось. Часовой оказался мертвым, а Мишкина и следа не было… «Граф Монтекрист» на прощанье разбил вдребезги микрофон, чтобы немцы не могли им воспользоваться, а на столе была оставлена записка следующего содержания:
«Паразиты, бросьте обманывать народ! Предупреждаю, что всех дикторов буду лупить нещадно. Смерть немецким оккупантам!
Граф Монтекрист».
Когда Трубникову доложили о происшествии в радиостудии, он перетрусил необычайно. Появление в городе «графа Монтекриста» не сулило Трубникову ничего хорошего. Он прекрасно помнил характер «графа» и догадывался, что тот вернулся в город не зря и что лично ему,








