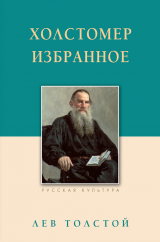
Текст книги "Холстомер. Избранное"
Автор книги: Лев Толстой
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Глава XIV
«Не идти ли домой?» – подумал Нехлюдов, подходя к воротам Дутловых и чувствуя какую-то неопределенную грусть и моральную усталость.
Но в это время новые тесовые ворота со скрипом отворились перед ним, и красивый, румяный белокурый парень лет восемнадцати, в ямской одежде, показался в воротах, ведя за собой тройку крепконогих, еще потных, косматых лошадей, и, бойко встряхнув белыми волосами, поклонился барину.
– Что, отец дома, Илья? – спросил Нехлюдов.
– На осике, за двором, – отвечал парень, проводя одну за другою лошадей в полуотворенные ворота.
«Нет, выдержу характер, предложу ему, сделаю, что от меня зависит», – подумал Нехлюдов и, пропустив лошадей, вошел на просторный двор Дутлова. Видно было, что со двора недавно был вывезен навоз: земля была еще черная, потная, и местами, особенно в воротищах, валялись красные волокнистые клочья. На дворе и под высокими навесами в порядке стояло много телег, сох, саней, колодок, кадок и всякого крестьянского добра; голуби перепархивали и ворковали в тени под широкими, прочными стропилами; пахло навозом и дегтем. В одном углу Карп и Игнат прилаживали новую подушку под большую троечную окованную телегу. Все три сына Дутловы были почти на одно лицо. Меньшой, Илья, встретившийся Нехлюдову в воротах, был без бороды, поменьше ростом, румянее и наряднее старших; второй, Игнат, был повыше ростом, почернее, имел бородку клином и, хотя был тоже в сапогах, ямской рубахе и поярковой шляпе, не имел того праздничного, беззаботного вида, как меньшой брат. Старший, Карп, был еще выше ростом, носил лапти, серый кафтан и рубаху без ластовиков, имел окладистую рыжую бороду и вид не только серьезный, но почти мрачный.
– Прикажете батюшку послать, ваше сиятельство? – сказал он, подходя к барину и слегка и неловко кланяясь.
– Нет, я сам пройду к нему на осик, посмотрю его устройство там; а мне с тобой поговорить нужно, – сказал Нехлюдов, отходя в другую сторону двора с тем, чтоб Игнат не мог слышать того, что он намерен был говорить с Карпом.
Самоуверенность и некоторая гордость, заметная во всех приемах этих двух мужиков, и то, что сказала ему кормилица, так смущали молодого барина, что ему трудно было решиться говорить с ними о предполагаемом деле. Он чувствовал себя как будто виноватым, и ему казалось легче говорить с одним братом так, чтоб другой не слышал. Карп как будто удивился, зачем барин отводит его в сторону, но последовал за ним.
– Вот что, – начал Нехлюдов, заминаясь, – я хотел тебя спросить: много у вас лошадей?
– Троек пять наберется, жеребятки есть тоже, – развязно отвечал Карп, почесывая спину.
– Что, братья твои на почте ездят?
– Гоняем почту на трех тройках, а то Илюшка в извоз ходил; вот только вернулся.
– Что ж, это вам выгодно? Сколько вы этим зарабатываете?
– Да какая выгода, ваше сиятельство? По крайности кормимся с лошадьми – и то слава богу.
– Так зачем же вы другим чем-нибудь не займетесь? Ведь можно бы вам леса покупать или землю нанимать.
– Оно, конечно, ваше сиятельство, землю нанять можно, когда б где сподручная была.
– Я вот что хочу вам предложить: чем вам извозом заниматься, чтоб только кормиться, наймите вы лучше землю десятин тридцать у меня. Весь клин, что за Саповым, я вам отдам, да заведите свое хозяйство большое.
И Нехлюдов, увлеченный своим планом о крестьянской ферме, который он не раз сам с собою повторял и передумывал, уже не запинаясь, стал объяснять мужику свое предположение о мужицкой ферме. Карп слушал очень внимательно слова барина.
– Мы много довольны вашей милостью, – сказал он, когда Нехлюдов, замолчав, посмотрел на него, ожидая ответа. – Известно, тут худого ничего нет. Землей заниматься мужику лучше, чем с кнутиком ездить. По чужим людям ходит, всякого народа видит, балуется наш брат. Самое хорошее дело, что землей мужику заниматься.
– Так как ты думаешь?
– Поколи батюшка жив, так я что ж думать могу, ваше сиятельство? На то воля его.
– Проведи-ка меня на осик; я поговорю с ним.
– Сюда пожалуйте, – сказал Карп, медленно направляясь к заднему сараю. Он отворил низенькую калитку, ведущую на осик, и, пропустив в нее барина и затворив ее, подошел к Игнату и молча принялся за прерванную работу.
Глава XV
Нехлюдов, нагнувшись, прошел через низенькую калитку из-под тенистого навеса на находившийся за двором осик. Небольшое пространство, окруженное соломой и просвечивающими плетнями, в котором симметрично стояли покрытые обрезками досок ульи с шумно вьющеюся около них золотистою пчелою, было все залито горячими, блестящими лучами июньского солнца. От калитки протоптанная тропинка вела на середину, к деревянному голубцу с стоявшим на нем фольговым образком, ярко блестевшим на солнце. Несколько молодых лип, стройно подымавших выше соломенной крыши соседнего двора свои кудрявые макушки, вместе с звуком жужжания пчел, чуть слышно колыхались своей темно-зеленой свежей листвой. Все тени, от крытого забора, от лип и от ульев, покрытых досками, черно и коротко падали на мелкую курчавую траву, пробивавшуюся между ульями. Согнутая небольшая фигурка старика с блестящей на солнце, открытой седой головой и плешью виднелась около двери рубленого, крытого свежей соломой мшаника, стоявшего между липами. Услышав скрип калитки, старик оглянулся и, отирая полой рубахи свое потное, загорелое лицо и кротко, радостно улыбаясь, пошел навстречу барину.

В пчельнике было так уютно, радостно, тихо, прозрачно; фигура седого старичка с лучеобразными частыми морщинками около глаз, в каких-то широких башмаках, надетых на босую ногу, который, переваливаясь и добродушно, самодовольно улыбаясь, приветствовал барина в своих исключительных владениях, была так простодушно ласкова, что Нехлюдов мгновенно забыл тяжелые впечатления нынешнего утра, и его любимая мечта живо представилась ему. Он видел уже всех своих крестьян такими же богатыми, добродушными, как старик Дутлов, и все ласково и радостно улыбались ему, потому что ему одному были обязаны своим богатством и счастием.
– Не прикажете ли сетку, ваше сиятельство? Теперь пчела злая, кусает, – сказал старик, снимая с забора пахнущий медом грязный холстинный мешок, пришитый к лубку, и предлагая его барину. – Меня пчела знает, не кусает, – прибавил он с кроткой улыбкой, которая почти не сходила с его красивого загорелого лица.
– Так и мне не нужно. Что, роится уж? – спросил Нехлюдов, сам не зная чему, тоже улыбаясь.
– Коли роиться, батюшка Митрий Миколаевич, – отвечал старик, выражая какую-то особенную ласку в этом названии барина по имени и отчеству, – вот только, только что брать зачала как след. Нынче весна холодная была, изволите знать.
– А вот я читал в книжке, – начал Нехлюдов, отмахиваясь от пчелы, которая, забившись ему в волоса, жужжала под самым ухом, – что коли вощина прямо стоит, по жердочкам, то пчела раньше роится. Для этого делают такие ульи из досок… с перекладин…
– Вы не извольте махать: она хуже, – сказал старичок. – А то сетку не прикажете ли подать?
Нехлюдову было больно, но по какому-то детскому самолюбию ему не хотелось признаться в этом, и он, еще раз отказавшись от сетки, продолжал рассказывать старичку о том устройстве ульев, про которое он читал в «Maison rustique» и при котором, по его мнению, должно было в два раза больше роиться; но пчела ужалила его в шею, и он сбился и замялся в средине рассуждения.
– Оно точно, батюшка Митрий Миколаевич, – сказал старик, с отеческим покровительством глядя на барина, – точно в книжке пишут. Да, может, это так – дурно писано, что вот, мол, он сделает, как мы пишем, а мы посмеемся потом. И это бывает! Как можно пчелу учить, куда ей вощину крепить? Она сама по колодке норовит, другой раз поперек, а то прямо. Вот извольте посмотреть, – прибавил он, оттыкая одну из ближайших колодок и заглядывая в отверстие, покрытое шумящей и ползающей пчелой по кривым вощинам, – вот эта молодая; она, видать, в голове у ней матка сидит, а вощину она и прямо и вбок ведет, как ей по колодке лучше, – говорил старик, видимо, увлекаясь своим любимым предметом и не замечая положения барина. – Вот нынче она с калошкой идет; нынче день теплый, все видать, – прибавил он, затыкая опять улей и прижимая тряпкой ползающую пчелу и потом огребая грубой ладонью несколько пчел с морщинистого затылка. Пчелы не кусали его, но зато Нехлюдов уж едва мог удерживаться от желания выбежать из пчельника: пчелы местах в трех ужалили его и жужжали со всех сторон около его головы и шеи.
– А много у тебя колодок? – спросил он, отступая к калитке.
– Что бог дал, – отвечал Дутлов, посмеиваясь, – считать не надо, батюшка: пчела не любит. Вот, ваше сиятельство, я просить вашу милость хотел, – продолжал он, указывая на тоненькие колодки, стоящие у забора, – об Осипе, кормилицыном муже; хоть бы вы ему заказали: в своей деревне так дурно делать по соседству, нехорошо.
– Как дурно делать?.. Ах, однако, они кусают! – отвечал барин, уже взявшись за ручку калитки.
– Да вот, что ни год, свою пчелу на моих молодых напущает. Им бы поправляться, а чужая пчела у них вощину повытаскает да и подсекает, – говорил старик, не замечая ужимок барина.
– Хорошо, после, сейчас… – проговорил Нехлюдов и, не в силах уже более терпеть, отмахиваясь обеими руками, рысью выбежал в калитку.
– Землей потереть: оно ничего, – сказал старик, выходя на двор вслед за барином. Барин потер землею то место, где был ужален, краснея, быстро оглянулся на Карпа и Игната, которые не смотрели на него, и сердито нахмурился.
Глава XVI
– Что я насчет ребят хотел просить ваше сиятельство, – сказал старик, как будто или действительно не замечая грозного вида барина.
– Что?
– Да вот лошадками, слава те господи, мы исправны, и батрак есть, так барщина за нами не постоит.
– Так что ж?
– Коли бы милость ваша была, ребят на оброк отпустить, так Илюшка с Игнатом в извоз бы на трех тройках пошли на все лето: може, что бы и заработали.
– Куда ж они пойдут?
– Да как придется, – вмешался Илюшка, который в это время, привязав лошадей под навес, подошел к отцу. – Кадминские ребята на восьми тройках в Ромен ездили, так, говорят, прокормились да десятка по три на тройку домой привезли; а то и в Одест, говорят, кормы дешевые.
– Вот об этом-то я и хотел поговорить с тобой, – сказал барин, обращаясь к старику и желая половчее навести его на разговор о ферме. – Скажи, пожалуйста, разве выгоднее ездить в извоз, чем дома хлебопашеством заниматься?
– Когда не выгоднее, ваше сиятельство! – опять вмешался Илья, бойко встряхивая волосами, – дома-то лошадей кормить нечем.
– Ну, а сколько ты в лето выработаешь?
– Да вот с весны, на что корма дорогие были, мы в Киев с товаром ездили, в Курском опять до Москвы крупу наложили, так и сами прокормились, и лошади сыты были, да и пятнадцать рублев денег привез.
– Оно не беда заниматься честным промыслом, каким бы то ни было, – сказал барин, снова обращаясь к старику, – но мне кажется, что можно бы другое занятие найти; да и работа эта такая, что ездит молодой малый везде, всякий народ видит, избаловаться может, – прибавил он, повторяя слова Карпа.
– Чем же нашему брату, мужику, заниматься, как не извозом? – возразил старик с своей кроткой улыбкой. – Съездишь хорошо – и сам сыт, и лошади сыты; а что насчет баловства, так они у меня, слава ти господи, не первый год ездят, да и сам я езжал и дурного ни от кого не видал, окроме доброго.
– Мало ли чем другим вы бы могли заняться дома: и землей, и лугами…
– Как можно, ваше сиятельство! – подхватил Илюшка с одушевлением, – уж мы с этим родились, все эти порядки нам известные, способное для нас дело, самое любезное дело, ваше сиятельство, как нашему брату с рядой ездить!
– А что, ваше сиятельство, просим чести, в избу не пожалуете ли? На новоселье еще не изволили быть, – сказал старик, низко кланяясь и мигая сыну. Илюшка рысью побежал в избу, а вслед за ним, вместе с стариком, вошел и Нехлюдов.
Глава XVII
Войдя в избу, старик еще раз поклонился, смахнул полой зипуна с лавки переднего угла и, улыбаясь, спросил:
– Чем вас просить, ваше сиятельство?
Изба была белая (с трубой), просторная, с полатями и нарами. Свежие осиновые бревна, между которыми виднелся недавно завядший мох, еще не почернели; новые лавки и полати не сгладились, и пол еще не убился. Одна молодая, худощавая, с продолговатым задумчивым лицом крестьянская женщина, жена Ильи, сидела на нарах и качала ногой зыбку, на длинном шесте привешенную к потолку. В зыбке, чуть заметно дыша и закрыв глазенки, раскинувшись, дремал грудной ребенок; другая, плотная, краснощекая баба, хозяйка Карпа, засучив выше локтя сильные, загорелые выше кисти руки, перед печью крошила лук в деревянной чашке. Рябая беременная баба, закрываясь рукавом, стояла около печи. В избе, кроме солнечного жара, было жарко от печи и сильно пахло только что испеченным хлебом. С полатей с любопытством поглядывали вниз, на барина, белокурые головки двух парнишек и девочки, забравшихся туда в ожидании обеда.
Нехлюдову было радостно видеть это довольство и вместе с тем было почему-то совестно перед бабами и детьми, которые все смотрели на него. Он, краснея, сел на лавку.
– Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще больше.
Карпова хозяйка отрезала большой кусок хлеба и на тарелке подала его барину. Нехлюдов молчал, не зная, что сказать; бабы тоже молчали; старик кротко улыбался.
«Однако чего ж я стыжусь? точно я виноват в чем-нибудь, – подумал Нехлюдов. – Отчего ж мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» Однако он все молчал.
– Что ж, батюшка Митрий Миколаевич, как насчет ребят-то прикажете? – сказал старик.
– Да я бы тебе советовал вовсе не отпускать их, а найти здесь им работу, – вдруг, собравшись с духом, выговорил Нехлюдов. – Я, знаешь, что тебе придумал: купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу да еще землю…
Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика.
– Как же, ваше сиятельство, на какие же деньги покупать будем? – перебил он барина.
– Да ведь небольшую рощу, рублей в двести, – заметил Нехлюдов.
Старик сердито усмехнулся.
– Хорошо, кабы были, отчего бы не купить, – сказал он.
– Разве у тебя уж этих денег нет? – с упреком сказал барин.
– Ох, батюшка ваше сиятельство! – отвечал с грустью в голосе старик, оглядываясь к двери, – только бы семью прокормить, а уж нам не рощи покупать.
– Да ведь есть у тебя деньги, что ж им так лежать? – настаивал Нехлюдов.
Старик вдруг пришел в сильное волнение; глаза его засверкали, плечи стало подергивать.
– Може, злые люди про меня сказали, – заговорил он дрожащим голосом, – так, верите Богу, – говорил он, одушевляясь все более и более и обращая глаза к иконе, – что вот лопни мои глаза, провались я на сем месте, коли у меня что есть, окроме пятнадцати целковых, что Илюшка привез, и то подушные платить надо – вы сами изволите знать: избу поставили…
– Ну, хорошо, хорошо! – сказал барин, вставая с лавки. – Прощайте, хозяева.
Глава XVIII
«Боже мой! Боже мой! – думал Нехлюдов, большими шагами направляясь к дому по тенистым аллеям заросшего сада и рассеянно обрывая листья и ветви, попадавшиеся ему на дороге, – неужели вздор были все мои мечты о цели и обязанностях моей жизни? Отчего мне тяжело, грустно, как будто я недоволен собой, тогда как я воображал, что, раз найдя эту дорогу, я постоянно буду испытывать ту полноту нравственно-удовлетворенного чувства, которую испытал в то время, когда мне в первый раз пришли эти мысли?» И он с необыкновенной живостью и ясностью перенесся воображением за год тому назад, к этой счастливой минуте.
Рано-рано утром он встал прежде всех в доме и, мучительно волнуемый какими-то затаенными, невыраженными порывами юности, без цели вышел в сад, оттуда в лес и среди майской, сильной, сочной, но спокойной природы долго бродил один, без всяких мыслей, страдая избытком какого-то чувства и не находя выражения ему. То со всею прелестью неизвестного юное воображение его представляло ему сладострастный образ женщины, и ему казалось, что вот оно, невыраженное желание. Но какое-то другое, высшее чувство говорило: не то и заставляло его искать чего-то другого. То неопытный, пылкий ум его, возносясь все выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось ему, законы бытия, и он с гордым наслаждением останавливался на этих мыслях. Но снова высшее чувство говорило: не то и снова заставляло его искать и волноваться. Без мыслей и желаний, как это всегда бывает после усиленной деятельности, он лег на спину под деревом и стал смотреть на прозрачные утренние облака, пробегавшие над ним по глубокому, бесконечному небу. Вдруг, без всякой причины, на глаза его навернулись слезы, и, бог знает каким путем, ему пришла ясная мысль, наполнившая всю его душу, за которую он ухватился с наслаждением, – мысль, что любовь и добро есть истина и счастие, и одна истина и одно возможное счастие в мире. Высшее чувство не говорило: не то; он приподнялся и стал поверять эту мысль. «Оно, оно, так! – говорил он себе с восторгом, меряя все прежние убеждения, все явления жизни на вновь открытую, ему казалось, совершенно новую истину. – Какая глупость все то, что я знал, чему верил и что любил, – говорил он сам себе. – Любовь, самоотвержение – вот одно истинное, независимое от случая счастие!» – твердил он, улыбаясь и размахивая руками. Со всех сторон прикладывая эту мысль к жизни и находя ей подтверждение и в жизни, и в том внутреннем голосе, говорившем ему, что это – то, он испытывал новое для него чувство радостного волнения и восторга. «Итак, я должен делать добро, чтоб быть счастливым», – думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним.
Он видел перед собой огромное поприще для целой жизни, которую он посвятил на добро и в которой, следовательно, будет счастлив. Ему не надо искать сферы деятельности: она готова; у него есть прямая обязанность – у него есть крестьяне… И какой отрадный и благодарный труд представляется ему: «действовать на этот простой, восприимчивый, неиспорченный класс народа, избавить его от бедности, дать довольство, передать им образование, которым, по счастью, я пользуюсь, исправить их пороки, порожденные невежеством и суеверием, развить их нравственность, заставить полюбить добро… Какая блестящая, счастливая будущность! И за все это я, который буду делать это для собственного счастия, я буду наслаждаться благодарностью их, буду видеть, как с каждым днем я дальше и дальше иду к предположенной цели. Чудная будущность! Как мог я прежде не видеть этого?»
«И кроме этого, – в то же время думал он, – кто мне мешает самому быть счастливым в любви к женщине, в счастии семейной жизни?» И юное воображение рисовало ему еще более обворожительную будущность: «Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной, поэтической деревенской природы, с детьми, может быть, со старухой теткой; у нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение – добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие, справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские; а она, с своей хорошенькой головкой, в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает… Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее как на какого-то ангела, на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег, но я все знаю, и крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы»…
Глава XIX
«Где эти мечты? – думал теперь юноша, после своих посещений подходя к дому. – Вот уже больше года, что я ищу счастия на этой дороге, и что ж я нашел? Правда, иногда я чувствую, что могу быть довольным собою, но это какое-то сухое, разумное довольство. Да и нет, я просто недоволен собой! Я недоволен, потому что я здесь не знаю счастия, а желаю, страстно желаю счастия. Я не испытал наслаждений и уже отрезал от себя все, что дает их. Зачем? за что? Кому от этого стало легче? Правду писала тетка, что легче самому найти счастие, чем дать его другим. Разве богаче стали мои мужики? образовались или развились нравственно? Нисколько. Им стало не лучше, а мне с каждым днем становится тяжеле и тяжеле. Если б я видел успех в своем предприятии, если б я видел благодарность… но нет, я вижу ложную рутину, порок, недоверие, беспомощность. Я даром трачу лучшие годы жизни», – подумал он, и ему почему-то вспоминалось, что соседи, как он слышал от няни, называли его недорослем; что денег у него в конторе ничего уже не оставалось; что выдуманная им новая молотильная машина, к общему смеху мужиков, только свистела, а ничего не молотила, когда ее в первый раз, при многочисленной публике, пустили в ход в молотильном сарае; что со дня на день надо было ожидать приезда земского суда для описи имения, которое он просрочил, увлекшись различными новыми хозяйственными предприятиями. И вдруг так же живо, как прежде представлялась ему деревенская прогулка по лесу и мечта о помещичьей жизни, так же живо представилась ему его московская студенческая комнатка, в которой он поздно ночью сидит, при одной свечке, с своим товарищем и обожаемым шестнадцатилетним другом. Они часов пять сряду читали и повторяли какие-то скучные записки гражданского права и, окончив их, послали за ужином, сложились на бутылку шампанского и разговорились о будущности, которая ожидает их. Как совсем иначе представлялась будущность молодому студенту! Тогда будущность была полна наслаждений, разнообразной деятельности, блеска, успехов и, несомненно, вела их обоих к лучшему, как тогда казалось, благу в мире – к славе.
«Он уж идет и быстро идет по этой дороге, – подумал Нехлюдов про своего друга, – а я…»
Но в это время он уже подходил к крыльцу дома, около которого стояло человек десять мужиков и дворовых, с различными просьбами дожидавшихся барина, и от мечтаний он должен был обратиться к действительности.
Тут была и оборванная, растрепанная и окровавленная крестьянская женщина, которая с плачем жаловалась на свекра, будто бы хотевшего убить ее; тут были два брата, уж второй год делившие между собой свое крестьянское хозяйство и с отчаянной злобой смотревшие друг на друга; тут был и небритый седой дворовый с дрожащими от пьянства руками, которого сын его, садовник, привел к барину, жалуясь на его беспутное поведение; тут был мужик, выгнавший свою бабу из дома за то, что она целую весну не работала; тут была и эта больная баба, его жена, которая, всхлипывая и ничего не говоря, сидела на траве у крыльца и выказывала свою воспаленную, небрежно обвязанную каким-то грязным тряпьем, распухшую ногу…
Нехлюдов выслушал все просьбы и жалобы и, посоветовав одним, разобрав других и обещав третьим, испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния, прошел в свою комнату.








