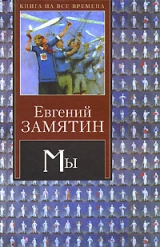
Текст книги "Литературные сказки народов СССР"
Автор книги: Лев Толстой
Соавторы: Николай Гоголь,Иван Бунин,Максим Горький,Николай Лесков,Евгений Замятин,Павел Бажов,Владимир Короткевич,Андрей Платонов,Михаил Салтыков-Щедрин,Владимир Одоевский
Жанры:
Классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Александр Вельтман {107}

Солдатская сказка
…По принятии лазарета Артамон Матвеевич назначил Емельяна Герасимовича бессменным дежурным с тем, чтоб ни шагу из лазарета. Как исправный дежурный, Емельян Герасимович тотчас же пошел по камерам раненых и больных.
– Что, ребята, больны?
– Больны, ваше благородие.
– Все до одного больны?
– Все до одного, ваше благородие.
– Ну, на здоровье, ребята; а что ж вы тут делаете?
– Да что, нечего делать, ваше благородие, лежим, а подчас и посидим, как отляжет.
– Стыдно сидеть сложа руки!
– Стыдно, ваше благородие, да дело невольное.
– А кто неволит?
– Да есть тут командирша лазаретная.
– Что за командирша такая, где она?
– Да вот она, ваше благородие: Кузьму Иванова, полкового сказочника, треплет – трррах! трах! трах! тррррр!
– Это что такое?
– А вот, ваше благородие, она зубами бьет сбор на плац; сейчас начнет сказку.
– Трррах! трах! трах! Лежите смирно, ребята! По команде, слушай! В некотором царстве, в некотором государстве… – начал, пробарабанив зубами, полковой сказочник, который в жару лихорадки бредил сказками. Только что начнет его бить лихорадка, пойдет стукотня зубами, потом кинет в жар, и солдат начинает сказку:
– В некотором царстве, в некотором государстве…
– В некотором государстве? Ну! – сказал Емельян Герасимович, ужасный охотник до сказок, садясь на табурет подле койки солдата-сказочника и внимательно слушая его рассказ.
– В некотором царстве, в некотором государстве, – продолжал солдат-сказочник, – жил-был на постоянных квартирах полковой командир, и было у него три майора, два умных, а третий – так ничего; и был у него сад, а в саду на деревьях росли румяные солдатики, а в цветнике все полевые цветы: ружья, тесаки, ранцы и разные снаряды. Дорожки, словно солдатская портупея, мелком вычищены и вылакированы. Вот, долгое время все честно было и в целости, вдруг смотрит дежурный по караулам, что ночь, то пропажа и казне убыток: кто-то обрывает солдатиков. Что делать! Дежурный глаз не смыкает; да перед зарей ветерок, словно винный спирт, в нос кинется, – смотришь, охмелеет дежурный и всхрапнет – глядь, а на каком-нибудь дереве нет солдатиков. Пошел дежурный докладывать про беду полковому командиру. «Ваше высокоблагородие! У нас в саду что-то не честно, кто-то солдатиков обрывает». – «Что ж ты смотрел? а?» – «И в очи смотрю, да не вижу, ваше высокоблагородие».
Посылает полковой командир пример-майора на ночь в сад стеречь солдатиков. Пошел пример-майор; чтоб не спать, стал амуницию пригонять. Всю ночь просидел – нет никого; а перед утром подул ветерок винным спиртом, такой хмельной, что мочи нет; отуманило доброго молодца, приклонил он голову на плечо, да как всхрапнет – глядь, а белый день на дворе, и солдатики оборваны. Погонял полковой командир пример-майора; на следующую ночь послал секунд-майора. И тот тоже. Пришел черед третьему – просто майору. «Постой, – думает он, – я не таковский!» И взял он с собой чесноку да лучку, залег за деревом – и затянул песню:
Ох ты, девица,
Ты красавица,
Ты позволь, душа, солдату
Поживиться от тебя!
Вдруг слышит, под утро хмельным запахло! «Доброе дело! – говорит, – у нас есть чем и закусить». Только что ветерок пахнет спиртом, поднесет ему, а он и закусит лучком да чесночком. И притворился он, прилег пьянюгой, всхрапнул, свистнул носом, высматривает, что будет. Видит – летят, черт знает на чем, душки-холодашки, а впереди них лихоманка – синяя-пресиняя. «Постойте, – говорит, – не нужно ли ему еще поднести?» И подошла она к майору, приложила ухо; а он ее цап-царап за длинную косу. «Ух, – говорит, – какая славная коса, точно грива, хоть на гренадерский султан!» – «Сударик, солдатик, господин служивый, господин майорчик, генерал ты мой сердечный, сделай милость, что хочешь возьми, только пусти!» – «Ну, а что дашь?» – «Дам тебе любую душку-холодашку, выбирай по сердцу» – «А зачем ее мне?» – «В жены – славная будет жена, молодица, каких свет не производил». – «Э, нет, уж если жениться мне, так на тебе». – «Как можно! Ведь я лихоманка, царица лазаретного царства». – «А чем я хуже тебя – майор и разных орденов кавалер? Не хочешь, так ступай со мной в главную квартиру; там тебя сквозь строй проведут». – «Ну, так и быть, – говорит, – вот тебе рука моя». – «Э, нет, покажи сперва свое царство, да много ли у тебя всякого богатства». – «Нечего делать, полетим».

Вот, закрутив косу в руке, полетел добрый м олодец с лихоманкой, – душки-холодашки за ним следом. Летели долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, и прилетели они в лазаретное царство, спустились у белокаменных палат. Лекаря, фершал аповыскакали на крыльцо, навстречу, приняли лихоманку под руки, и майор с ней рядом. Вошли в палату; а в палате по обе стороны на койках солдатики лежат да поохивают. «Много народу в твоем царстве! – сказал майор. – Здорово, ребята!» – «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» – проговорили в голос солдатики, выравнявшись на койках, руки по швам. – «Чт о, каково вам здесь?»
– Очень… ваше высокоблагородие… если б порция немножко…
– Как, чт о? Да чем вас кормят?
– А бог знает чем, ваше высокоблагородие, и названья-то кушаньев все не русские.
– Прикажите-ко, сударыня моя, показать ваши провиантские магазины?
Провели майора в аптеку. «Ну, – говорит, – какой порядок! Это, верно, крупа и мука, солдатские пайки в банках? Славный порядок! Посмотрим теперь кухню». Посмотрел майор, подивился: «Что же это, – говорит, – такое? Верно, похлебка, а это размазня с маслом?» – «А вот мы тебя попотчуем, возлюбленный мой», – говорит ему лихоманка, подает ручку и ведет за браные столы. Уставлены столы склянками и банками, все с ярлычками печатными. Только что майор в палату, вдруг душки-холодашки застонали, заохали лазаретную песню.
– Чт ож это у тебя за девицы такие голосистые?
– А это все мои прислужницы; они и за больными ухаживают. Вот эта запевальница – резь, это – костоедица, это – грыжа, это – ломота… невесты хоть куда! Женись только на какой – сохранит верность до гроба; не то что горячки-наложницы: нет, у меня на это строго! Садись же, возлюбленный мой!
– Ничего, мы постоим; поднеси-ко сперва водочки, да погорчее.
– Изволь, возлюбленный! Подайте, мои врачи любезные, хинной.
– А закусить-то чем?
– У нас, возлюбленный мой, не закусывают, а запивают водицей.
– Тьфу! Что это, желудочная что ли, для сварения желудка?
– Именно для сварения желудка, чтоб сам он не смел пищи варить – на то ему кухня латинская; глупому ли желудку вверять жизнь человеческую: ни выбирать пищи не умеет, ни меры не знает; то переварит, то недоварит – нет, у нас пища по выбору, вся на здоровье отпускается весом, да мерой, чтоб уж нечего было выбрасывать… Вот для этого-то хинная настойка – прекрасная вещь: тотчас завалит желудок, запрет хоть куда.
– Вот что! А потом ты и женись на какой-нибудь душке-холодашке?
– Нет, сперва вытреплю хорошенько, сперва заморожу кровь в жилах, а потом растоплю мозг в костях…
– Как! Ты и солдатиков треплешь! А вы позволяете себя трепать?
– А что ж делать, ваше высокоблагородие: здесь не своя воля. Вот если б поднесли нам полынковой по стаканчику, так мы бы сами растрепали ее.
– Полынковой! – воскликнул майор.
– Смилуйся, возлюбленный мой! – крикнула лихоманка.
– А вот постой, смилуюсь.
Как поднесли фершал абольным по стаканчику полынковой… ух! Так по животу и пошло!
– Ну, ребята, принимайтесь за дело!
Как встрепанные вскочили они с коек, надели халаты и колпаки лазаретные.
– Трепли ее! – крикнул майор.
Начали они трепать госпожу лазаретную: разбежались со страху душки-холодашки, лекаря и фершел а.
– Стой, братцы, надо представить ее заживо полковому командиру, чтоб видел он ее, что за птица такая; во фронт! строй колонну по любому взводу! Скоком, лётом, марш, марш!
Вот выстроились солдатики во фронт, потом построили колонну. Целая армия идет; а лихоманку связали и везут в обозе.
Как стали подходить к полковой квартире, часовые на городских стенах ужахнулись,бегут докладывать командиру, что турки идут в силе великой, в халатах и колпаках. Командир смотрит, а это свои в госпитальной амуниции. «Господин полковник, честь имею явиться! – крикнул майор, – команда обстоит благополучно, больных ни одного». Обрадовался полковой командир и не знает, как принимать майора, по службе или по дружбе. Как представил майор лихоманку, он так и ахнул и собрал военный совет, что с ней делать? Присуждено было уничтожить ее; а полковой лекарь говорит: «Нет, не дозволю, она по моей части». Пример-майор и секунд подтвердили, что действительно лихоманка не по фронтовой части. Вот и решили отдать лихоманку в распоряжение полкового лекаря; а полковой лекарь взял да и женился на ней. Пошел пир горой! Я там был, микштуру пил; выпил с полбочки, а толку нет!.. ух! трррр!.. что это, братцы, за злая такая барыня!..
– А что? – спросил Емельян Герасимович.
– Да весь полк переколотила. Кроме майора – его боится.
– Неужели?
– Право так, ваше благородие! Вот и ко мне привязалась ни с того, ни с сего; за то что походом, в жары, холодной водицы испил; бог свидетель! Да так бьет, как изволите видеть – все зубы выбила!
Повесть о Змее ГорынычеЕмельян Герасимович не заметил, как вышел в калитку на берег Днепра. Шел-шел по берегу и видит – сидит подле реки дедушко, белый как лунь, и удит рыбу; а подле него стоит болван каменный. Емельян Герасимович подошел к старику и произнес арабский стих, указывая пальцем на болвана.
– Ась? Что делают? – спросил старик. – Да золотую рыбку-кудесницу ужу… около уды ходит, а на уду нейдет! А хитрая, хитрая, да я перехитрю ее!
Емельян Герасимович сказал:
– Гм!
– Ась? Не слыхать, посадской! Говори погромче; были у меня ушки смолоду, бывало, слышу, как трава растет, а пришла смерть за мной; а я и говорю ей: «Погоди, сударыня!» – «Откупись!» – говорит, и взяла за выкуп ушки, да глазок взяла, насилу умолил, чтоб хоть один оставила на время… ась? Что изволишь говорить?
– Пьфу! – сказал Емельян Герасимович, осматривая кругом каменного болвана.
– А! Это кто? Да это, сударь, дочь моя. Люди говорят: каменная баба, – не верь. Ей-ей, дочка! Причина такая с ней случилась! Давно, ох давно! Еще до татар. Ась? Не слыхал. Рассказать, как было? Изволь.
– Ага! га! га! – сказал Емельян Герасимович, садясь подле старика.
– Изволь слушать. Вон там за рекой Днепром, на берегу, видишь, какая нора? И взглянуть на нее страшно; там свил гнездо Змей Горыныч. По сю пору водятся там дети Горыныча, змеяты сосунки; еще не выросли, только еще жалят да кусают людей, а есть не едят. А Змей Горыныч был такой большой, что как вылезет из норы, так в головах у него, говорят, светлый день, а в хвосте темная ночь; а как сидит в норе, так по извитому хвосту можно сойти в преиоподню как по лестнице. А в то время на Днепре, до самого моря, было великое царство, жили мы, славный народ, такой добрый, что никому худого слова не молвил, богу молился, посты соблюдал; приди бывало к нам в гости – вымоем, выхолим, в новое платье оденем, за браный стол усадим, запоим, закормим, да еще и спать на мягких перинах уложим; а женам и дочерям велим мух махать. Жили мы весело и богато, шесть дней на себя, а седьмой богу; да черт натрубил в уши: не давай! Возьми и седьмой на себя! Народ и послушался. Говорил нам один святой человек: «Ей, не делайте того, будете черту служить!» Так и сбылось: откуда ни возьмись Змей Горыныч приполз, захлестнул хвостом все царство и говорит: «Ну, теперь вы мои; у меня вам будет привольно: панщины и барщины у меня не будет, а будете вы платить мне оброк, только по одной красной девице с тягла». Поохал, поохал народ, да и пошел по домам. «Что ж, братцы, думаете, ведь вправду немного, только по одной. Раз в год отдал, да и прав, уж за то не будем ходить на барщину, своя воля». Ну, хорошо; вот и пришло время платить оброк. Собрался мир. «Что ж, братцы, как отдавать-то нам: старшую или младшую дочь посылать к черту, или по жеребью, или которая похуже всех?» Вот, иному жаль старшую, иному младшую, по жеребью страшно, – решили вести в оброк ту, что похуже, да не по сердцу. Ну, хорошо. Вот и я говорю жене: «Поведем Парашу», а жена говорит: «Нет, поведем Пашу». – «Не поведем Пашу, Паша работница, нам помощница!» – «А я не дам Парашу – Параша красавица!» Перебранились, подрались; да чья сила, того и воля. «Будешь делать что велят?» – «Ой, буду, буду!» – «Ну, снаряжай!» Пошла снаряжать дочку, да не Парашеньку. «Ты, – говорит, – мое дитятко, будешь жить в высоком тереме, в палатах господских!» И снарядила как невесту на свадьбу, в красной сарафанчик, на голову шитую бисером плетеную повязочку, да белое покрывало, а в ручках платочек шитой золотом. Повели отцы дочерей; матери следом, так и воют; и моя воет, так и разрывается: «Ах ты, мое дитятко ненаглядное, сизая голубушка Парашенька!» Да! Парашенька! Как бы не так!.. Привели к реке; за рекой Змей Горыныч из пещеры выглядывает. Поклонились мы в землю, речь заговорили:
– Привели тебе дань, Змей Горыныч, смилуйся, возьми! Счетом, по красной девице с тягла!
Змей Горыныч повысунулся из норы, встрепенулся, взмахнул перепончатыми крыльями и протянул язык мостом через Днепр. Стали отпускать первую девицу; поклонилась она в ноги отцу и матери, расцеловали ее отец и мать, оплакали, благословили; нарядная сваха взвела на язык, сдернула покрывало, расплела косы, запела свадебную песню. Потянулся мостик назад, а девица-то, грешница, потупила очи, разрумянилась, не об отце и матери, не об отческом доме думает, а об молодом муже, да об высоких палатах господских… Вдруг, хам! Только ее и было. Верно вкусна была – почавкал, почавкал Змей Горыныч, пооблизался и протянул язык за другой, и другая тоже, и третья, и пятая, и десятая тоже. Пришел черед и моей дочке. Я зарыдал, мать завыла, охватила вокруг шеи и запела прощальную песню.
– Да дай ты ей поклониться в ноги отцу и матери! Отпускайте скорее с благословением! – кричит народ.
– Умру, не отдам мою Парашеньку! – кричит жена.
Взбеленился от нетерпения Змей Горыныч, как хлыстнет языком поперек реки, так и рассыпал Днепр словно стекло в мелкие дребезги.
– Давай скорей! – крикнули посаженые отцы, вырвали ее из рук матери, поставили на кончик языка; сваха не успела расплести косы – потянулся язык назад; а она безгрешная была: как задумала, что расстается навеки с отцом, с матерью и с отческим домом; как капнут ее горючия слезы словно кипяток на язык Змея Горыныча, обварили, обожгли; он и рявкнул, замотал языком; а моя дочка как ахнет, да так, как стояла, держа обеими руками платочек, так со страху и окаменела. Змей Горыныч хамкнул было, да зуб не берет; как рявкнет он снова, да плюнет, и переплюнул он ее на другой берег; грохнулась она перед народом. Бросился народ: «Что такое?» И я бросился, смотрю, ан это не Парашенька, а Пашенька; упал на нее, да и облил слезами: «Родная ты моя, милая дочка, холоднее ты камня могильного!.. Погубила тебя родная мать, а не мачеха! Пусть же она смотрит на тебя да век казнится!» И схватил я ее, понес домой, поставил ее перед крыльцом, чтоб мать век смотрела на нее да казнилась.
Змею Горынычу вместо Пашеньки поставили другую девицу; он и скушал ее со вкусом. Много было грешных красных девушек, а много и безгрешных. Грешные все пошли в утробу чертову, а безгрешные от страха окаменели; а отцы да матери разнесли назад по домам и поставили как каменных болванов на юрах перед хатами.
Так, года три прошло ладно; отцы и матери попривыкли к горю; народ выставлял подать сполна; да вдруг настал неурожай на красных девушек, нечем платить подати. Пришли было жалиться к Змею Горынычу, а он и знать ничего не хочет: «Поем вас всех до одного», – говорит. Что делать народу: думали-думали и пошли воровать себе жен, а в дань Змею Горынычу красных девушек. Забыли хлеб пахать, только и думаем, как бы оброк уплатить; нет веселого лица в целом царстве. Народился сын – горе, народилась дочь – другое; да уж все лучше: по крайней мере есть чем дань платить; а недоимков накопилось много.
– Помилуй нас, Змей Горыныч, сложи недоимки.
– А вот я вам сложу! – сказал Змей Горыныч, – ступайте по домам!
Пошли по домам, – а тут же Змей Горыныч наслал экзекуцию – змеят сосунков. Расползлись по всему царству. Чем накормить их? Куда спать уложить? Молочка не хлебают, на пуховой перине жестко спать – пусти-вишь на ночлег под сердце да дай крови пососать. Что ж делать? Пришло терпеть! Так изсосали народ, что боже упаси!
Вот ехал мимо какой-то витязь в светлой броне, на белом коне. «Что вы пригорюнились?» – спрашивает. «Да вот, вашей милости, так и так!» – «А от чего бы это так?» – «Да прогневили господа бога». – «Не прогневили вы его, а сами от него отреклись; он оставил вас; а на свете жить, кому-нибудь служить: не белому дню, так черной ночи. Сами выбирали – служите черту». – «Ох, кабы кто нас помиловал!» – «Кому вас миловать, когда сами себя невзлюбили и не милуете сами себя». – «Каемся!» – «Кто кается, тот спасается, – сказал витязь. – Ступайте, зовите Змея Горыныча, пусть выходит на чистое поле, на суд божий со мной».
– Как можно! Дай бог вашей милости за доброе сердце радостно день встречать, в мире души провожать! Как можно! Он нас съест!
– В ком боязнь, в том нечистая сила, говорят; изгоните из себя духа тьмы молитвой; молитва союз с богом, союз с светом и с жизнью союз, никто не разорвет его, покуда сам человек не разрознит тела своего с духом.
– Пойдем, братцы! Благослови господи!
Пришли к берегу Днепра. Был полдень. Змей Горыныч в норе своей, уложил голову на лапы, свесил язык на сторону, пыхтит, как пес утомленный. Стал народ на берегу, снял шапки, земно поклонился.
– Государь ты наш, Змей Горыныч, удостой, государь, выслушать наше челобитье. Приехал какой-то храбрый витязь во светлой броне на белом коне, лик заря, а очи небо лазоревое.
Змей Горыныч как хамкнет, повело его дугой. Испугался народ, припал на землю.
– Приехал… да и грозится извести… заступись, многомилостивый Змей Горыныч… выйди!.. вон он на поле…
А Змей Горыныч ни слова; крутился-крутился, примолк и выглядывает украдкой из норы.
– Пожалуй, выйди, Змей Горыныч, на чистое поле!
– Что ж, братцы, он и слышать не хочет! – сказал Ратко.
– Змей Горыныч! Храбрый и младый витязь в светлой броне, на белом коне вызывает тебя на бой!
– Что ж, братцы, замолк, слышать не хочет! – сказал Живко.
– Змей Горыныч! Тебе говорим!.. Зовет на поле на суд божий!
– Молчит!
– Что ж, братцы, ведь мы не шутим, а зовем его; а он и слышать не хочет! – сказал Огнян.
– Дочерей наших поел, а ответа дать не хочет!
– Лихой пес поджал хвост!
– Тс! Что ты это, Немир!
– Что Немир, – а вот что!
И высунул Немир язык, дразнит Змея Горыныча:
– Ты, гадюка! Заел у меня две дочки!.. А последнюю… нет, брат… видел?
Разгорячился Немир, схватил камень, да как пустит через Днепр, щелк прямо в бровь Змею Горынычу; ну, будет беда! Дрогнули мы, да бежать.
– Стой, братцы! Снес дурака, снесет и кулака! Вот я ему, да не в бровь, а прямо в глаз! – крикнул Ратко.
Да как свистнет камнем через Днепр и вышиб глаз Змею Горынычу. Рявкнул Змей Горыныч, и ни с места, завернул голову под перепончатое крыло.
Тут все мы поотдохнули, да по камню. Посыпались в него камни:
– Эй ты, полосатая чушка!.. Струсил!
Молчит, ни гугу.
– Что, ваше благородие, господин витязь, не вызовем на поле Змея Горыныча! Как прикажете?
– Выводите нечистую силу из гнезда на чистую воду как знаете, а мое дело выжить его с белого света, – дал ответ витязь в светлой броне, на белом коне.
– Так пойдемте, братцы, – сказал народ.
– Постойте, братцы, – сказал Славой, – его просто не выживешь: надо его выкурить, пойдем за священным чином.
А священный чин разошелся от грешного народа по пустыням и жил келейно. Умолил народ отшельников идти с ним, выкуривать Змея Горыныча. Вот и пошли все чином, кто с дубиной, а кто с кадилом, пришли на Днепр, наметали плоты, переправились. Как послышал Змей Горыныч ладан, как рявкнет, поднялся дыбом, распахнул крылья, разинул пасть, расправил когти и потянулся на воду, на народ. Как пахнут на него ладаном, так и взмело Змея Горыныча с места, скакнул он на чистое поле, хотел лететь, а витязь расскакался, смял его под коня и пригвоздил копьем к земле. Заревел Змей Горыныч, взмутил воздух, взмел песок вихрем, поднялась страшная гроза, завились вокруг черной тучи огненные змеи, перекатился гром с конца в конец. Народ в страхе бежит домой, запирается по домам, припали все лицом к земле, молимся богу, думаем, настало светопреставленье. Вдруг гром рассыпался и все стихло, словно душа отошла. Лежим – словно умерли, никто не дохнет, сердце не колыхнется… Господи боже, чудится или нет: вот, словно певень крикнул?.. Чу, зачирикал воробей… Чу, жаворонок вспел песню… Сердце что-то радостно колотит… Глядь, а на дворе ясный день, солнце играет на небе, благовейный ветер шелестит по листьям, – так весело на душе; кажись бы, нет никакой еще радости, а сердце не нарадуется. Сошелся народ, все здравствуются, обнимаются друг с другом. «Что, батюшка, как вы?» – «Слава богу». – «Слава богу, лучше всего». И побежали все на Днепр.
– Да что ж это такое с нами было? Где Змей Горыныч? Где храбрый витязь? Ужели все это был сон?
– А дай бог, чтоб и сон был в науку, – сказал один старец-отшельник, – у божьего стада сама совесть пастырь; изведете совесть, погубите душу; а душа-то, братцы, наш дружок сердечный; расставаться с другом, расставаться с жизнью!
Вот что; и вы изгубили было своего друга-хранителя, да шатались мертвецами по белому свету; холодом и могилой несло от вас. Ни ложь, ни ночь не приодели вас, благоуханья не умастили, вино не согрело. Высоко поднимались на хитрость, да низко падали. Только у души, братцы, неподдельные, ангельские крылья, она лишь летает по вольной воле, и не роняет кровного друга с вершины к подножью. Много было у вас красных девиц, родных дочерей, да много ли впрок пошло – доброму молодцу в жену, а малому детищу в мать? Всех поел Змей Горыныч, да только вам косточки на похороны повыплевал. Безгрешные только спаслись, – обратились в камень – берегите в память!
Народ слушал старца, да и сотворил слезную молитву. И стали мы жить мирно, радушно, шесть дней на себя, а седьмой господу богу. Колено шло за коленом. Все каменныя девицы… вот и дочка моя… сначала были как живые, только что румянец не играл на щеках; а и они избавились от смерти, да не избавились от старости, сморщились, почернели, а худеть не худеют. Стоят и теперь по полям на горах, где жили отцы. Глупый народ зовет их теперь бабами; да какие ж они бабы, сроду они бабами не были, они неповинные красные девицы. Глупый народ теперь мостит мосты ими да кругом двора вместо тыну их ставит. А я не даю своей дочки. Нет, ни за что не отдам! Изловлю золотую рыбку, так она мне ее живой сотворит. Вот что!.. Тс! Молчи, молчи! Вот идет к уде! Не замай! Ах ты окаянная! Сдернула червячка!.. Ступай, брат, посадской, прочь отсюда! Сделай божескую милость, ступай! Не мешай мне изловить ее!
– Ну, ну, ну! – проговорил Емельян Герасимович, отходя от старика.








