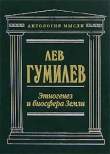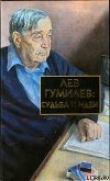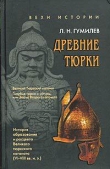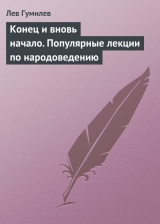
Текст книги "Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению"
Автор книги: Лев Гумилев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Феодальная революция
Вскоре после смерти Карла Великого, уже при его сыне, наряду с этнической дивергенцией началась социальная – феодальная – революция. Она спасла Европу от двух мощных противников: скандинавских викингов и арабов. Арабы успели захватить почти всю Испанию и часть Южной Франции. Викинги грабили все побережье, а обры с берегов Дуная – внутренние территории. Европейские крестьяне, не обученные военному делу, сопротивляться не могли. И тогда герцоги, графы и бароны, имен которых мы не знаем, начали вдруг очень интенсивно и мужественно сопротивляться нападениям и сарацинов, и викингов, и обров; они ненавидели греков, презирали итальянцев, которые проживали последние крохи и у которых такой храбрости не было, плавали на Британские острова, где тоже были остатки Великого переселения народов – англы и саксы, уже потерявшие способность к защите от тех же самых викингов и норманнов. А вот в центре Европы эти будущие феодалы, при всех неприятностях своего характера, оказались воинами весьма дельными, потому что они продолжали кооптировать в свою среду людей толковых, смелых, верных, умеющих сопротивляться. Они все время обновляли свой состав. Кончилось это дело тем, что однажды викинги пошли в устье Сены, разграбили все, что могли, прошли до города Парижа и решили разграбить его. Париж в то время был городом не очень большим, но довольно заметным. Парижане, конечно, бросились в церкви молиться, чтобы святые спасли их от ярости норманнов, но у них оказался толковый граф – Эд. Он сказал: «Святые нам помогут, если мы сами себя не забудем, а ну-ка все – на стены!» Собрал кучку своих ребят и стал всех выгонять на стены защищаться, и чтобы жены и ребятишки, которые повзрослее, таскали воду и пищу, а тех, кто кричал: «Я не пойду, у меня миокардит, вот справка от врача», он тут же хватал с помощью своих ребят и тащил на стену: «Постоишь и с миокардитом, ничего!» Результат был совершенно потрясающим, норманны взялись всерьез штурмовать Париж – не могли взять! Явился Карл Простоватый – король из династии Каролингов, потомок Карла Великого, с войском, постоял, постоял и ушел – побоялся связаться с норманнами. А Эд кричал: «Не сметь уходить со стен, вот я вам дам, вот покажу!» И Париж устоял. Это произвело на всех большое впечатление. И хотя тогда не было ни телефона, ни радио, ни телеграфа, ни почты, но узнавали люди новости не хуже, чем мы: из уст в уста. И все пришли к выводу: «Вот такого бы нам короля». И отказались подчиняться законной династии, а провозгласили Эда королем Франции. Ну, правда, у него этот номер не прошел, преждевременно было, но история повторилась через 90 лет, в 888 г., когда Гуго Капет, тоже граф Парижский, таким же образом был провозглашен за свою энергию, за свои личные качества королем Франции. А Каролингам отказали в повиновении. Последнего поймали в городе Лансе, посадили в тюрьму, где он и умер.
Что это такое? Это еще один вариант бунта пассионариев, опирающихся на людей гармоничных и субпассионарных, против устаревшей системы, системы, потерявшей пассионарность. И заметьте при этом следующее обстоятельство: потомки Людовика Благочестивого, и французские, и немецкие, были люди исключительно бездарные. Спрашивается, зачем же тогда французы и немцы поддерживали таких королей? Да они не королей поддерживали, они выдвигали их просто как знамя, как лозунг, как идеограмму, как символ, как значок, за который можно сражаться, защищая свою независимость. В конце концов, им было безразлично, какие ритуальные слова произносить, когда они шли в бой, – «за Карла» или «за Людовика», «за черта лысого!..». Шли-то они ради себя, ради своих святынь и своих потомков.
Так что в IX в. стала выкристаллизовываться Западная Европа в том виде, как мы ее знаем. И для нее характерно то, что не известно никому другому в мире, – национальный принцип. Natio по-латыни это буквально значит – рождение. Рождение, язык и территория – вот что соединяется в этом термине. Но такое понимание было характерно только для западных европейцев, и ни для кого больше, потому что человек, живший в Китае, или в Монголии, или в Арабском халифате, руководствовался совершенно иными принципами определения своих и чужих. Таким образом, «нацио» эквивалентно нашему термину «этнос» и отнюдь не эквивалентно нашему современному понятию «нация». Так что не следует путать: нации современного типа создались только при капитализме, а тогда они так назывались, но были по существу этносами.
Два индикатора
А теперь подведем итог. Мы рассмотрели несколько вариантов начальной фазы этногенеза – фазы подъема, коснулись разных эпох и стран. Так спросим себя: а что же есть общего между Византией до Константина, мусульманами времен первых халифов, китайцами династии Тан, европейцами эпохи раннего феодализма? А ведь разница в стереотипах поведения между ними – колоссальная!
В чем же тут общее? Общее в двух моментах, которые нам удалось подметить, – в отношении общества к человеку и отношении человеческого коллектива к природе.
Вот эти два индикатора для нас и будут важны.
Как мы вскрываем этнические отношения? Только исследуя модификации и изменения общественных отношений. В истории описаны общественные отношения, история – наша путеводная нить, нить Ариадны, которая помогает нам выйти из лабиринта. Поэтому нам историю знать надо.
Что же мы можем отметить для этой фазы становления этногенеза? Общество (все равно из кого состоящее: будь то арабы, монголы, древние евреи, византийцы, франки) говорит человеку одно: «Будь тем, кем ты должен быть!» В этой иерархической системе если ты король – будь королем, если ты министр – будь министром, если ты рыцарь – будь рыцарем и не вылезай никуда, исполняй свои функции, если ты слуга – будь слугой, если ты крестьянин – будь крестьянином, плати налог. Никуда не вылезай, потому что в этой крепко слаженной иерархической системе, составляющей консорцию, каждому человеку выделяется определенное место. Если они начнут бороться друг с другом за теплые места, а не преследовать одну общую цель, они погибнут. И если это случается, то они и гибнут, а в тех случаях, когда они выживают, действует этот же самый императив.
Ну хорошо. А если, скажем, король не соответствует своему назначению? Свергнуть его, нечего с ним цацкаться! А если министр оказывается глупым и неудовлетворительным? Да отрубить ему голову! А если рыцарь или всадник оказывается трусоватым и недисциплинированным? Отобрать лошадь, оружие и выгнать к чертям собачьим, чтобы близко и духом его не пахло! А если крестьянин не платит налог? «Ну, это мы заставим, – говорили они, – это мы умеем». В общем, каждый должен был быть на своем месте. Из коллектива с таким общественным императивом получалась весьма слаженная этническая машина, которая либо ломалась, либо развивалась дальше и переходила в другую фазу – акматическую. Ее мы сейчас затрагивать не будем, поскольку ей будет посвящена отдельная глава.
А пока зададимся еще одним немаловажным вопросом: как отражается эпоха подъема на природе?
Как я уже сказал, арабы и их эпоха подъема никак не повлияли на пустыню, потому что арабские пассионарии довольно быстро из этой пустыни ушли и занялись своими военными делами. Европейцы в эпоху подъема были тоже заняты оформлением своих этносов в небольшие, но резистентные социальные группы, и поэтому им было, в общем, не до того, чтобы уничтожать животных и леса. Природа отдохнула. Редкое население, которое осталось после всех солдатских мятежей, гибели римских провинций и римского управления, после походов варваров, которых тоже было очень немного, ограниченно влияло на природу, и в Европе выросли леса. У Дорста это очень хорошо описано в книге «До того, как умрет природа». Так, 2/5 Франции заросли лесом за эти годы, расплодились, конечно, и дикие животные, и перелетные и местные птицы, зайцы, то есть страна, обеспложенная, кастрированная цивилизацией, опять превратилась в земной рай. И тут оказалось возможным производить защиту этой страны, и оказалось, что имеет смысл ее защищать, потому что жить-то в ней хорошо, а враги были всюду.
Что было в это время в Византии? В Византии был, в общем, тот же процесс – было не до природы, и, кроме того, в Сирии, в Малой Азии, вокруг Константинополя был такой устойчивый, тысячелетиями отработанный антропогенный ландшафт, что вносить в него какие-нибудь изменения казалось глупо. Любой прогресс мог пойти только во вред, а не на пользу. «Стоп!» – должен был бы мне сказать профессор В.В. Покшишевский, который занимается проблемой урбанизации. А как же построение города Константинополя? Ведь Рим-то причинил колоссальный вред всему Средиземноморью. Константинополь был вдвое меньше Рима, но тоже большой, от 900 тысяч до 1 миллиона жителей. В принципе, казалось бы, должно быть то же самое... Но вот парадокс. Никакого вреда природе этот город не причинил, хотя и был окружен длинной стеной. Стена потребовала массу камня и много работы. В этом городе были великолепнейшие здания вроде собора Святой Софии (его малая копия была у нас в Ленинграде, на углу ул. Жуковского и Греческого проспекта – Греческий собор). Там были прекрасные дворцы, бани, ипподром, и люди жили не в условиях квартирного кризиса; они жили в небольших коттеджах, окруженных садами. Константинополь был город-сад, и когда я спорил с В.В. Покшишевским о том, что не урбанизация причиняет ущерб природе, а люди определенного склада, и привел ему в пример Константинополь, он, зная дело, сказал: «Так ведь это же был город-сад». А я говорю: «А кто вам в Москве мешает заниматься озеленением?»
Таким образом, в Византии создалась система, которая не нарушила биоценозов, оставшихся от древности, а только дополнила их построением великолепного города, жившего, в общем, за счет своих собственных ресурсов и привоза из далеких стран. Чего не хватало жителям Константинополя? – спросим мы как экономико-географы. В садах у них всяких фруктов было достаточно, виноград тоже был, то есть вино у них было свое. Кроме того, у многих были поместья поблизости, там были козы – мясо, молоко и опять же виноградники. Хлеб нужен был. Но так как в Константинополе и других городах было великолепно развито художественное ремесло, предметы которого хранятся в лучших музеях Европы, греки возили их на продажу в Ольвию, в Херсонес и в Феодосию, а с низовьев Днепра и Дона везли от сарматов огромное количество хлеба и прокармливали все свое население. Кроме того, хлеб везли из Египта, так как там плотины еще не было, и поэтому плодородный Нил разливался и оставлял удобрения на полях. Урожаи были баснословные, египтянам хлеба девать было некуда, а они по инерции работали и работали, потому что видели в этом смысл жизни. Предметы роскоши везли из Китая. Например, шелка своего не было, но он был очень нужен, потому что были вши, а шелковое белье спасает от вшей. Поэтому шелк покупали. Китайцы очень неохотно его продавали и меняли, но выдавали даже бесплатно, как дань, своим кочевым соперникам. А греки тем давали опять же красивые вещи: всякие чаши, инкрустации, мечи, ожерелья, браслеты для женщин. Ведь женщинам-то красивые вещи нужны, они же их любят. Поэтому степные богатыри с удовольствием били китайцев, отбирали у них шелк и меняли у греков на подарки своим женам, так что греки получали шелковую материю, в общем, по сходным ценам. Пассионарный толчок в Византии тоже унес огромное количество человеческих жизней и культурных памятников, но для природы оказался спасительным.
Итак, ВСПЫШКА ПАССИОНАРНОСТИ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ НАЧАЛА ЭТНОГЕНЕЗА, но характеристики этого процесса различны. Они зависят от уровня техники, которая либо развивается, либо нет, если нет металлов и глины, как на островах Полинезии. Очень большое значение имеет первичная расстановка сил. Она может и сохраниться, и измениться. Культура наиболее консервативна и устойчива, вследствие чего новые этносы наследуют знания и навыки старых, уходящих в небытие. Из-за этого часто создается иллюзия непрерывности прогресса, но надо помнить, что и он подвластен законам диалектики, или, как их называли в древности, превратностям.
Глава пятая
Акматическая фаза
Общественный императив
В предыдущей главе мы описали подъем пассионарности, но не ответили на вопрос: а почему этот подъем кончается? Казалось бы, если пассионарность как признак появилась и переносится обычным половым путем, передачей соответственного признака потомству, а пассионарии в силу своей повышенной тяги к деятельности, естественно, оставляют большое потомство, не всегда законное и часто самое разнообразное, то, казалось бы, количество пассионариев должно в данном регионе расти и накапливаться, пока они не совершат великие, прогрессивные дела.
Однако ничего подобного не получается. После определенного момента, некой красной черты, пассионарии ломают первоначальный императив поведения. Они перестают работать на общее дело, начинают бороться каждый сам за себя. Причем сначала эти, скажем, феодалы, или какие-нибудь византийские купцы, или арабские завоеватели мотивируют это так: «Мы выполняем все обязательства по отношению к нашей общественной форме – халифату ли, империи ли Византийской, Французскому или Английскому королевству. Мы делаем все, что от нас требуется, а силы у нас остаются». Поэтому императив меняется. Он звучит уже так: «Не будь тем, кем ты должен быть, но будь самим собой!» Это значит, что какой-нибудь дружинник – копьеносец, оруженосец, хочет уже быть не просто оруженосцем или копьеносцем своего графа или герцога, но еще и Ромуальдом или каким-нибудь Ангерраном; он хочет иметь свое имя и прославить именно его! Художник начинает ставить свою подпись под картинами: «Это я сделал, а не кто-то». Да, конечно, все это идет на общую пользу, украшает город замечательной скульптурой, но «уважайте и меня!». Проповедник не только пересказывает слова Библии или Аристотеля без сносок, перевирая как попало, не утверждая, что это чужие святые слова, нет, он говорит: «А я по этому поводу думаю так-то», и сразу становится известно его имя. И так как таких людей оказывается весьма большое число, то они, естественно, начинают мешать друг другу. Они начинают толкаться, толпиться, раздвигать друг друга локтями во все стороны и требовать каждый себе больше места.
Поэтому повышенная пассионарность этнической, а тем более суперэтнической системы дает положительный результат, иначе говоря, успех, только при наличии социокультурной доминанты-символа, ради которого стоит страдать и умирать. При этом желательно, чтобы доминанта была только одна: если их две или три, то они накладываются друг на друга и тем гасят разнонаправленные пассионарные порывы, как бывает при алгебраическом сложении разных векторов. Но даже без такой интерференции может возникнуть анархия за счет эгоистических действий сильно пассионарных особей. Усмирить или запугать их очень трудно; подчас легче просто убить.
Субпассионарии
Уместно здесь обратиться и к роли субпассионариев, которым при первой фазе этногенеза, собственно, не было места в системе. В любые времена есть люди, которые ни к чему не стремятся, хотят только выпить и закусить, поспать где-нибудь на досках за забором и ставят это целью своей жизни. В первый период этногенеза они почти никому не нужны, потому что в системе, которая ставит перед собой огромные цели, стремится к идеалу, понимая под ним далекий прогноз, – зачем такие люди? На них никакой начальник не может положиться. Они могут в любой момент предать или просто не выполнить приказания. Они не ценятся, и их не берегут. Так и было в жестокое, хотя и конструктивное время подъема. А тут, когда в одной системе возникает несколько центров, борющихся между собой за преобладание, то каждому из инициативных пассионариев становится нужна своя особая банда. И он находит возможность использовать субпассионариев в качестве слуг, наложниц, наемников и, наконец, бродячих солдат-ландскнехтов. Набирают самым простым способом – дают прохвосту золотую монету и говорят: «Милейший, возьми это, иди и говори всем, что наш герцог – добрый герцог». И этого оказывается достаточно для того, чтобы данный добрый герцог мог собрать себе такое количество сторонников, чтобы устроить великую кровавую смуту.
Конечно, это плохие солдаты, а где взять хороших? Все пассионарии уже или прилепились к кому-то, или сами выставили свою персону в кандидаты на высокое место; пассионарии находили себе применение как воины-профессионалы князей, графов, эмиров и султанов. Субпассионарии же выступали прежде всего как их вооруженная обслуга. И субпассионариям это было даже выгоднее, потому что жизнью-то они не очень рисковали, а после битвы помародерствовать, побегать, поискать в карманах у убитых что-нибудь или ограбить мирное население – это они могли, как могли быть ворами, нищими, наемными солдатами или бродягами. В акматической фазе таких людей не ценят настолько, что дают им умирать с голоду, если не вешают «высоко и коротко» (французская средневековая юридическая формулировка). Однако эти операции оттягивают у этносоциальных систем те силы, которые можно было бы употребить на решение насущных задач.
Изменение отношения к субпассионариям со стороны коллектива показывает один из примеров того, как меняется коллективное поведение в этносе от фазы к фазе, – модуляция биосферы.
И с точки зрения географии нам важны не способы эксплуатации крестьян, а именно характер поведения всего коллектива-этноса.
Измененный стереотип поведения
И тут нужно сказать несколько слов об этике. Этика рассматривает отношение сущего к должному, поэтому особая форма ее вырабатывается при каждой фазе этногенеза. Существуют, конечно, социальная этика и социальная мораль – это всем известно, но мы сейчас будем говорить не об этом, а о влиянии фаз этногенеза на этические системы. В фазе подъема, когда в силе был императив: «Будь тем, кем ты должен быть!» – этика заключалась в безусловном подчинении индивидуума принципам системы. Нарушение принципов системы рассматривалось как преступление, наказуемое безоговорочно. Хорошо – означало выполнить то, что положено; а плохо – означало не выполнить то, что положено.
При акматической фазе, когда каждый говорил: «Я хочу быть самим собой! Я выполняю то, что положено; государству служу сорок дней в году на войне, а в остальные дни волен делать все, что мне вздумается, у меня есть своя фантазия!» – тут возникла другая этика.
Чтобы осуществлять собственные фантазии, какому-нибудь, например, барону требовалась мощная поддержка собственного окружения. Это значило, что он старался набрать побольше людей, которые зависели бы лично от него. Но ведь и он не в меньшей степени зависел от них. Если он нанимал на службу каких-то лакеев, ландскнехтов, стрелков для охраны своего дома, каких-нибудь копьеносцев для атак на противника, то они все, конечно, зависели от него, делали, что им прикажут, потому что он им платил, но он-то зависел от того, как добросовестно они будут выполнять свои обязанности, не предадут ли они его, не убегут ли в решительный момент, не откроют ли ворота замка противнику.
Возникла система взаимообязанности и взаимовыручки, круговой коллективной ответственности. Каждый отвечал за свой маленький коллектив, в который он непосредственно входил, и за большой, в который он входил опосредованно, как член малого коллектива; таким образом, он отвечал и за себя, и за своего барона, и за свое герцогство, и за свою страну. И точно так же король, герцог, граф или барон был обязан заботиться о своих вассалах. Конечно, не всегда это соблюдалось, но ведь в таких случаях разрешалось нарушить вассальную присягу. Если сеньор относился к своему вассалу недостаточно внимательно, то вассал имел право уйти от него. Обязанности были взаимные.
Было только одно законодательство, в котором эта этика записана и уцелела, – это Яса Чингисхана. Она сохранилась, переведена с персидского языка на русский. Там примерно три четверти законов направлены на наказание людей, не оказавших помощи товарищу. Например, если монгол едет по степи и встречает того, кто хочет пить, и не даст ему напиться – смертная казнь; если он едет в строю и товарищ, едущий впереди, уронил колчан со стрелами, ну случайно оборвалось, и задний не поднял и не отдал – смертная казнь; в мягких случаях – ссылка в Сибирь (монголы тоже ссылали в Сибирь).
Эта этика существует и по сию пору в качестве реликтовых форм. Например, никакая экспедиция в тяжелых условиях без такой этики, основанной на взаимовыручке, работать не сможет. Вот мне приходилось читать в газетах, что какие-то туристы переходили на Алтае речку и один свалился в воду, а остальные его не вытащили, потому что каждый думал: «Ведь это же он свалился, а не я, зачем же я полезу, я же не обязан». Так вот это тоже – этика, но уже совсем другого типа. По этике Ясы человек был обязан лезть и выручать, а если бы не полез, то его бы судили не в 24 часа, а в полчаса и казнили бы за неоказание помощи товарищу. Не во всех законах сохранилась эта форма этики, хотя она присутствовала и в разбойничьей банде, и в каком-нибудь полку кавалерийском или пехотном, в экспедиции, как я уже говорил, – везде и всегда там, где людей подстерегает опасность. Это единственная спасительная форма поведения, при которой можно как-то уцелеть.
Наличие такой этики играло особую роль в акматической фазе. Оно в значительной степени обусловливало приток свежих сил молодого поколения пассионариев в уже имеющиеся консорции и субэтносы.
В условиях, когда война была повседневна, каждый, кто стремился жить не только чем-то, но и ради чего-то (а таких хватало), нуждался в соратниках и хотел быть уверен, что его не предадут. Поэтому-то и приходилось делать выбор. Конечно, в выборе сторонников определенное значение имел и социальный момент. Но вряд ли его можно считать решающим, поскольку в акматической фазе наследственность чинов и званий была очень условной. Так, в Европе, чтобы войти в класс феодалов, стать дворянином, даже иметь титул, надо было совершить какой-то подвиг. Конечно, можно было получить это звание и по наследству – дети графов, естественно, становились графами, но если, скажем, у графа одно графство и пять человек детей, то один получал наследство, а остальные-то ничего не получали, и они назывались виконтами, то есть второсортными графами. Но это их не устраивало, потому что никаких материальных преимуществ они при этом не имели. А кроме того, представьте себе пассионария из народа. Пассионарность — это признак природный, передающийся генетически, а во всех слоях населения есть очень симпатичные дамы. Пассионарии, занявшие высокое положение, не зевают и везде оставляют потомство. Получаются пассионарии во всех слоях населения – и среди горожан, и среди крестьян, и среди невольников, даже рабов. Они не удовлетворяются своим социальным положением, они ищут выхода. Так, во Франции, например, этот выход существовал вплоть до XVII в., до Ришелье, который велел все-таки пересчитать, кто дворяне, а кто не дворяне, потому что дворянином заявлял себя каждый, кто хотел поступить на королевскую службу и делать там свою карьеру. Никто его не проверял, потому что некогда было и незачем, считалось – раз человек хочет, ну почему его не признать дворянином, какая разница? Да, конечно, налог с него уже брать нельзя, но он же служит. А потом его, вероятно, скоро убьют, потому что служба-то в основном военная, так тогда вообще незачем огород городить. Любой пассионарий мог объявить себя дворянином, и число «феодалов» выросло колоссально. Это вызвало совершеннейшее броуновское движение, которое называется феодальной раздробленностью.
Сам принцип феодализма – экономический принцип – вовсе не предполагает огромного количества безобразий. Они могут быть и не быть, это не связано с экономическими условиями. А вот откуда стремление, например, дать по физиономии соседу, а потом убить его на дуэли? Пользы от этого никакой нет, риск большой, потому что сосед тоже может вас убить. Но желающие рисковать в Европе XI–XIV вв. находились слишком часто. Результаты уже к XII в. были следующие.
В Германии служилые латники превратились в бургграфов – рыцарей-разбойников. Фридриху Барбароссе пришлось их вешать.
Во Франции королю отказывали в подчинении Бретань, Нормандия, Анжу, Мэн, Аквитания, Тулуза, Лангедок и Фландрия, не говоря о Бургундии и Лотарингии. А в Провансе не признавали даже католической церкви, так как там очень боялись альбигойцев (о них подробнее чуть ниже).
В Англии шла постоянная война с кельтами, а англосаксонское население убегало за пределы острова от королей-французов (Плантагенетов) и их феодальной армии.
В Италии воевали Венеция с Генуей, Флоренция с Пизой, Милан с Романьей и, что хуже всего, папы с императорами.