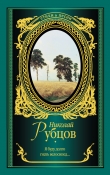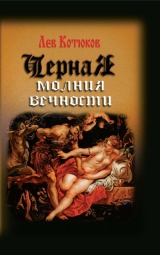
Текст книги "Черная молния вечности (сборник)"
Автор книги: Лев Котюков
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
О чем писать?! На то не наша воля!
Эх, как это проглядел Рубцова лисьеглазый Прокофьев?! Забавное бы состоялось судилище! Ведь было за что, в отличие от неопределенно-туманного, скучного Бродского с его непрозрачными намеками. Ну хотя бы за это:
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.
Или:
Стукнул по карману – не звенит!
Стукнул по другому – не слыхать!
В коммунизм, в безоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать.
И можно подытожить совсем аморальным, антиобщественным с явной манием величия:
Мне поставят памятник
На селе.
Буду я и каменный —
Навеселе.
Проглядели, черт возьми! А может, сбило с толку то, что Рубцов, не в пример злостно тунеядствующему Бродскому, работал в горячем цехе Кировского завода. Да он всю жизнь с малых лет работал, а не срывал «цветы удовольствия» и не порхал по райским, хмельным кущам певчей птахой, как ныне почему-то кое-кому кое-где кажется. Нет, не годилась его кандидатура в Нобелевские лауреаты, – и иной объект выбрали всевидящие демоны и бесы на сию роль. А жаль! Жаль, что Рубцов, как и Набоков, не пополнил ряды русских писателей под сенью Нобелевских лавр.
Грешен, но дорвавшись до Набокова в годы обморочного развала и катастроф, я поначалу недооценил писателя. Можно сказать, почти разочаровался. Уж больно много материальных вещей и вещичек перегружали его прозу. Какая-то сверхизбыточная любовь к предметам. И усталое, злое, бессмысленное презрение к человеку. И к самому себе в первую очередь. Да, да, именно к себе! Тайное, всепоглощающее, страшное презрение. Кто-то со мной не согласится, но я и не собираюсь ничего доказывать – и даже не советую перечитать повнимательней Набокова. Я не советчик и не антисоветчик! Я просто очень жалею Набокова.
Страшен человек, ненавидящий других, но во сто крат страшней человек, презирающий самого себя. Чтобы возлюбить ближнего и Господа, надо хоть чуть-чуть возлюбить самого себя, ибо самопрезрение есть смерть Господней любви в человеке.
Тяжко возлюбить человечество и порой невподъем просто человека. Но надо! Ну хотя бы за то, что человек создает материальные вещи, которые можно обращать любовью в нематериальные, то есть одухотворять любовью.Одухотворение вещей есть малосильное стремление стать Богочеловеком. Нет, скорее Человекобогом. Но им Набоков, к счастью, не стал и не мог стать. И, может быть, за это презирал сам себя, а чтобы не было совсем скучно, обрекал на презрение весь мир Божий, лежащий во зле не по воле Божьей. И так ли все-таки безумно зло?! Ибо сказано: «Хочешь быть мудрым в мире сем, будь безумным!»
Теперь-то я понимаю, что несправедливо придирался к писателю, был зашорен воспоминаниями и россказнями о его непомерной гордыне. Конечно, великолепный Набоков был фрондер. И позволял, именно позволял себе фрондерство до конца дней своих. Но с гордыней он был в более сложных и страшных отношениях, чем нам, негордым, представляется. А любовь к предметам томила его не из-за презрения к человеку, а из-за разлучения с отчей землей, с языком отчим, с унижением земли и слова русского.
И сдается мне, что цеплялся он за предметы, как за якоря земного притяжения, дабы не сгинуть в чернодырье обессловленной пустоты космополитизма. Но опущу ради краткости изложения свои скромные размышления о Набокове, я же ведь вспоминаю, как нам с Рубцовым не удалось в свое время прочитать Набокова.
И вообще не зря сказано: скромность украшает скромного человека.
А происходило наше непрочтение в 1966 году, или чуть позже. И Набоков был жив, здоров, исправно писал, и книги его исправно выходили на Западе, – и, наверное, весьма и весьма бы удивился, проведай, что в пыльной хрущобной Москве, в бедном общежитском застолье не всуе поминается его имя. А может, и порадовался бы без удивления – и, как знать, глядишь, и подвигся бы на посещение мрачной родины, а может, и на последнее возвращение.
И напрасно некий удачливый подражатель Набокова, нынешний литературный воротила, однажды уверял меня, что до массового растиражирования своих писательских опытов ведущими советскими издательствами не был знаком с прозой великого скитальца и даже был притесняем и гоним. Гоним, наверное, для массового издания в «Советском писателе» и «Лениздате» за непрочтение Набокова. Всем бы такое притеснение и гонение!
Да и совершенно не верится, что такой просвященный и породистый человек, как Андрей Битов, не имел доступа к запретным текстам. Если ж и у нас, сиволапых, имя Набокова было на слуху, то ему сам Бог повелел.
И можно было бы закончить на сем эпизод с воспоминаниями о непрочитанном Набокове, если бы не случайное прочтение грациозного эссе неувядаемой Беллы Ахмадулиной под небезынтересным заглавием «Робкий путь к Набокову».
Ох, как тяжко выдохнуть: поэт – это не женщина, а женщина – это не поэт!
Но, в порядке исключения, я к Ахмадулиной относился и отношусь очень хорошо, почти влюбленно. Но радуюсь, что она ко мне никак не относится, и надеюсь на свое дальнейшее пребывание в неизвестности для этой высокоутвержденной и высокопоставленной дамы.
Но уж больно резанула меня такая продыхновенная фразочка:
«…Новехонькая полночь явилась и миновала – и самое время оказаться в Париже шестьдесят пятого, по-моему, года. Ни за что не быть бы мне там, если бы не настойчивое поручительство Твардовского, всегда милостивого ко мне. (Знал, знал царедворный пан Твардовский, к кому надо быть милостивым!). Его спрашивали о „Новом мире“, Суркова – об арестованном Синявском и Даниэле, меня – о московской погоде и о Булате Окуджаве, Вознесенского окружал яркий успех.…Синявский и Даниэль обретались – сказано где, Горбаневская еще не выходила с детьми к Лобному месту, я потягивала алое вино».
Впечатляющая картина возникает, очень впечатляющая. Почему-то не упомянут отбывающий ссылку Иосиф Бродский, но, сами понимаете, – Париж, «яркий успех, алое вино».
М-да, лихо гоняли по заморским далям страдальцев-шестидесятников злобные коммунистические партвласти.
Далее поэтесса описывает встречу с писательницей русского зарубежья, эмигранткой первой волны Аллой Головиной. Ох, уж это цитирование! Как оно утомительно, да и неинтересно, в конце концов! Но продолжу с тяжким сердцем:
«„А вы, – неуверенно, боясь задеть меня, спросила Алла Сергеевна, – знаете ли вы Набокова, о Набокове? Ведь он, кажется, запрещен в России?“
Этот экзамен дался мне несколько легче: я уже имела начальные основания стать пронзенной бабочкой в коллекции обожающих жертв и гордо сносить избранническую участь. За это перед прощанием Алла Сергеевна подарила мне дорогую для нее „Весну в Фиальте“. Прежде я не читала этой книги, не держала ее в руках, пограничный досмотр мной не интересовался, и долго светила мне эта запретная фиалковская „Весна“ в суровых сумерках московских зим».
Счастливый человек Белла Ахмадулина! Почему-то не интересовался ею пограничный досмотр, – и запретный Набоков спокойно проследовал в СССР, дабы скрашивать угрюмые сумерки Москвы. Воистину счастливый человек Ахмадулина Белла! Хоть ей светило что-то…
Эх, жизнь наша непутевая! И почему саднит душу гениальное: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?!» Но кому-то всё-таки светит и светит.
А вот другим и встарь, и ныне, ничего не дано, кроме света звезды полей. Других упорно отрубали от русской культуры, выдворяя из стен жалкого общежития Литинститута не в Париж, а в бездомные, смертельные морозные ночи России. И не какие-то мифические масоны-мусюны сие творили, а властолюбивые русаки со знаком ячества типа Твардовского, Суркова и Софронова с Прокофьевым.
По их благорасположению надувались мыльные пузыри славы Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы и прочих второстепенных литераторов. Это они стояли у истоков подмен, не страшась пламени адского в государственной мерзости атеизма и чужебесия.
Ахмадулина наверняка не ведала, чьей разменной картой она была в сей страшной игре – и бессознательно жила чужой игрой, как своей жизнью.
А впрочем?! Да нет, не ведала. И вообще – от красивой женщины не надо ничего требовать, кроме красоты. Даже талантливых стихов. Красивая женщина и без стихов есть истинная поэзия. И плюньте в лицо тупице, с пафосом изрекающему тысячелетнюю глупость:
«…Сократ мне друг, но истина дороже!»
Не может быть дороже истинного друга и человека никакая самая высокая истина. И бессмертно великое молчание Христа на безнадежный вопрос Пилата:«Что есть истина?»
О, полночные танцплощадки моей юности! О, щемящее, медленно-жгучее танго из таинственных глубин Останкинского парка! О, как неудержимо влекло туда из душного общежития!
В зеленую поющую тьму, в ревнивое световое кружение.
Вперед! Без оглядки! И ничего не жаль – ни разорванных рубах, ни разбитых губ!..
И ничего не страшно, и плевать на подлые ножи, и на свистки милицейские!
К чертям – весенние заботы студенческие! К чертям – черновики с неверными строчками!
Жизнь – это любовь и музыка! Вперед, в вечность! А время пусть подождет!
И въявь вижу грустную улыбку Рубцова. Он отстает от нас, сворачивает к пивной возле платформы Останкино – и, прежде чем исчезнуть в ее смрадных недрах, кричит что-то ободряющее вослед.А с танцплощадки навстречу нам летит в теплую тьму мелодия и слова:
«Под небом Парижа, под небом Парижа в вечерний час!..»
Увидеть Париж – и умереть! Какой красивый слоган. Увидели, но не умерли.
А Рубцову оставалось всего пять лет на всё про всё на этом свете. Но никто, кроме него, не ведал об этом. Но, быть может, сам Рубцов отказывался верить своим тяжким предчувствиям, ведь еще не было написано: «Я умру в крещенские морозы…».Ведая неизбежное, он силился преодолеть свое яснознание, ибо оно владело им, но не принадлежало ему. Преодолеть прежде всего стихами. И не об этом ли замечательно и грустно он сказал:
И всей душой, которую не жаль
Всю утопить в таинственном и милом,
Овладевает лунная печаль,
Как лунный свет овладевает миром.
А иногда, наперекор всему, браво, игриво и бесшабашно прогнозировал свое грядущее:
Стукнул по карману – не звенит!
Стукнул по другому – не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.
Одни увидели Париж – и не умерли, и весь свет исколесили и одурачили, а Рубцов погиб, стал знаменит, но так и не отдохнул ни в Ялте, ни в иных уютных местах в краткое время своего земного бытия перед полным слиянием с милосердной вечностью и немилосердным бессмертием.
О, Боже, Боже, почему душа иногда отказывается сама себе верить?! Почему я упорно не могу понять, что давным-давно нет на свете Николая Рубцова, что навеки утолились его страсти земные и жажда жизни земной, – и нет ему нужды ни в Ялте, ни в Набокове?..
Эх, почему бы в тот тихий, летний вечер не оказаться бы Белле Ахмадулиной в нашей шумной компании, в нашем молодом общежитском застолье!
Ей Богу, не разочаровалась бы! Враз, без сожаления, забыла бы и Париж, и «яркий успех» дурилы Вознесенского, и литгенералов-старперов, и чужое алое вино. Куда ему до наших родимых перцовки и вермута! А под гитару и песни Рубцова в нашем молодом кругу враз развеялись бы мелким дымом все горести и болести доверчивой, красивой женщины. Глядишь – и запретный Набоков, «Весна в Фиальте», аж из Парижа оказался бы у нас и был бы непременно прочитан.
Но если бы да кабы!.. Кому рога, а кому и гробы… И еще почему-то упорно лезет на ум совсем дурацкая присказка: «Нечего менять шило на мыло, коль стоишь по уши в дерьме».
Да мало ли что может блазниться утомленному сознанию в мороке сил враголюбивых…
Почему, например, не могли уговорить Набокова наши литературные полпреды на посещение СССР, да и на возвращение, в конце концов! Ведь он, по свидетельствам современников, неоднократно весьма благосклонно высказывался на сей счет.
Кто только не шастал в наше социалистическое отечество в шестидесятые и семидесятые годы, от Жана Поль Сартра до Жана Поль Бельмондо… И официальные власти из кожи вон лезли, ублажая заграничных гостей, дабы не слыть в глазах мировой общественности (ох, уж эта общественность!) кровавыми монстрами коммунизма. И многие эмигранты наезжали в СССР. Политика разрядки стояла во главе подгнивающего угла лагеря социализма.Да, ежели б удалось залучить Набокова в Москву, то встретили бы его по высшему разряду, с коньяками и колоколами. Родовое имение Набоковых было бы за ночь реставрировано и обложено ковровыми дорожками. А уж издатели расстарались бы – и имели бы мы собрание сочинений Набокова на двадцать лет раньше. Наверняка и сам Леонид Ильич Брежнев не промахнулся б – нацепил бы Набокову на лацкан орденок «Дружбы народов» или, на худой случай, «Знак почета», и заодно себе под международный шумок очередную звездочку на маршальский мундир.
Но пора, пора выбираться из бесплодной тщеты литературных фантазий и русских мечтаний. Но куда?! В окраинную пивнушку близ общежития Литинститута у платформы Останкино или сквозь зеленую тьму молодых растений на музыку и свет танцплощадки?
Но давным-давно, еще при жизни Рубцова, под зловещее кукование динамика «Ос-то-рож-но! Бере-гись по-ез-да!» снесено с лица околожелезнодорожной земли душевное прибежище пьющих поэтов и не поэтов, а из недр вечернего парка не музыка слышна, а рев и визг звериной дискотеки.
Но надо все-таки куда-то выбираться. Например, в никуда из ниоткуда. Или еще куда подальше, совсем далеко-далече от правды и поэзии. Нет, что вы ни пишите, что ни говорите, господа и госпожи хорошие и нехорошие, но пить надо все-таки меньше! И читавшим, и непрочитавшим Набокова!.. И близ железной дороги, и вдали от оной!. И в Москве, и в Париже – и даже в вагоне-ресторане поезда «Австралия – Сахалин»!..
И я ни о чем не мечтаю, кроме жизни, которой живу в данное мгновение, – и иной жизни не желаю. И все-таки немного жаль, что нам не удалось совместно с Рубцовым прочитать Набокова. Жаль упущенной возможности или невозможности. И себя жаль, и Набокова, и Рубцова, и Ахмадулину, в конце концов! Но, увы, всех живущих на свете сем не пережалеешь, но стремиться к невозможному никому не возбраняется.И все должно быть так, а не иначе. И высшей силе было виднее: возвращаться Набокову живьем в Россию или подождать своего посмертного возвращения. И возможное осталось в невозможном. Или наоборот. И демоны и бесы остались верны себе. Или наоборот. Но кто, кто это упорно говорит, что бесы и демоны не верят в Бога?!.. Или слышится мне?.. Или опять думается по глупости?! Но на всякий случай лишний раз отвечаю сам себе. Верят! В сто крат сильней нас, многогрешных, ибо несравненно сильней и ясней нас ведают и зрят величие Божие. Верят зло, истово, вечно, а не на черный день, как иные из нас.
И первые неудержимо обращаются в последних.
Но и последние не остаются самими собой.
Никто не остается самим собой.
Никто вообще на остается!
Но всем упорно мерещится вечная несокрушимая самость.
И, может быть, хорошо, что хоть что-то еще мерещится.
И невозможное по-прежнему таится в возможном.Но сколько можно маяться упущенными невозможностями, вспоминая, как и почему Рубцову не удалось прочитать Набокова! Но ведь и Набоков не прочитал Рубцова. Но мог бы запросто, кто ему мешал… Зато прочитал некого Сашу Соколова – и даже снисходительно похвалил. И, слава Богу, что русская литература от этой похвалы ничего не потеряла.
Глава девятая
Подозреваю, что многие и многие сочтут мои воспоминания о Рубцове весьма необъективными. Дескать, высветляет человека и поэта, замалчивает общеизвестные нелицеприятные факты, занимается мифотворчеством со знаком плюс, да и себя заодно не забывает показать с лучшей стороны.
Без ложной скромности ответствую: а с какой стати мне себя забывать?! Я, слава Богу, не в поле обсевок. От чрезмерной натужной самозабывчивости можно и других навек позабыть. Не я занимаюсь ложным мифотворчеством, а вы, сердечные мои критики, прошлые, нынешние, грядущие. Живете пьяными россказнями бездарных собутыльников поэта и неверными сочинениями людей, которые знали Рубцова постольку-поскольку… и которых поэт откровенно презирал.
Подобную публику он грубо посылал куда надо и не надо. Меня он никуда не посылал, скорее, наоборот. И невесело мне, и горько от сего, и слова комом в горле.
Эх, если бы знать, если бы ведать! Но никто ничего не знает! Никто! Ни живые, ни мертвые. Ни смертные, ни бессмертные.
Но я не собираюсь ни перед кем оправдываться. Не собираюсь наводить тень на сломанный забор. И никто не заставит меня мазать дефицитной сажей светлый образ человека, оставившего неизгладимый след в моей жизни.
А сплетен о неблаговидных проступках Николая Рубцова я знаю великое множество – и могу, ого-го! выдать.
Я воочию вижу: как напряглось и аппетитно разинуло пасть свиное рыло общественного любопытства.
Что ж, извольте, порадую малость. Но только самую малость, ибо то, что вам не надобно знать, – вы не узнаете никогда.
Я уже рассказывал, как в роли секретаря комитета комсомола Литинститута вызволял Рубцова из милиции. Но забыл оговориться, что эту роль я играл законно и безбоязно, поскольку был единодушно избран своими товарищами на сей весьма и весьма ответственный пост. Было мне тогда всего двадцать лет, – и посвяти я свою жизнь номенклатурной карьере, то уж до секретаря ЦК ВЛКСМ дослужился бы запросто. А в демократические годы, естественно, не остался бы за бортом «новой» жизни.
Впрочем, я не жалуюсь на «новую» жизнь. И на старую не жалуюсь. Но очень жалею, что их нельзя поменять местами. Но это я так, как бы в шутку. А на самом деле я жалею, что жизнь и время абсолютно не нужны и чужды друг другу.
Стихи, поэмы, рассказы, повести, романы! Ха! Эка невидаль! На сей продукции многие набили руку, строчат и строчат без передыху – и за денежки, и без оных, как говорится, для души и от души. И я грешен, не оставляю в покое чистую бумагу. Но все это семечки и шелуха, на это многие способны.
Но многие ли способны в одиночку сочинить отчетный годовой доклад по итогам работы комсомольской организации Литературного института?! Сочинить аж на двадцать страниц машинописных и без помарок утвердить на самом верху! Боюсь, что и пальцев на руке с лихвой хватит, чтобы счесть отважных.
«…Да я, да мы! Да раз плюнуть!..» – доносится до слуха.
Ох, уж наша русская самонадеянность! Все на всё горазды. А хватишься дело делать – и никого, и плюй куда хочешь, хоть мимо урны.
И вот по утрянке в дверь мою тихо постучал и предупредительно окликнулся Рубцов.
Я мрачно впустил товарища, сухо буркнув:
– Работаю… Доклад отчетный пишу…
Рубцов сочувственно вздохнул.
После вчерашнего во рту горело, а в голове потрескивало. Я угрюмо приложился к бутылке с водой. Бутылка была из-под водки. Как сейчас вижу, из-под «Столичной». Отхлебнул глоток и поморщился от омерзения, кляня про себя вчерашнее легкомыслие и грядущую тугомотную писанину.
Рубцов присел обочь стола, уважительно посмотрел на исписанную мной бумагу, деликатно взял какую-то книгу, полистал, аккуратно положил на место – и, выждав, когда я домараю очередную страницу, грустно кивнул в сторону бутылки:
– Водичка?..
А меня словно бес какой-то подначил. Я снисходительно, как ректор на проректора, посмотрел на Рубцова и брякнул:
– Сам ты водичка! Осталось со вчерашнего! Вот вдохновляюсь! Сам понимаешь – без вдохновения нет доклада!..
Нарочито кривясь, приложился к бутылке и демонстративно занюхал воду рукавом.
Рубцов тотчас ловко выудил из пепельницы бычок поприличней, раскурил и услужливо поднес мне на затяг вместо закуски. Ни слова не сказал, держа приличиствующую моменту паузу. Он умел, железно умел держать не только удар, но и паузы. О, сколь красноречивей любых сильных слов бывает настоящая мужская пауза!
На мгновение мне почудилось, будто я слышу легкий шорох падающих в утреннее окно солнечных лучей, какой-то удивительно легкий, пепельный шорох. Но всего лишь на мгновение!..
А Рубцов, будто сопережив со мной это невыразимое мгновение, проникновенно спросил, кивая на бутылку с остатками воды:
– А нельзя и мне немножечко?..
Я чуть не вспылил от благородного возмущения. Нашел, понимаешь, время для шуток, тебя б на мое место! Но стойко решил доиграть до конца нехитрую пьесу:
– Без закуси не дам!
Рубцов безнадежно окинул взглядом стол с грязными тарелками, глухо соображая, что даже бутерброд с окурками из пустоты не сварганишь, – и уныло предложил:
– Схожу, поищу чего-нибудь…
– Ладно уж, обойдемся, а то враз сядут на хвост. Щас я чайник налью, запьешь хоть, – с великодушной ухмылкой сказал я.
Пошел на кухню, набухал из-под крана до края свой побитый чайник и вернулся в комнату в полной уверенности, что Рубцов перестанет валять дурака. Но он смирнехонько сидел за столом и при моем появлении резко вскочил, как бы прикрывая заветную бутылку от сквозняка и нежданных посягателей.
– Чего дергаешься? Сиди!..
– Да я так, мало ли что…
Я плеснул воды из бутылки в стакан и придвинул чайник:
– Давай, с Богом!
– А ты?
Не видишь, что ли, доклад чертов! Я уже приложился… Давай!
Рубцов страдальчески поморщился и, усиленно стараясь не чуять несуществующий водочный запах, залпом опрокинул в себя содержимое. Закашлялся, дрожащей рукой протянул мне пустой стакан. Я тотчас плеснул «на запивку» свежей воды из чайника. Рубцов медленными, мелкими глотками, перебивая кашель, запил «водку», отер пот на лысине – и враз порозовел.
– Еще? – кивнул я на бутылку.
– Хорошо бы… – охотно согласился он. Мечтательно посмотрел в окно. Глаза его посвежели, будто не серые хрущобки и растущий вздолб Останкинской башни узрел, а зеленые берега июльской Сухоны и теплое грибное солнце над лесной дорогой.
Мы повторили нехитрое действо. Какое-то бесшабашное безоглядство охватило меня, а Рубцов буквально на глазах стал пьянеть. «Может, там действительно водка?! Может, я уже сам – того?!», мелькнула шальная мысль.
Я взял бутылку, принюхался, но водкой, увы, не пахло.
– Ты чего дурака валяешь?! – набычился я на Рубцова.
– Я-я-я ничего не валяю!.. Я-я-я… Д-д-д-ай допью – и… и… и… уйду! – совсем запьянело пробормотал он.
– На!
Рубцов цепко схватил стакан, выдул остатную воду, запивать из чайника и не подумал, встал, чуть покачнулся и извеняюще промямлил:
– П-п-пой-ду, п-п-передохну чуть, ты не-не-не… об-обижайся…
Неловко отсалютовал растопыренной ладонью и вышел вон.
«Ну, дает, ну, артист! Устроил самодеятельность!..» – подумал я и с тяжелым вздохом засел продолжать свое оптимистическое сочинение о комсомольских подвигах студентов Литинститута.
Вечером в какой-то общежитской компании я наткнулся на Рубцова. Он радостно протянул мне стакан с водкой:
– Давай, секретарь, штрафную!
– А не вода ли там?! – усмехнулся я.
– Да ты чего?! Какая еще вода?! – искренне обиделся Рубцов.
– А такая! Какую ты утром хлестал!
– Чего хлестал?! Да у тебя грамм двести-то и было… – почти оскорбился Рубцов.
– Да это же не водка была, а вода! Самая настоящая! И чего ты из себя пьяного корчил?!
– А кто сказал, что я корчил чего-то?
– Я говорю!
– Да я ж отсыпаться пошел, тебе ж про комсомол надо было писать. Я похмелился и ушел, чтоб не мешать. А ты – корчил, корчил…
– Да не похмелялся ты! Не похмелялся! Воду пил и водой запивал!
– Что ты болтаешь! Совсем досекретарствовался! Не на пользу тебе комсомол! – упорно отказываясь меня понимать, с укоризной сказал Рубцов и подвинул ко мне стакан с водкой.Я махнул рукой, выпил водку – и совершенно не помню, чем закончилось очередное наше кружево. То ли дракой с последующими дружескими клятвами, то ли без драки, с угрюмой руганью и тихим расползанием по норам. Впоследствии, в более трезвых обстоятельствах, сколь я ни уверял Рубцова, что не водкой, а водой потчевал, он только посмеивался в ответ.
Как-то я рассказал об этом случае своему приятелю, врачу-наркологу. Медицинский человек, сам страдающий глубоководными запоями из-за семейных обстоятельств, был краток и категоричен:
«…Типичный алкогольный психоз. Рядовой пример внушения и самовнушения. Должно быть, этот твой Рубцов был очень доверчивым человеком. Лакомая и легкая добыча хронического алкоголизма. Как правило, этой добычей становятся одаренные и добрые натуры…»
Думается, эта сухая характеристика полностью подходит Рубцову. Он был очень доверчивым и открытым человеком. И напрасно некоторые мемуаристы выставляют его замкнутым и даже подозрительным. Да, он был сдержан с малознакомыми людьми. Порой враждебно сдержан и напряженно замкнут. Но сие было всего лишь следствием нелегкой сиротской жизни, а не основой характера.
Но одновременно я не помню и не могу представить Рубцова, выворачивающего свою душу наизнанку. Не могу представить его вопящим и бьющим себя в грудь от отчаянья:
«…Жрать нечего! Жить негде! Дочь голодает! Сил нету! Тоска заела! Под забором сдохну!..»
Подобный монолог вполне был бы уместен в его устах, ибо с лихвой соответствовал действительной жизни поэта. Однако никогда не слышал от него ничего подобного. Но многократно слышал и слышу оное от многих и многих неистребимых членов писательских союзов, чьи судьбы и жизнь многократно благополучней, чем у Рубцова, а литературные достижения необнаружимы даже с помощью микроскопа.
И морды у них вовсе не от голода пухнут. Пухнут и кирпича не просят. И дети их на иномарках ездят. И квартиры у них в элитных районах. И не собираются они беспременно подыхать под трехметровыми заборами своих загородных особняков.
Но жалуются всем и вся на жизнь подлую, клянчат, канючат, попрошайничают, халявничают – и не могут остановиться в мерзком самоунижении. И самое удивительное, что иные, ведая о лжестрадальцах, внимают и помогают им. И я не оставляю их без помощи, даже жалею иногда.
И не жаль мне для них ни последнего куска хлеба, ни последней пули.
Они и Рубцова поминают, призывая его пример на подкрепу своим лжемытарствам. Дурят и успешно охмуряют легковерных, но сами не верят никому ни в трезвом, ни в пьяном виде.
А мне припоминается еще один анекдотический случай. Как-то загостился Рубцов на женском этаже общежития. Пришел благочинно на чай и «зачаевничался» до отключки. Девчата попытались привести его в чувство, но тяжел и беспробуден был сон поэта. Попросили меня забрать Рубцова, но у меня в это время гостили родичи, и я, философски осмыслив ситуацию, сказал:
– Сам проспится. А проспится – пусть двигает ко мне.
Но девчата оказались неугомонными, поскольку числились в старых девах. Странно! Каким образом они оказались в Литинституте? По путевке комсомола, что ли? Ну, тогда еще более престранно. А может, я заблуждался на их счет – и продолжаю заблуждаться?
Но Бог с ними, с девами непорочными, иные темные заблуждения порой лучше самых светозарных прозрений.
Девы-девчата, видимо, чересчур озабоченные своей репутацией, уговорили известного поэта-песенника, автора неувядаемых шлягеров «Я трогаю русые косы», «Мне приснился шум дождя…» и т. п. Владимира Лазарева, в то время рядового слушателя Высших литературных курсов, помочь в освобождении их девичьей светелки от спящего тела Рубцова.
Володя Лазарев тогда на здоровье не жаловался и легко откликнулся на просьбу.
Пришел, сграбастал Рубцова с кровати, закинул поперек широкого плеча и, придерживая рукой, вынес в коридор, дабы притулить его до пробуждения у себя.
И вдруг Рубцов очнулся и почти трезвым голосом сердито выкрикнул с плеча своего телоносителя:
– А ты чего это меня несешь?! А?!.
– Да ты, Коль, идти не можешь… – с добродушной невозмутимостью ответил Лазарев.
– А… Ну тогда неси… – успокоенно выдохнул Рубцов и тотчас отключился.
И после этого кто-то еще смеет упрекать поэта в подозрительности и недоверчивости. Да более доверчивых людей я не встречал в жизни!И, если честно, не очень жажду новых встреч, ибо доверчивость Рубцова – одно, а доверчивость черт знает кого – совершенно другое. И вообще – я по горло сыт собственным простодушием. И никто лучше друзей не сможет ударить тебе в спину. Только истинные друзья могут плюнуть мимо урны, а попасть прямёхонько в твою душу.
Нет, братцы, пить надо все-таки чуть-чуть меньше! И доверчивым и недоверчивым, и простодушным, и бездушным – и даже девам непорочным.
Один Господь – судия поэту. Господь ведает о нас все, но нам упорно кажется, что только мы владеем своим тайнознанием.Нет, пить надо все-таки меньше…
Глава десятая
Совсем недавно мне повстречался однокашник по Литинституту, хорошо знавший Рубцова. Кажется, я уже где-то о нем рассказывал. А если не рассказывал, то и слава Богу. Проведав, что я пишу о Рубцове, он обидчиво насупился, как будто я его на сто пятьдесят грамм обожмал, помрачнел, будто при жизни Рубцов обделил его на все двести, – и зло выдохнул:
– Что вы носитесь с этим Рубцовым?! Ну, конечно, поэт! Но не так уж, чтоб очень! И получше есть! Раздули до классика. Николай Михайлыч, Николай Михайлыч!.. Кто его так величал?!.. Да этот ваш Николай Михайлыч так мне напаскудил, до сих пор руки чешутся!..
Я затылком вижу, как ожило и посветлело свиное рыло общественного любопытства. О, как расцвело неутомимое рыло, какое оно розовое, точно сало свежепорезанное!
Что ж, рыло, предвкушай преумножение пустой злой радости, но не подавись ею раньше срока!
«…Пили, пили мы с вашим Николай Михайлычем дня три, а то и больше… И ведь гад какой! Оставишь на похмелку граммушку или пивка, а он ночью пошастает – и привет. И выкурит все, до последнего окурка. Раз как-то очухиваюсь, смотрю – сопит, а под столом целая бутылка с пивом. Я аж глаза лишний раз протер – и на радостях хвать из горла – и душа навыворот. А он, хам такой, набузырил туда – и нате вам. В сортир ему не с руки идти было. Ну, я его как трясану: что ж ты, хамло, творишь?! А если бы с тобой так?! Он, правда, отпираться не стал. Сразу повинился. А чего ему не виниться – ведь это он у меня в комнате прятался, а не я у него. Сколько раз его тогда из общаги гоняли, с милицией… Хотел морду расквасить, но пожалел. Он и так еле дрыгался с перепою, да и от нервности. Потом, уже перед смертью его, встретились. Здорово, Коль, говорю! Пойдем пивка врежем. А он этак высокомерно лысиной вздернулся, как бы оскорбился, и цедит: „Я с пьяницами не пью…“ Хам – и только! Неблагодарный хам! А вы – Николай Михалыч, Николай Михалыч! Самый что ни есть – Нахалыч! Зря с ним носитесь. Правильно кто-то его спародировал:
В горнице моей светло,
Выпил я твои духи.
Трезвый Михаил Светлов
Пишет за меня стихи.
Правда, Михаил Аркадьевич здесь ни при чем. Рубцов и без Светлова хорош был гусь, зря тот о нем хорошо отзывался!..»
Нет, братцы, пить надо безусловно меньше. И любителям пивка, и не любителям оного.