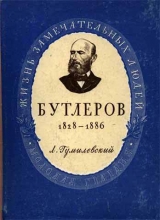
Текст книги "Бутлеров"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Эту способность великого ученого делать экспериментальную работу, ведя в то же время разговор, отмечают в своих воспоминаниях всег его ученики, одинаково ею поражаясь. Доступность учителя во время его работы приводила в восхищение начинающих учеников. Особенно поражало всех умение Бутлерова работать с малыми количествами вещества, когда он пользовался приборами своего изобретения, которые сооружал за паяльным столом, тщательно отделывая и подгоняя все части.
Умению обрабатывать стекло Бутлеров придавал большое значение. В свободную минуту он часто садился за паяльный стол и занимался выдуванием разных вещиц, чтобы не терять навыка в работе. В это время возле него обыкновенно собирался кружок работающих в лаборатории, с которыми он вел в то же время беседу. Иногда он приглашал в лабораторию стеклодува-профессионала и предлагал ему выделывать на лабораторном паяльном столе разные сложные приборы. Около стеклодува также собиралась группа зрителей из состава лаборатории. Пример учителя действовал заразительно на учеников. В лаборатории Бутлерова постоянно можно было видеть то того, то другого ученика, занятого выдуванием стекла. В этом искусстве некоторые из персонала лаборатории достигали большого совершенства.
В такой лабораторной обстановке начинающие ученые легко осваивались с новыми приемами работы по органической химии. Литературные справки с помощью ассистента они легко находили в библиотеке лаборатории. Когда Д. П. Коновалов, приготовив указанный ему препарат, явился за получением темы, Бутлеров после недолгого размышления предложил ему заняться изучением действия азотной кислоты на «изодибутилен» с целью выяснить, не образуются ли при этом настоящие нитросоединения. Бутлеров не забыл тут же заботливо обратить внимание ученика на возможность ожога кислотой вследствие взрыва во время реакции и советовал избегать работы с большими количествами. Он рекомендовал в то же время иметь под рукой водопроводный кран и научиться находить его с закрытыми глазами, чтобы иметь возможность немедленно в случае взрыва окатить голову сильной струей воды.
«Размышляя теперь о полученной мной теме, – писал впоследствии Д. П. Коновалов, – я нахожу, что она вполне соответствовала той цели, с которой я пришел в лабораторию. Чтобы приступить к изучению предложенной реакции, надо было пройти длинный путь приготовления изодибутилена – углеводорода, незадолго перед тем открытого, изученного и описанного А. М. в одной из его классических работ. Надо было выучиться новым для меня приемам работы с газами, запаиваемыми в стеклянных трубках, сжиженными охлаждением. Вся эта подготовительная работа явилась для меня отличной школой экспериментальной работы».
Насколько эта школа была хорошо организованной, можно судить по другому признанию Коновалова. Вспоминая о своей заграничной командировке, он говорит:
«Оказалось, что после бутлеровской лаборатории здесь учиться мне было нечему. Лабораторная техника у него была выше».
Через петербургскую лабораторию Бутлерова прошли многие русские химики, среди которых особую известность своими трудами, кроме Коновалова, Густавсона, Львова, приобрели Алексей Евграфович Фаворский, Иван Алексеевич Каблуков, Егор Егорович Вагнер, Вячеслав Евгеньевич Тищенко, Александр Иванович Горбов.
В те годы в России почти каждый начинающий химик мечтал начать свою самостоятельную научную деятельность под руководством Бутлерова.
Лучшей аттестацией для молодого ученого, желающего получить кафедру в университете, было звание «ученика Бутлерова», которым он гордился до последних дней своей жизни, как бы ни были велики его собственные заслуги.
Понадобилось немного времени для того, чтобы бутлеровское направление в химии, через его учеников, проникло во все русские центры химической науки.
Научно-организаторской, как и научно-исследовательской деятельностью круг жизненных интересов Бутлерова в эти годы, однако, не ограничивался.
2. ЖИЗНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
Характеризуя развитие естествознания в России в шестидесятые годы прошлого века, К. А. Тимирязев говорил:
«То же пробуждение деятельности, которое проявилось в Петербургском университете, наблюдалось и в других. О казанской химической школе, даже опередившей Петербург, уже сказано. В шестидесятых годах она достигла высшего процветания, и деятельность Бутлерова стала достоянием европейской науки. В Харьковском университете H. H. Бекетов своими совершенно оригинальными работами из пограничной области химии и физики также обратил на себя внимание не одних только русских химиков. Только в Московском университете преподавание химии, как и большей части естествознания, почти до конца рассматриваемого периода не было поставлено на современную почву. Лавры Грановского не давали покоя, и выработался тип профессора в узком смысле слова, то-есть оратора на кафедре, но не исследователя в лаборатории, подающего пример молодому поколению и заботящегося о создании обстановки, необходимой для самостоятельного труда. Представителем этого типа был ученик Либиха, увлекавший своим красноречием, Лясковский. Другой ученик и друг Либиха, Ильенков, в только что открывшейся Петровской академии создал первую в Москве образцовую для своего времени рабочую лабораторию, между тем как лаборатория университета представляла картину полного разрушения и опустения. Только с появлением в Москве В. В. Марковникова Московский университет стал вторым после Петербурга центром химической деятельности».
«Но в течение рассматриваемого периода, – продолжает К. А. Тимирязев, – можно сказать, что почти вся деятельность русских химиков сосредоточилась в Петербурге. Зинин, Менделеев, Бутлеров, Бейльштейн, Бекетов, Меншуткин – едва ли какой европейский научный центр в ту эпоху мог выставить столько выдающихся деятелей по химии. Это выразилось в необыкновенно быстром развитии Русского химического общества с его органом «Журналом Русского химического общества» главным образом благодаря энергичной самоотверженной деятельности Н. А. Меншуткина, не щадившего на организацию совершенно нового дела ни своих сил, ни своего времени. И что достойно особенно уважения, все это было делом исключительно частного почина без всякого «воспособления» или «поощрения» «казны».
В этом обзоре К. А. Тимирязев указывает и на относящиеся к тем же шестидесятым годам первые в России удачные попытки популяризации науки не только в привилегированных слоях общества, но и в народе. Наряду с изданием нескольких действительно дошедших до народа научно-популярных книг, в Петербурге было хорошо поставлено чтение популярных лекций. Лекции читались в зале Петербургского пассажа. Они были организованы здесь по инициативе научно-популярного издательства торгового дома «Общественная польза» и вовсе не имели благотворительного характера.
«Изящный специально отстроенный зал был, вероятно, первым вполне приспособленным к чтению лекций с необходимой обстановкой для опытов и демонстрации при помощи волшебного фонаря, – вспоминает К. А. Тимирязев. – В антрактах красная драпировка между белыми колоннами, составлявшая фон аудитории, раздвигалась, как бы приглашая публику в ряд помещений, своего рода педагогический музей, где она могла знакомиться с диковинной для нее химической посудой, физическими приборами, естественно-историческими коллекциями, так как в круг деятельности «торгового дома» входила и торговля этими почти неизвестными публике предметами. Читавшиеся в этой аудитории курсы могли бы принести честь и любому европейскому научному центру».
Многие из деятелей русской науки и техники, по свидетельству Тимирязева, «признавали в этих лекциях первый толчок, пробудивший и в них желание изучить естествознание».
Понятно, что, явившись в Петербург в разгар широкого умственного движения, характеризуемого расцветом естествознания, Бутлеров не остался в стороне от него.
Едва осмотревшись, едва устроившись на новом месте, Бутлеров выступает горячим сторонником женского образования и читает лекции по химии на Владимирских курсах, возникших в 1870 году, а одновременно и на Петербургских высших женских медицинских курсах при Медико-хирургической академии.
Не дожидаясь приглашения, он делится со старейшим в России Вольным экономическим обществом своими теоретическими и практическими сведениями по пчеловодству, пишет получившую огромное распространение и популярность книгу «Пчела, ее жизнь и главные правила пчеловодства», за которую общество присудило ему почетную награду.
25 ноября 1871 года А. М. Бутлеров впервые выступил в Вольном экономическом обществе с докладом «О мерах к распространению в России рационального пчеловодства». Александр Михайлович в это время не был даже членом общества и являлся в этом заседании «гостем». Этого «гостя», уже выпустившего в свет первое издание своей книги по пчеловодству, в том же заседании 25 ноября 1871 года секретарь общества профессор Ходнев предложил избрать в «неплатящие» члены общества.
Из доклада Бутлерова видно, как ясно понимал он истинное положение окружающей его действительности и насколько реальны были предложенные им меры. Нужно принять во внимание положение крестьянства в то время: большинство крестьян было неграмотно, книги, как бы хороши они ни были, до крестьян дойти не могли, и Бутлеров правильно полагал, что рациональному пчеловодству можно учить только примером.
«Если мы не можем прибегнуть ни к книгам, ни к школам, то каким же образом взяться за распространение рационального пчеловодства между крестьянами-пчеляками? Здесь есть, мне кажется, один только путь: нужно учить их примером. Чем больше будет пунктов, хотя бы очень мелких, рассеянных по всей России, – пунктов, в которых пчеловодство будет вестись рационально, – чем больше крестьяне будут наглядно убеждаться, что при таком-то способе хозяйствования дело идет лучше, тем скорее они примутся и сами поступят так же».
«Когда я принялся за дело, – рассказывает он дальше, – то соседние крестьяне-пчеляки сначала недоверчиво качали головами, но потом, когда дело пошло на лад, они стали присматриваться к нему внимательно и оказались непрочь вникать в него и учиться. Некоторые из них приходят ко мне, рассматривают мое хозяйство и уже поговаривают, что не худо бы у себя завести те же порядки».
«Вопрос о том, как учредить множество пунктов, где бы существовало рациональное пчеловодство, хотя бы в небольших размерах, разрешается довольно просто».
Указав на то, что по России разбросаны в разных местах пасеки, где ведется рациональное пчеловодство, Бутлеров добавляет:
«Отсюда я вывожу заключение, что нам нет надобности учреждать новые, так сказать, образцовые пункты для рационального пчеловодства: достаточно разыскать всех пчеловодов-любителей и пчеловодов ex professio, людей несколько образованных, например священников, грамотных крестьян и т. д., затем дать возможность каждому из них знать о существовании других, знать о том, как у других ведется хозяйство и как должно вести его рациональным путем. Если это будет сделано, то будет уже сделано немало».
Далее он говорит:
«Я предложил бы отделению следующие меры, которые могут, как я полагаю, привести к этой цели. Прежде всего следовало бы обратиться с особенным печатным приглашением к русским пчеловодам. Такое приглашение могло бы быть напечатано не только в «Трудах», но еще и отдельно, в несколько тысяч экземпляров, и разослано в различные руки для распространения. Я предложил бы просить в этом приглашении русских пчеловодов, грамотных, занимающихся делом несколько рационально, чтобы все они дали знать о том, где каждый живет, сколько у него ульев, как идет его пчеловодное хозяйство, какие затруднения он встречает, какой он получает доход и т. д. На первый случай мы будем иметь, таким образом, в руках список русских пчеловодов. Хотя мы не можем свести их лично, но можем, посредством журнала, установить некоторое общение между ними».
Бутлеров детально разрабатывает план централизованной пропаганды идей научного пчеловодства через сельскохозяйственный музей министерства государственных имуществ. Предложение Бутлерова было с благодарностью принято Вольным экономическим обществом.
Через год с небольшим, 21 февраля 1874 года, Бутлеров делает сообщение «О деятельности В. Э. Общества по отделу пчеловодства за последние три года». Из этого сообщения видно, как много вделано было по этому отделу после того, как он поступил в заведование Александра Михайловича.
Труды Бутлерова не пропали даром – пчеловоды живо откликнулись на его призыв и начали присылать много статей и заметок по пчеловодству.
Статьи и известия, представлявшие интерес, образовали «Отдел пчеловодства» в «Трудах». Портфель редакции уже в 1874 году был так наполнен статьями по пчеловодству, что затруднение представила обработка и публикация имеющихся материалов.
Отзывчивость Бутлерова на общественные нужды носила всегда страстно-деятельный, практический, хотя и далеко не революционный характер.
В 1870 году Бутлеров был избран адъюнктом Академии наук, в следующем году, после смерти академика Фрицше, – экстраординарным академиком, а в 1874 – ординарным академиком. В Академии он начинает совместно с Зининым и другими передовыми русскими учеными смелую борьбу с так называемой «немецкой партией». Пребывание Бутлерова в Академии имеет не только биографический, но и большой исторический интерес.
3. «ИМПЕРАТОРСКАЯ» АКАДЕМИЯ НАУК И БУТЛЕРОВ
Вступая в Академию в 1870 году, Бутлеров был в Петербурге еще новым человеком, да и по самой своей натуре он не мог войти в состав Академии с заранее составленным мнением, с предопределенными симпатиями и антипатиями, с предвзятым отношением к ее руководству, к ее большинству.
Однако, несмотря на отсутствие собственных наблюдений, он имел причины с самого начала относиться с некоторой настороженностью к академическому большинству. Среди профессуры царило недовольство академической средой, которого не скрывали давно известные Бутлерову и глубоко уважаемые им ученые. К ним принадлежал прежде всего Зинин. Дружеские отношения Бутлерова с Зининым упрочились особенно после того, как Бутлеров занял освободившуюся после Фрицше квартиру на 8-й линии Васильевского острова, в одном доме с Зининым, где находилась и химическая лаборатория Академии.
Не располагало Бутлерова, искреннего патриота, к доверчивости и бросающееся в глаза преобладание иностранных, преимущественно немецких, имен не только в самой Академии, но и в примыкающих к ней учреждениях.
Бутлеров привык относиться к западноевропейской науке с уважением, но это уважение не имело ничего общего с преклонением. Факты же, с которыми Бутлеров вскоре столкнулся в Академии, заставили его вступить в упорную борьбу с реакционным большинством, создавшим в Академии гнилую атмосферу преклонения перед иностранными авторитетами.
С первым фактом Бутлеров встретился уже в самый год своего вступления в Академию. По предложению Бутлерова и Зинина Академия присудила в 1870 году Ломоносовскую премию А. Н. Энгельгардту и Н. А. Лачинову (1837–1891) за исследование креозолов и нитросоединений.
Прежде чем присужденная премия была выдана, Энгельгардт подвергся в декабре 1870 года аресту, заключению в Петропавловскую крепость, а вскоре затем административной ссылке в свое имение Батищево Смоленской губернии.
Непременный секретарь Академии академик К. С. Веселовский (1819–1901), возглавлявший большинство, поднял вопрос об отмене состоявшегося постановления о присуждении премии, против чего решительно восстал Бутлеров, указывая на то, что доводы Веселовского являются «ненаучными».
Веселовский с злобной язвительностью спросил непокорного адъюнкта:
– Да неужели же и в самом деле он заслуживает премии?
– Я имею привычку руководствоваться в своих мнениях и действиях искренним убеждением, – ответил Бутлеров.
За первым столкновением последовали другие, в которых возглавляемое непременным секретарем реакционное большинство руководствовалось интересами «немецкой партии», презиравшей и русскую науку и русский народ, а Бутлеров отстаивал свой взгляд на значение и обязанности Академии, вытекавшие как из существа дела, так и из его чувств русского патриота.
Устав гласил, что «Академия наук есть первенствующее ученое сословие в Российской империи», что «Академии предлежит обращать труды свои непосредственно в пользу России», что «Академии предоставляется право избрания на открывающиеся места академиков и адъюнктов», причем «при равных достоинствах ученый русский предпочитается иноземцу».
Ознакомившись с требованиями устава и существующими академическими порядками, Бутлеров увидел, насколько действительность не соответствовала декларируемым намерениям. Следуя уставу, Академия наук должна была бы пополнять свои ряды достойными работниками, и лишь недостаток достойных ученых мог бы извинить существование в Академии вакантных мест. А между тем эти места оставались незамещенными, хотя русских ученых, имевших все права на избрание, было немало. Внеакадемическая общественность признавала за этими учеными их права, а Академия молчала, как бы не замечая того, что, по самому существу своих обязанностей, она должна была видеть, знать и признавать. Непризнание русских ученых «первенствующим ученым сословием Россия» казалось тем более странным, что устав давал Академии право избирать в свою среду отличных ученых, «хотя бы и не было вакансий». Как младший член Академии, Бутлеров не сразу решился высказать большинству свои мысли; вскоре он убедился, что откровенность была бы излишней, не имеющей никаких шансов на сочувствие. Бутлеров решил молчать до случая, хотя положение дела в Академии было ясно: заслуженных отечественных ученых Академия, в лице своего большинства, не желала признавать.
В конце 1872 года в Академии состоялось присуждение «премии К. М. Бэра» дерптскому ботанику Эдмунду Руссову. Большинство комиссии, присудившей премию, отдало предпочтение сочинению, написанному на немецком языке, перед работой профессора И. И. Мечникова, несмотря на обоснованный протест членов комиссии: выдающегося ботаника академика Н. И. Железнова (1816–1877) и известного физиолога академика Ф. В. Овсянникова (1827–1906). Они считали более справедливым присудить премию Мечникову. Особенно же резко возражали они против обращения большинства комиссии – академиков Брандта, Шренка, Штрауха и Максимовича – к берлинскому ботанику Александру Брауну с просьбой дать разбор сочинения Руссова. Бутлеров присоединился к этому протесту, хотя и не мог судить о деле по существу. Обращение за мнениями к иностранным ученым, когда есть не менее заслуженные свои, он назвал «оскорблением» и «унижением» российского «первенствующего ученого сословия».
«Если и было время, – писал по этому поводу Бутлеров, – когда обращение к иностранным авторитетам по естествознанию, для решения наших домашних дел, было позволительно и оправдывалось необходимостью – недостатком русских натуралистов, могущих быть судьями, то необходимость эта уже миновалась, и мы, Русские, не без гордости, можем указать на работы, вполне доказывающие, что естествознание стоит теперь в России достаточно твердо на собственных ногах».
Попытки поднять вопрос о неправильности присуждения премии не имели успеха. По тогдашним правилам, биологический разряд, составляющий комиссию, решал вопрос окончательно, сообщая Академии свое решение только для сведения. Присуждение состоялось, о чем было заявлено в публичном заседании Академии 7 февраля 1873 года. По поводу этого присуждения появилось в газете «Голос» письмо профессора Петербургского университета, впоследствии ректора его, известного ботаника, учителя К. А. Тимирязева, А. Н. Бекетова (1825–1902). В этом письме Бекетов также рассматривал отсылку сочинения Руссова за границу для рецензии как «действие оскорбительное для русских ученых» и ничем не оправданное. Бекетов указывал, что между русскими ботаниками есть заслуженные люди, что игнорирование этих ученых с их трудами более чем странно, что между ними Академии нетрудно было бы найти достойного сочлена и что, наконец, Академия, не открывая конкурса на адъюнктуры, уклоняется от исполнения требований устава и лишает отечественных ученых возможности предъявить свои права на вход в Академию. Вслед за письмом А. Н. Бекетова появились в «Голосе» заметки А. О. Ковалевского и И. И. Мечникова. Первый разбирал дело по существу, а второй, будучи сам конкурентом, разбирал его только в отношении к правилам премии. Оба находили, что большинство комиссии действовало неправильно.
Эти письма передовых русских ученых привлекли внимание к жизни Академии не только специалистов, но и всего русского общества.
Вопрос из стел Академии вышел на страницы газет. В защиту комиссии, присудившей премию, выступил академик К. И. Максимович. Возражая профессору А. Н. Бекетову в «С.-Петербургских ведомостях», он, между прочим, писал, что письмо Бекетова преисполнено самых резких выпадов против всего физико-математического отделения Академии наук. Будучи членом того же отделения, Бутлеров обратился с письмом к тем же «С.-Петербургским ведомостям», заявляя, что физико-математическое отделение в полном своем составе и, в особенности, члены его, не принадлежащие к биологическому отделу, не считают возникшую полемику относящейся к ним, так как они в обсуждении вопроса не участвовали вовсе.
Снимая с себя ответственность за тот способ действия, который он считал неправильным, Бутлеров окончательно утратил благорасположение академического большинства, что ему и дали немедленно почувствовать. В ближайшем собрании Академии Веселовский в очень резкой форме обратился с выговором к академику Железнову за то, что Железнов в заседании ботанического отделения Общества естествоиспытателей порицал большинство академиков-биологов
«Не только за самого себя, но и за г. непременного секретаря я был тогда рад, что допущенная им резкость касалась не меня!» – писал по этому поводу Александр Михайлович.
В связи со всем происшедшим научная общественность напомнила академическому большинству биологического разряда, что в их рядах нет крупнейших русских натуралистов-ботаников: Л. С. Ценковского (1822–1887) и А. С. Фаминцына (1835–1918). Права их на академическое место по ботанике не могли подлежать сомнению.
Бутлеров и Овсянников решили воспользоваться правом ординарных академиков представлять к избранию кандидатов в действительные члены Академии, по «взаимному соглашению известного числа ординарных академиков, не ниже трех, преимущественно принадлежащих к тому разряду, в который должен поступить предлагаемый кандидат». Так как Овсянников принадлежал к биологическому разряду, куда относилась и ботаника, Бутлеров совместно с ним возбудил вопрос об избрании в Академию профессора Фаминцына. Считая неделикатным и неправильным не предупредить об этом специалиста по ботанике К. И. Максимовича, Бутлеров переговорил с ним, в надежде, что Максимович предпочтет взять на себя принадлежащий ему по справедливости почин в этом деле. Но Максимович отказался. Бутлеров и Овсянников обратились к президенту Академии за согласием, которое по уставу было необходимо для представления. Этого согласия они не получили именно на том основании, что специалист-ботаник не участвует в представлении.
Тогда Бутлеров и Овсянников обратились к Максимовичу с предложением выдвинуть кандидатуру Л. С. Ценковского. Из разговора выяснилось, что Ценковский не желает вступать в Академию и предполагает предложить к избранию не Фаминцына, а товарища и друга Фаминцына, естествоиспытателя М. С. Воронина (1838–1903). Было при этом однакоже условлено, что в случае отказа Воронина будет представлен Фаминцын.
Воронин отказался от сделанного ему предложения, и К. И. Максимовичу оставалось только исполнить то, что он обещал. Профессор Фаминцын был, наконец, предложен и выбран в адъюнкты Академии по ботанике, через восемь лет после того как освободилась вакансия!
Прямота и принципиальность, с которыми Бутлеров отстаивал дело русской науки, поставили его во главе «русской партии» в Академии. Она составляла академическое меньшинство, которое, однако, поддерживала вся передовая общественность.
Осенью 1874 года Бутлеров и Зинин решили попытаться ввести в Академию Д. И. Менделеева. Право его на место в русской Академии наук трудно было бы оспаривать. В это время в Академии имелись только адъюнктские вакансии, и решено было, согласно тогдашним академическим обычаям, предложить кандидатуру Менделеева в адъюнкты по химии. Прежде всего требовалось, чтобы физико-математическое отделение признало возможным предоставить химии одну из свободных адъюнктур. В этом, казалось, трудно было встретить отказ. Академия имела и прежде троих, а иногда и четверых представителей химии, а, кроме того, по уставу разрешалось «-присоединять к себе достойных ученых» даже ординарными академиками, «хотя бы и не было вакансий». Посоветовавшись с Бутлеровым, Зинин все же счел необходимым запросить непременного секретаря о том, следует ли им представлять Менделеева прямо или надо сначала, не называя лица, поднять вопрос о предоставлении химическому разряду адъюнктского места?
Веселовский, подумав, посоветовал сделать представление прямо, указав лицо. Совет этот настолько не вязался с ожидаемым противодействием со стороны «немецкой партии», что Зинин не ограничился разговором с непременным секретарем, а вместе с Бутлеровым обратился по тому же вопросу к одному из тех академиков, мнение которых наверное не могло быть противоположно мнению Веселовского. Но и он указал тот же путь прямого представления, прибавив, что вопрос о месте возникнет сам собою.
Вопрос этот действительно возник в заседании отделения, но каково же было изумление Бутлерова, когда, выслушав представление, Веселовский с высоты занимаемого им рядом с президентом места обратился к Бутлерову с упреком за то, что вопрос о месте не был возбужден отдельно от вопроса о лице.
– Таким образом, – заметил он, – вы можете привести нас к необходимости забаллотировать достойное лицо!
Ошеломленный неожиданностью, Александр Михайлович громко и возбужденно сказал непременному секретарю, что все было известно заранее.
Веселовский, не отвечая, поставил на голосование вопрос о месте, который был решен отрицательно большинством трех голосов. Эта первая попытка Бутлерова ввести Менделеева в Академию хотя бы адъюнктом осталась малоизвестной, так как формально баллотировалась не кандидатура Менделеева, а вопрос о предоставлении адъюнктской вакансии химическому разряду.
Для дальнейшего усиления «немецкой партий» весною 1879 года историко-филологическое отделение Академии внесло в общее собрание представление об избрании в члены Академии молодого санскритолога Леопольда Шредера. Выступая в порядке обсуждения этого представления, академик А. Ф. Бычков напомнил собранию, что историко-филологическое отделение, желающее теперь провести в Академию второго санскритолога, – который, может быть, как и первый, академик Бетлинг, будет жить постоянно за границею, – имеет по русской истории одного только представителя, экстраординарного академика Куника.
– Так как экстраординарные академики, – добавил он, – наравне с адъюнктами, не считаются занимающими присвоенное науке академическое кресло, то, собственно говоря, кресло русской истории остается в Академии незамещенным уже около десяти лет после смерти академика Устрялова, и замещение это должно бы, мне кажется, обратить на себя внимание историко-филологического отделения скорее, чем замещение санскритской адъюнктуры!
Избрание не представлялось правильным и Бутлерову.
– Я не считал и не считаю уместным делать членами Академии начинающих ученых, каким является Шредер, – сказал он. – Молодой ученый в случае выбытия старейшего представителя науки тотчас становится, по смыслу устава, первенствующим в России авторитетом и судьей по своей части, а это положение несвойственно начинающему ученому и не отвечает серьезности авторитета Академии.
Нa общем собрании Академии, назначенном для выборов новых членов, все же произведено было баллотирование Шредера. Результат оказался отрицательным и неожиданным для Веселовского и всей его партии. По окончании заседания Веселовский, – не сдерживая своего негодования, обрушился с упреками на Бутлерова.
– Это все вы виноваты! – кричал он. – Вы протащили в Академию Фаминцына. Вы хотите, чтобы мы спрашивали позволения университета для наших выборов. Этого не будет! Мы не хотим университетских. Если они и лучше нас, то нам все-таки их не нужно. Покамест мы живы – мы станем бороться!
«Я вслух выразил искреннее удивление несдержанности г. непременного секретаря, – пишет Бутлеров, передавая его слова, – и заметил ему, что я знаю университетских, которые сделали бы честь академии, если бы состояли в ней членами; именно таковы, например, профессора Менделеев и Сеченов. «Это потому, что они вам приятели!» – возразил мне г. непременный секретарь. И опять я вспомнил, что люди судят по собственному опыту. Правдивость моего рассказа нельзя оспаривать: разговор происходил при многих свидетелях, академиках. Слова г. непременного секретаря составляют признание: он и другие члены большинства очевидно составляют в академии партию; иначе – кто же эти «мы»?».
В результате этого инцидента постановлено было протоколов заседаний не печатать и не рассылать их предварительно в черновом виде академикам для просмотра, как делалось это до того времени.
Прямая и честная позиция, занятая Бутлеровым в Академии, разоблачение закулисных махинаций, посредством которых «немецкая партия» обеспечивала себе руководящее большинство в Академии, привлекали к Бутлерову симпатии передовых кругов русской интеллигенции.
Общественно-политические и историко-философские воззрения Бутлерова в значительной мере складывались под влиянием идей, господствовавших в русском обществе в шестидесятых годах прошлого века. В области философской это был естественно-исторический материализм, в области общественно-политической – просветительство, наиболее ярко и полно отразившееся в деятельности революционных демократов Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова.
Характеризуя русского просветителя этой эпохи, В. И. Ленин писал, что он «одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем егопорождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта «просветителя». Вторая характерная черта, общая всем русским просветителям, – горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта «просветителя» это – отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние, и искреннее желание содействовать этому» [4]4
В. И. Ленин.Сочинения. Изд. 4, т. 2, стр. 472.
[Закрыть].








