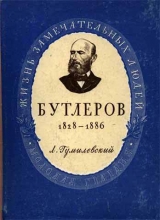
Текст книги "Бутлеров"
Автор книги: Лев Гумилевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ БУТЛЕРОВ

Глава первая
КОЛЫБЕЛЬ РУССКОЙ ХИМИИ
1. СЕМЕЙНЫЕ ПРЕДАНИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В нашем распоряжении имеется мало данных, относящихся к детским годам великого русского ученого. Старый дом в Бутлеровке со всеми хранившимися там документами и материалами сгорел, и о многом приходится говорить, опираясь на семейные предания и воспоминания современников.
Отец Александра Михайловича – Михаил Васильевич Бутлеров, участник кампании 1812 года, после разгрома наполеоновской армии и триумфального вступления русских войск в Париж возвратился на родину и вышел в отставку с чином полковника. Отказавшись от предложенного ему поста вице-губернатора, он поселился в своем имении – сельце Бутлеровке Спасского уезда Казанской губернии.
Михаил Васильевич Бутлеров был отлично образованный по тем временам человек, обладавший деятельным характером, умный и добродушный. Он любил физический труд, занимался столярничеством и хозяйством, непрочь был поохотиться и c особенным удовольствием совершал походы на речку Шанталинку, приток Малого Черемшана, где ловил рыбу, часами просиживая с удочкой.
Может быть, впрочем, особенная прелесть этих прогулок заключалась для него в том, что верстах в двенадцати от Бутлеровки, как раз на берегу этой речки, находилась усадьба «Шантала», принадлежавшая помещику Стрелкову, дочь которого, Софья Александровна, вскоре и стала женой Михаила Васильевича.
Совместная жизнь их продолжалась недолго. В начале августа 1828 года, ожидая рождения ребенка, Михаил Васильевич выехал с женою в Чистополь, ближайший к Бутлеровке город, где имелись врачи и можно было получить медицинскую помощь.
Здесь 25 августа, а по новому стилю 6 сентября 1828 года и родился Александр Михайлович Бутлеров.
Роды прошли благополучно, но Софья Александровна неожиданно умерла на одиннадцатый день после рождения сына – «от испуга», как говорит семейное предание. Смертельный шок был вызван ничтожным случаем: вошедшая в комнату девушка, ухаживавшая за роженицей, выронила из рук железный таз.
Мальчика взяли в свою семью родители матери, где он и воспитывался, окруженный всемерной заботливостью дедушки, бабушки и тетушек.
Отец страстно полюбил осиротевшего сына, перенеся на него всю свою привязанность к жене. Он проводил с ним много времени, следя за пробуждающимся сознанием ребенка, за возникающими у него привычками, симпатиями и антипатиями. Когда мальчик подрос, Михаил Васильевич стал совершать с ним прогулки в поле и лес, собирая коллекции цветов и бабочек. Он приучал его к аккуратности, систематичности и порядку, стремясь развить в сыне самостоятельность, смелость и умение обходиться без чужой помощи.
В то время, когда Михаил Васильевич особенно много думал о том, какие правила жизненного поведения предложить четырехлетнему сыну, в «Казанском вестнике» была напечатана знаменитая «Речь о важнейших предметах воспитания», произнесенная гениальным русским ученым Н. И. Лобачевским после назначения его ректором Казанского университета.
Лобачевский был хорошо известен казанской интеллигенции.
Этот высокий, худощавый, сутуловатый человек, с головой, опущенной как бы в задумчивости, с глубоким взглядом темносерых глаз под сурово сдвинутыми бровями, производил на окружающих впечатление человека необыкновенного и пользовался величайшим уважением в городе. Можно предположить, что высказываемые им мысли о воспитании и назначении человека оказали влияние и на Михаила Васильевича Бутлерова, занятого воспитанием сына.
Принадлежа к образованной части служилого дворянства, Михаил Васильевич понимал, что и он и его сын относятся к той категории людей, о которых Лобачевский говорил: «их существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим». И Михаил Васильевич всеми силами стремился к тому, чтобы ум его сына не «отупел», чтобы чувства его не «засохли», чтобы для него не была «мертва природа».
Вести сына по такому пути Бутлерову-отцу было нетрудно: ребенок отличался живостью характера, хорошим здоровьем, прекрасной памятью и явными способностями. Он легко усваивал первоначальные сведения, которые получал от отца, а Михаил Васильевич был человек наблюдательный и памятливый, он много видел и много знал, а главное – умел показывать каждый предмет с какой-то новой и неожиданной стороны, возбуждая любопытство сына и привлекая его внимание к самым на первый взгляд обычным вещам. Присев отдохнуть у замшелого пня столетнего дерева, он мог превратить его и в кафедру лесотехники и в наглядное пособие для изучения жизни и нравов притаившихся в подгнившей коре муравьев.
Восьми лет мальчика отправили в Казань, в пансион Топорнина, который подготовлял своих воспитанников к поступлению в гимназию.
В пансионе маленький Бутлеров оказался по своему развитию не только на голову выше товарищей, но и выделялся из их среды особенностями своего характера.
Лишившись рано матери, мальчик обожал отца и стремился во всем ему подражать. Это наложило печать на индивидуальность ребенка. Маленький Бутлеров был пытлив, предприимчив, самостоятелен, умел настойчиво преодолевать препятствия. С детства он отличался аккуратностью.
Приводить все вокруг себя в порядок было для него не обязанностью, а внутренней потребностью, удовлетворение которой доставляло ему удовольствие. Должно быть, той же потребностью объяснялось и его непреоборимое стремление доводить всякое дело до конца, до раскрытия всех подробностей, сокровенных и потому самых интересных.
Предоставленный в пансионе самому себе, мальчик, привыкший к самостоятельности, с увлечением погрузился в доступные ему развлечения. Как раз в это время Казанский университет, руководимый Лобачевским, обзавелся новой химической лабораторией. Эта лаборатория, предоставив материальную базу для экспериментов и научно-исследовательских работ по химии, подняла химию в Казанском университете на ту высоту, которая впоследствии создала ему славу «колыбели русской химии».
У маленького Бутлерова, как у всех барчат, был дядька. Мальчик не имел понятия о химии, но любил фейерверки и ему нравилась химическая посуда. Вещества и посуду, нужные для приготовления фейерверков, дядька доставлял ему без труда, и ребенок с увлечением предавался опытам. Он мешал серу, селитру, – уголь и получал порох; он растворял в колбе медный купорос и, опуская в голубую жидкость железный гвоздь, видел, как тог покрывался медью. Мальчика не интересовали практические результаты чудес, им совершаемых. Его воображение занимал процесс превращения веществ.
К этому периоду жизни Бутлерова относится интересный эпизод, рассказанный впоследствии его товарищем по пансиону Шевляковым:
«Бутлеров усердно возился с какими-то склянками, банками, воронками, что-то таинственно переливал из одного пузырька в другой. Ему всячески мешал неугомонный воспитатель Роланд, зачастую отбирал склянки и пузырьки, ставил в угол или оставлял без обеда непрошенного химика, но тот не унимался, пользуясь покровительством учителя физики. В конце концов в углу, возле кровати Бутлерова, появился крошечный, всегда запертый шкафчик, наполненный какими-то снадобьями.
В один прекрасный весенний вечер, когда воспитанники мирно и весело играли в лапту на просторном дворе, а «неистовый Роланд» дремал на солнечном припеке, в кухне раздался оглушительный взрыв… Все ахнули, а Роланд прыжком тигра очутился в подвальном этаже, где помещалась кухня. Затем перед нами снова показался «тигр», безжалостно влачивший Бутлерова с опаленными волосами и бровями, а за ним, понуря голову, шел дядька, привлеченный в качестве сообщника, тайком доставлявшего материалы, необходимые для производства опытов.
…К чести пансиона Топорнина следует заметить, что розги никогда не употреблялись в этом заведении, но так как преступление Бутлерова выходило из ряда вон, то наши педагоги, на общем совете, придумали новое, небывалое наказание. Раза два или три преступника выводили из темного карцера в общую обеденную залу, с черной доской на груди, на доске крупными белыми буквами красовалось: «Великий химик».
Но этот оригинальный педагогический прием не оказал желаемого воздействия на Бутлерова. Он продолжал заниматься пиротехникой и в гимназии, куда вскоре был переведен из пансиона. Однако увлечение химическими опытами не поглощало целиком мальчика, в равной степени увлекался он и цветами, и бабочками, и пчелами, интерес к который остался у него до конца жизни.
Разлука с домом не только не уменьшила отцовского влияния, но как будто даже обострила его, как и самую привязанность. Насколько велико было это влияние, можно судить по сохранившемуся письму юноши к отцу. В тринадцать лет под новый 1842 год он писал:
«Я желал бы прежде всего выдержать экзамен и поступить в университет. Там, ведя себя хорошо, удаляясь от всего дурного и учась прилежно, заслужить, любовь наставников, я желал бы доказать им собою, что их усилия не были тщетны и дали хорошие плоды.
Желаю и надеюсь быть утешителем родителя и родственников, которые видят во мне всю надежду и искренно меня любят.
Кончив университет, надеюсь я служить моему отечеству верою и правдою и, если нужно, умереть за него и за все мне драгоценное на поле битвы. Да, друг мой, неужели кто-либо из истинных сынов России не отважится броситься во все опасности за честь и славу любезного отечества нашего и за веру христианскую не ляжет костьми, как сказал мужественный князь наш Святослав Игоревич.
После трудных подвигов в пользу отечества желал бы я, наконец, успокоиться в тихом приюте моего детства, где первый раз узнал я радость жизни, вместе с теми, которые драгоценны моему сердцу; жить в мирной тишине подпорою моего родителя и любящих меня, дни которых да продлит бог долго и долго.
Наконец я желал бы встретить старость и смерть мирно, окруженный сельскими занятиями, оставив по себе память добра и пользы ближним».
Это новогоднее письмо, озаглавленное «Мои желания и надежды», по своему выспренному, книжному слогу похоже на сколок с какого-то гимназического сочинения на заданную тему. Но за всей его искусственной приподнятостью нельзя не видеть и того, какие высокие мысли и интимные чувства связывали сына с другом-отцом.
Характер «желаний и надежд» юного Бутлерова отчасти объясняется теми настроениями, которые царили вокруг него в гимназии. Бутлеров учился в первой Казанской гимназии, той самой гимназии, в которой учился и Лобачевский и Сергей Тимофеевич Аксаков, оставивший в своей «Семейной хронике» немало страниц, посвященных гимназическим воспоминаниям. Эта гимназия дала не только первых студентов, но и первых профессоров для Казанского университета, открытого в 1804 году.
«Нельзя без удовольствия и без уважения вспомнить, – говорит С. Т. Аксаков, – какою любовью к просвещению, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днем, но и по ночам. Все похудели, переменились в лице, и начальство принуждено было принять деятельные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечи и запрещал говорить, потому что впотьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Учители были так же подвигнуты таким горячим рвением учеников и занимались с ними не только в классах, но и во всякое свободное время, по всем праздничным дням… Прекрасное, золотое время! Время чистой любви к знанию, время благородного увлечения».
Бутлеров учился в гимназии, описанной С. Т. Аксаковым, много лет спустя, но традиции «благородного увлечения» продолжали еще существовать в ее стенах. Их поддерживали преподаватели, многие из которых были товарищами Аксакова, переживавшим вместе с ним «прекрасное, золотое время».
Благородное увлечение знанием, как и общее настроение, царившее среди гимназической молодежи, привело к тому, что Бутлеров окончил гимназию в шестнадцать лет. По молодости он был в 1844 году даже не принят в университет, а лишь допущен к слушанию лекций. Чтобы стать действительным студентом, Бутлерову пришлось пробыть два года на первом курсе.
Складом ума, резко выраженной с детства любовью к природе определился у Бутлерова выбор «разряда естественных наук», на который он был зачислен даже вопреки желанию отца. Михаил Васильевич, преклонявшийся перед Лобачевским, мечтал видеть сына математиком. Сын отвечал ему:
– В обсерватории скучно, а к вычислениям у меня никакой склонности нет…
Юноша действительно был прирожденным натуралистом, и если в годы учения он не часто мог бывать в поле, в лесу, в степи, на реке, то он умел переносить природу в свой дом, в свою комнату. Он выкармливал белых мышей, черепах, вывезенных из Оренбургского края, выводил бабочек, собиранию которых посвящал летние дни. Хранившаяся в Казанском университете много лет коллекция бабочек, собранная Бутлеровым в дни юности, удивляла всех тщательностью обработки. Юноша обладал необыкновенным терпением при выполнении кропотливых работ. Для такого рода занятий Бутлеров всегда находил время.
Учение и дома, и в пансионе, и в гимназии, и в университете давалось ему легко. В дни экзаменов, когда его товарищи просиживали за учебниками напролет целые ночи, Бутлеров забавлялся приготовлением фейерверков, бывал очень спокоен, отлично высыпался и получал пятерки.
Сочетание спокойствия и живости, серьезности и общительности, глубокомыслия и веселости, по свидетельству всех его знавших, Александр Михайлович сохранил до конца жизни. Навсегда у него сохранились неуловимые черты ребячливости, но, в противоположность весьма распространенному типу ученого того времени, он не отличался ни рассеянностью, ни чудачествами, ни напускною важностью.
Размолвка при выборе специальности не нарушила дружеских отношений сына с отцом, которого молодой Бутлеров иначе и не называл, как другом. Но волею случая именно их общее увлечение ботаническими и энтомологическими экскурсиями привело к трагическому исходу.
В первые годы пребывания в университете Бутлеров посвящал ботанике и зоологии не меньше времени, чем химии, пожалуй даже к химии его менее влекло. В основе увлечения ботаникой и зоологией лежала возможность выносить науку в поле, в лес, собирая коллекции и изучая природу в непосредственной близости к ней.
Такого рода увлечению способствовало и то, что к городу примыкали великолепные предместья – Адмиралтейская слобода, соединенная с городом дамбой, Зилантов монастырь, Ягодная слобода, пороховой завод, монастырь «Кизических чудотворцев», окруженный сосновою рощей.
На восток за городом расстилалось Арское поле, застроенное прекрасными зданиями Родионовского института благородных девиц, военного госпиталя и духовной академии.
За этими зданиями на Арском поле находилось кладбище, утопающее в зелени и служившее излюбленным местом прогулок городских жителей.
За кладбищем на живописной местности, пересеченной оврагами, зеленела березовая роща, служившая также местом летних загородных прогулок. Несколько южнее располагались два озера – Малый Кабан и Большой Кабан, из которых ближайшее к городу соединялось с рекой Казанкой каналом, называвшимся Булак.
Часть Казани располагалась на горе, вокруг засыпанного теперь Черного озера. Вся остальная часть города, большая по площади и по числу жителей, располагалась на низменности, местами затопляемой весенними водами.
Во время разлива Волга и Казанка сливали свои воды, покрывая все низменности, подходя под самые стены древнего Казанского кремля, так что весь город казался стоящим посредине огромного озера.
Местоположение города и красивые его окрестности, несомненно, много способствовали увлечению казанских студентов энтомологией и зоологией. Этому увлечению посвящен очерк С. Т. Аксакова «Собирание бабочек», в котором поэзия занятия, ставшего страстью Бутлерова, раскрывается с исключительной силой и яркостью.
«Как нарочно, – рассказывает Аксаков, – несколько дней не удалось нам попасть за город, в рощи и сады за Арским полем. Мое нетерпение, возрастало с каждым часом. Я, даже не испытав еще настоящим образом удовольствия ловить бабочек, особенно редких или почему-либо замечательных, уже всею душою, страстно, предался новому увлечению, и в это время, кроме отыскивания червяков, хризолид и ловли бабочек, ничего не было у меня в голове; Панаев разделял мою новую охоту, но всегда в границах спокойного благоразумия. Наконец в один воскресный или праздничный день, рано поутру, для чего Панаев ночевал у меня, потому что я жил гораздо ближе к Арскому полю, вышли мы на свою охоту, каждый с двумя рампетками: одна, крепко вставленная в деревянную палочку, была у каждого в руках, а другая, запасная, без ручки, висела на снурке через плечо. У каждого также висел картонный ящик, в который можно было класть пойманных бабочек. Едва ли когда-нибудь, сделавшись уже страстным ружейным охотником, после продолжительного ненастья, продержавшего меня несколько дней дома, выходил я в таком упоительном восторге, с ружьем и лягавой собакой, в изобильное первоклассной дичью болото!.. Да и какой весенний день сиял над нашими молодыми головами! Солнце из-за рощи выходило нам навстречу и потоками пылающего света обливало всю окрестность. Как будто земля горела под нашими ногами, так быстро пробежали мы Ново-Горшечную улицу и Арское поле… И вот он, наконец, перед нами, старый, заглохший сад, с темными, вековыми липовыми аллеями, со своими ветхими заборами, своими цветистыми полянами, сад, называвшийся тогда Волховским. Хор птичьих голосов, заглушаемый соловьиными песнями, поразил сначала мой слух, но я скоро забыл о нем…»
Вот такие загородные прогулки, совершаемые ранней весной в окрестностях Казани, а летом – далекие экскурсии в заволжские степи, составляли юношескую страсть Бутлерова.
Эту страсть разделял с ним его товарищ студент Николай Петрович Вагнер, сын профессора минералогии, впоследствии известный зоолог и писатель. Летом 1846 года они даже отправились в киргизские степи, надеясь обогатить свои коллекции, мечтая о новых ботанических и энтомологических открытиях в крае, столь мало в то время исследованном.
Экспедицию возглавляли отец Вагнера, профессор П. И. Вагнер, и приват-доцент М. Я. Киттары. Кроме Вагнера-сына и Бутлерова, в экспедицию входил еще студент Д. П. Пятницкий. Все члены экспедиции были связаны дружескими отношениями, сохранившимися на всю жизнь.
В университете, начиная с первого курса и до последнего, трое неразлучных друзей сидели на одной скамейке. Вагнер в своих воспоминаниях замечает: «Если справедливо, что дружба держится на противоположностях, то именно наша дружба могла оправдать это правило».
По его рассказам, – а Вагнер был не только ученым, но и писателем, одаренным зорким глазом и памятливостью, – Бутлеров был довольно высокого роста и крепко сложенный сангвиник. Пятницкий был еще выше и также атлетического сложения. Рост самого Вагнера, по его словам, был таков, «что во всех лавках не могли найти шпаги настолько короткой, чтобы она не заходила ниже щиколотки, и принуждены были обрезать почти на вершок самую короткую шпагу, какую находили в гостином дворе».
Бутлеров был красивый блондин с голубыми, немного прищуренными глазами; с его румяных губ не сходила приветливая улыбка. Пятницкий из-за непропорционально большой головы казался ниже своего роста. У него было круглое, белое, пухлое лицо, короткий курносый нос; ироническая улыбка неизменно кривила его толстые губы. О себе Вагнер говорит, что казался в то время почти ребенком. Волосы торчали на его голове вихрами, лицо украшали довольно большие серо-зеленые глаза и оттопыренные губы.
Наиболее легкомысленным из троих друзей, по словам Вагнера, был Пятницкий, наиболее серьезным – Бутлеров. Тем не менее занимались они всегда вместе и аккуратно записывали лекции, не пропуская ни одной. По этим запискам готовились к экзаменам. Один из них, чаще всего Бутлеров, читал, двое слушали и затем рассказывали то, что слышали. Книг и руководств не было никаких. На первых курсах Вагнер и Бутлеров ревностно занимались собиранием насекомых, совершая свои экскурсии в окрестностях Казани и часто удаляясь от города на десять, двадцать и тридцать верст.
Вагнер подчеркивает в своих воспоминаниях, что зоология увлекала их своей живой связанностью с природой. Лекции же «сухого немца-профессора», который читал этот предмет, были, по отзыву Вагнера, очень скучны, и читал их «немец» по немецкому учебнику.
Этот «сухой профессор», Эдуард Александрович Эверсман (1794–1860), был действительно немец, принявший, правда, русское подданство, но говоривший по-русски очень плохо, несмотря на то, что провел в России почти всю жизнь и очень много путешествовал по Уралу и оренбургским степям. За сорок лет своих путешествий он собрал большое количество ценных зоологических экземпляров, но обогатил ими не русский, а Берлинский музей, куда пересылал лучшие свои находки. В «Естественной истории Оренбургского края», написанной им, оказалось много ошибок, как и в других его описаниях русской флоры и фауны, но все же, как первые работы в этой области, они имели некоторое значение для последующих исследователей.
Однако всем студентам было известно, что открытием ряда новых и интересных животных, описанных Эверсманом, – наука была обязана не ему, а Павлу Романову, препаратору Эверсмана. Это был человек едва грамотный, но одаренный от природы, любознательный охотник и ревностный коллекционер. Эверсман часто посылал его в отдаленные и продолжительные экскурсии в киргизские степи, на Алтай, к берегам Балхаша и Аральского моря для собирания зоологических коллекций, и всегда Романов возвращался с богатой добычей.
Эверсман был мало общителен со студентами, лекции читал вяло и однообразно, придерживаясь старых немецких учебников. В противоположность профессору, Романов охотно делился опытом и знаниями со студентами и своими увлекательными рассказами завоевал науке немало искренних и горячих приверженцев, Вагнер и Бутлеров среди них были самыми ревностными. По совету Романова, готовясь к будущим экскурсиям, друзья уделяли много внимания и чисто физической подготовке.
Бутлеров выделялся среди сверстников физической силой и ловкостью. Он был тяжеловат и неуклюж и никогда в жизни не танцовал, но в физических упражнениях и акробатике мало кто мог с ним соперничать. Стоило побывать в Казани какому-нибудь силачу или жонглеру, как через несколько дней Бутлеров уже показывал друзьям те же самые упражнения и приемы.
Бутлеров и Пятницкий упражнялись пудовыми гирями и любили при случае показывать свою силу. Так, например, приходя к Вагнеру и не заставая его дома, Бутлеров нередко оставлял у него вместо визитной карточки выгнутый из кочерги свой инициал, букву «Б».
Весенними вечерами друзья любили гулять у стен кремля, над которыми высилась старинная татарская башня царицы Сююмбеки. Со стен крепости и с бульвара открывался живописный вид на разлившиеся воды Волги и Казанки. Множество больших лодок, груженных самыми разнообразными товарами, пользуясь водопольем, проходили в эти дни с Волги через Кабан и покрывали Булак.
Возвращаясь вечером домой по главной улице, Вагнер забирался на плечи Пятницкому, Бутлеров накрывал его шинелью, отчего получалась фигура колоссального роста. Прохожие в ужасе шарахались в сторону, уступая дорогу великану, подолгу смотрели вслед загадочной фигуре, а старушки крестились и вздыхали.
Беззаботные дни юности Бутлерова окончились несчастливой экспедицией в киргизские степи.
Добравшись до ставки хана в Букеевской степи, экспедиция разделилась. Отец и сын Вагнеры и Бутлеров отправились на восток, а Киттары с Пятницким поехали на юг, на соленые озера, к берегам Каспийского моря.
Главная цель экспедиции сводилась к собиранию коллекций растений и насекомых. Бутлеров не мог принимать особенно деятельного участия в собирании коллекций. Он был несколько близорук и в поле, на экскурсиях, даже на охоте надевал очки. Его всегда должен был кто-нибудь сопровождать и указывать на растения, птиц и бабочек, если он не натыкался прямо на них.
В конце лета, в Гурьеве, Бутлеров, как рассказывает Вагнер, тяжело заболел. Подозревая тиф, отец Вагнера решил прервать экспедицию и везти больного в Симбирск.
Больного, находившегося в очень тяжелом состоянии, доставили в Симбирск, куда немедленно был вызван его отец. Михаил Васильевич самоотверженно ухаживал за сыном, у которого оказался брюшной тиф. Но, поставив на ноги сына, он сам заразился тифом. Почувствовав себя больным, Михаил Васильевич поспешно возвратился в Бутлеровку и здесь вскоре умер.
Неожиданная смерть друга-отца и перенесенная болезнь тяжело сказались на душевном и физическом состоянии Бутлерова. Понадобилось немало времени, чтобы он смог вернуться к занятиям. Возвратился в Казань он не один, а со своими тетками. Они переселились из деревни в город, чтобы создать юноше необходимые условия для занятий и полного выздоровления.
Можно думать, что трагический исход последней бутлеровской экскурсии оказал значительное влияние на юного естествоиспытателя. С этих пор его интересы все более и более сосредоточиваются на химической лаборатории. Огромное влияние на все возрастающий интерес Бутлерова к химии оказали профессор Карл Карлович Клаус и в особенности бдестящий русский химик Николай Николаевич Зинин, положивший начало мировой известности Казанского университета как «колыбели русской химии».








