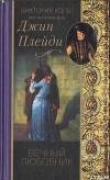Текст книги "Во дни Смуты"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
– Налет литовский!.. Враги набежали!.. Литовцы!.. Ляхи!.. Казаки!.. Тушинцы!.. Хватай! Вяжи!.. Коли!.. Руби!.. Бейте, братцы!.. Грабят!.. Наших бьют!.. Выручай!..
Торговки стали поспешно убирать свои товары, мужики у возов ухватили вилы, топоры и сгрудились перед своим обозом. Стрельцы-торгаши, схватив свое оружие, кинулись на выстрел. За ними поспели и стражники, объездчики и пешие, охраняющие торг. Казаки, перекликаясь зычными голосами, стали со всех концов рынка сбегаться также туда, где раскатился выстрел. На пути они выхватывали из-за пояса пистоли и бежали с оружием наготове. Гуляки-донцы тоже из-под рябины бросились к месту предполагаемой свалки.
Сверкали бердыши в руках, у многих наведены были ружья, и только никто не мог разобрать: где произошло нападение, кто враг, с кем нужно вступить в бой?..
Издали увидя есаула, окруженного густою толпою москвичей, угрожающих оружием, казаки-донцы ринулись прямо туда, с громким криком:
– Туча! Есаул наш, Туча тамо!.. Наших бьют!.. Хлопцы, не выдавай!..
Прорвавшись сквозь стену россиян, донцы стали перед есаулом, выхватя свои кривые сабли, нацелясь пистолями, держа наготове и кинжалы в зубах, очевидно готовые дорого продать свою жизнь.
– Кыш, мужичье! – гаркнул седой, здоровый донец, взмахивая своим тяжелым чеканом, а другой рукою наводя на толпу длинноствольную пистоль. – Очищай дорогу донцам-молодцам! Не то грешневики ваши, да треухи, да малахаи и кныши так пробуровим… и с черепками, с горшками с пустыми, шо на плечах у вас заместо головы!.. Слышь!.. Палить будем!..
Еще мгновение, случайный первый выстрел – и завязалась бы жестокая, кровавая свалка; но Озеров и Туча, понимая всю величину опасности, успели кинуться между казаками и москвичами, которые стеной так и валили, надвигаясь друг на друга…
Оба вместе, надрываясь, кричали, каждый – своим.
– Аль очумели! Спятили, православные!.. Никакова налету и слыхом не слыхать!.. Видите! Нихто не обижен… Пищаль, слышь, покупал казак, так пробовать задумал! – убеждал своих Озеров.
– Тю! Дурни донские!.. Как распетушились!.. Наших не замают. Глянь, заступники яки, на пустой след… Тьфу, пьяные рожи! Плясать идите, як плясали!.. – орал на казаков рассерженный Туча.
– Торг здесь идет, торг! Уразумели ай нет, люди добрые! – уговаривал самых бестолковых стрелец. – Никакой обиды нет и не было никому!.. Торг, одно слово, торг!..
– Штоб тя леший подрал!.. Вон оно што!.. Пищаль, слышь, покупал донец, так пробовал… А, дьявол вас дери!..
– Часы такие смутные… И в дому-то на полатях спишь, так черти снятся… А они, дуболомы энтакие, на торгу стали пищаль пытать!
– Палят… народ хрещеный зря пужают!.. Донцы треклятые, неуемные!.. Попужать бы их ослопами да рогатиной!..
С бранью, с ворчаньем стали расходиться по своим местам и торговцы, и стражники. Торг снова загудел, загомонил, как раньше, своими тысячеголосыми переливами.
А Туча спокойно, словно бы ничего не произошло, отошел от толпы товарищей, которые его расспрашивали, что тут произошло, и сунул что-то в руку Озерову, стоящему перед своим ларем.
– Твое, бач, счастье! На, бери! Давай рушницю.
– Што!.. Два рублевика! – протянул Озеров, поглядев, что ему сунул донец. – Не! Пляши на Калугу! Ступай, приятель, отколь пришел!..
Поглядел Туча, не говоря ни слова, забрал свои деньги и пошел к своим.
– Казак кряжистый! – почесывая затылок, проворчал стрелец и позвал покупателя снова.
– Гей, слышь! Набавляй полтину и бери! Уж больно ты мне по сердцу пришелся!..
Туча, словно не слыша зазываний, шел развалистой походкой все дальше и затянул своим сильным, густым голосом:
Ихав казак с Дону,
С Дону – тай до дому!.. Гей…
– Эх, пень проклятый!.. Слышь! Друг сердечный, усатый таракан запечный!.. Вернися! Иди, бери за свое! Шут с тобой! Где нашего не пропадало! Сыпь рублевики!.. Почину ради уступаю. Почин – велико дело!.. Гей!..
Отмахнувшись от Афоньки, который по знаку дяди кинулся за Тучей и почти силой тащил его к ларьку, – есаул спокойно вернулся, положил на прилавок два рублевика, которые так и лежали у него в ладони, наготове, взял пищаль, обернул ее рядном и наставительно заметил стрельцу:
– Просил бы без лишку да по чину, то не сидел бы без почину. А у меня рука – легкая. И шведы, и литовцы, и поляки мою руку знают. По два раза – ни разу не бью. Как раза дал, так и наповал! Мне пищаль продал, так теперь, гляди, и жену с дочкой до вечера цыганам продашь за хорошую цену!..
Донцы и молодежь, которая еще толпилась у ларька, расхохотались.
– Типун тебе на язык да десять под язык! – отплевываясь, ворчал Озеров.
– Ох, брат, да ты глядишь ли, кому товарец продал! – обратился к Озерову средних лет человек, одетый просто, но хорошо, в синем кафтане тонкого сукна, перехваченном черкесским кушаком, к которому подвешен был большой кинжал в серебряных ножнах, а с другой стороны – торчала рукоять немецкой широкоствольной пистоли. Это оружие и богато расшитый ворот белой рубахи тонкого полотна, выглядывающий из-под распахнутого кафтана, показывали, что это не торговый или посадский человек, не слуга боярский, как можно бы судить по темному короткому наряду и простой шапке, с узкой барашковой опушкой и красным, суконным верхом.
Это был небогатый служилый дворянин, Петр Горчаков, который с тезкою своим, князем Петром Кропоткиным, с Никитой Пушкиным да с Василием Кондыревым, такими же мелкопоместными дворянами, пришел на торг, кинулся на выстрел и потом задержался у озеровского ларя, привлеченный сценой купли-продажи диковинной пищали.
Озеров, услыхав замечание Горчакова, не торопясь оглянулся, окинул говорящего внимательным взглядом и, решив, что надо ответить незваному собеседнику, почесал в затылке и лениво проговорил:
– Я, слышь, не дьяк да не подьячий розыскной. Не сам болярин из приказу из Сыскнова, Разбойного, штобы пытать у каждого: «Ты хто? Да ты откуда?..» За энто мне полушки не дадут поломанной на всем торгу! А тута, гляди-ко, на ладони два свеженьких рублевика, как стеклышко!.. А ты уж спросы чини, допросы да разбирай, коль уродился такой мудреный дядя!.. Вот те и весь мой сказ!
– Добро! Выходит: «Денежки на кон, а там хошь и сам на кол!» Все буде ладно! Хоть виру, цену крови – принимаешь рублевиками… Торгаш прямой как есть, хошь и стрелец ты московский! – укоризненно проговорил Горчаков.
– Хо-хо-хо! – вдруг лукаво, весело рассмеялся Озеров, задетый укором и решивший оправдаться и перед этим надоедливым «полупанком», как в уме назвал стрелец Горчакова, и перед своими товарищами, которые, оставя лари на попечение подручных, подошли к навесу Озерова послушать, о чем речь пойдет?
– Ха-ха-ха! – сильнее раскатился стрелец, видя общее изумление, вызванное его нежданным весельем. – Ужли за дурака меня почел ты, господин хороший! Ну, пусть он вор, из шайки воровской царька калуцкого, омманного!.. Ты, друг, не обижайся, слышь! – мимоходом кинул торгаш Туче. – К примеру говорится, сват… не то чтобы тебе в обиду!.. Пусть – вор он, так я толкую. Да на нем, гляди, и без моей пищали – оружия палата!.. Снаряду боевого столько, что на пятерых на наших хватит! И сабля, и ножов, слышь, два, да две пистоли, да фузея… да вон чекан тяжелый!.. На лавку прямо хватит на целую. День можно торговать!.. А очами он загребущ да жаден. Не из поповской ли из долгогривой породы! А скажи, есаул, не потаи!.. Вот у меня – ошшо одну пищаль купил он. Ладно! Пущай теперь попробует, приходит с нею на злое дело, на разбой али грабеж казацкий, как в обычае то у них… Так у меня, – помимо «государского» большого самопала, – ошшо в дому четыре-пять пищалей про сыновей… племянных не считая да челядинцев. И тем припасено снаряду про всяк случай!.. Пусть сунется! Тарарахнем на ответ, мое поштенье! Костей, поди, не соберет мой лыцарь!.. А ты коришь: пищаль зачем я продал!.. Хо-хо-хо!..
Озеров снова раскатился довольным смехом.
Из толпы торговцев, приезжих на Москве, которые особой кучкой стояли поодаль, выдвинулся среднего роста, худощавый, но сильный и гибкий станом торговец, лет тридцати, Савва Грудцын. Каждое движение его, порывистое и широкое, выдавало затаенную нервность и удаль натуры.
– Тарарахнете?.. – пощипывая реденькую свою, рыжеватую бородку, въедливо заговорил он, обращаясь не к одному Озерову, а ко всем его соседям по торгу, стрельцам и москвичам, торговым людям. – Што не тарарахнули, когда неверных ляхов в Московский Кремль, в святое место пропущали!.. А? Али тогда и пищали у вас не тарарахнули!.. Давай ответ, торгаш стрелецкий, петел с хвостом с куриным!..
– Што не тарарахали!.. Д-д-да! – почесывая затылок, медленно заговорил Озеров, очевидно подыскивая половчее ответ на прямо поставленный, ядовитый вопрос. – Слышь, дело-то не наше вовсе… Д-д-да!.. Бояре верховные, все семеро – их, слышно, сами звали: мол, в Кремле быть надо польской рати… Кремль от вора от калуцкого оборонить, што больно близко подошел к Москве, слышь, к самой… в Коломенском, слышь, селе стоял царек со всею ратью… Ну, и тово… поляков допустили, бояре, слышь… Мы – ни при чем. Мы – как приказ был даден!.. А бояре… Коли не так што сотворили, – они дадут ответ и перед Богом… да и перед землею! Это уж как Бог свят!..
Есаул, Тимошка Дзюба, молодой еще, рослый, могучий казак, давно уже порывался вставить свое словцо и теперь врезался в речь Озерова…
– Бог! Сам плох, не даст и Бог! – громким, вызывающим тоном начал он, выступая из толпы товарищей, и, становясь перед Горчаковым, продолжал: – Слыхал ай нет пословку такую, мякина! Крупа московская… Вы – тюфяки, а не Христова рать! Вон энтот, – он кивнул на Горчакова, – молодчик, хват московский, он «тушинцами» лает нас, зовет ворами… А «тушинцы», гляди, уже в селе Коломенском, сам говорил, тут, под Москвою, встали!.. И царь у нас – не выродок литовский, не Владислав либо Жигимонт, латинец, еретик!.. Димитрей свой, хрещеный, православный царь-государь!.. С царевичем, с царицею Мариной…
– Не царь, а воровской «царек» и Самозванец, Сидорка-вор у вас… С Маринкой, с ведьмой! – начиная горячиться, отрезал Горчаков. – Да и за собой ведет тот вор окаянный воров да татей таких же; людей разбойных насылает на Русь святую, на землю на родимую!..
Седой, степенный есаул Порошин, удержав Дзюбу, который уже ухватился было вместо ответа за рукоять сабли, гулко забасил, поглаживая свои длинные усы:
– Послушаю, у москвичей язык уж так-то ловко мелет!.. И на што тут столько ветряков-помолов поставлено на въезде, на Пресне, тута да на Яузе-реке!.. Без них – все смелете, што ни попало на жернова московские. «Сам вор и – воровской царек!..» Э-эх ты! Не молод, брат, да, слышь, и не умен, как видно по речам. Не кипятись, не фыркай, паря. Дай слово мне сказать!.. Ну, «вор» у нас… Ну, «воровской царек»!.. А хто у вас-то? Бояре хуже вора! Предатели, изменники свои. Как в Тушине стояли мы с Димитрием, с царем, так все бояре ваши главнейшие у нас в гостях перебывали… Челом добьют смиренно вору-то. Тот им чинов подаст, и вотчин, и земель, и деревень, как добрым. А там, глядь – у Шуйского-царя опять и объявились. Тот жалует желанных «перелетов», бояр лукавых… Пока и этого царя не скинули и клобуком его не накрыли… Вот что бояры-то ваши делать горазды! Семибоярщина у вас, я слышал. Собором выбирали правителей, набрали семь… А считать – осьмой к ним затесался… Голицын, князь Василий, самый-то лукавый боярин… Сам Владиславу присягать сзывал народ, а сам – себя в цари московские ладил не таясь!
– Присягали Владиславу, да не все! – отозвался неожиданно пожилой дьяк.
– Ну нет, Иван Елизарыч, што зря толкуешь! – перебил дьяка его товарищ, видя, что на них обратили внимание. – Присягали Владиславу, так оно и есть. Не зря, слышь, сват, собор собирали Земский.
– Вестимо, соборное дело, – поддержал Кропоткин второго дьяка, снимая шапку и приветствуя обоих. – Собор земли – великое дело. И цари его слушали, не то што мы, людишки последние. Слышь, Грамматин, те правду бают.
– Собор, – не унимаясь, возразил тот, кого назвали Елизарычем, дьяк Иван Елизаров Курицын. – Уж ты не знаешь, какой собор был собран? По чину ли, по ряду! Ни-ни! От городов людей и не сзывали… Кто был в Москве под рукой из людей служилых да из торговых – тех на собор и звали… А что сам князь Мстиславский писал на города в грамотах, которые были про Владиславову присягу? Слыхал?
– Я слыхал, – угрюмо, нехотя отозвался Грамматин, чувствуя, что некстати завязался спор с ярким противником партии Владислава.
– Ну, ты слыхал, так они не слыхали. Вот што в грамотах боярских написано: «Нужды-то нет, чтобы от городов людей собрать, да и ехать на Москву небезопасно… И порешили Владиславу крест целовать, чтобы смуте конец положить». Нешто это было настоящее, всеземское решение! Как скажете, люди добрые?
Молчанием ответила толпа. Но их поникшие головы и насупленные брови ясно говорили, что думают люди московские, хотя и присягнули они Владиславу.
Первым снова подал голос есаул Порошин.
– Вот она, правда-то! Как масло на воде всегда выплывет. И к такому-то царю, леший его знает, кем избранному, – великое посольство от Москвы ехать собирается, челом бить: шел бы царством владеть!.. Привезут из Литвы «царя», неча сказать! На трон московских государей православных – Жигимонт сынка пошлет, Владислава… Коли не сам еще на трон полезет, ксендзов с собою насажает тут же!.. И уж тогда над верой православной вдосталь поглумится! А наш-то вор – не вор, да, говорю, хрещеный! И кругом нево – все православные, не люторы, не латинцы да ксендзы треклятые с гуменцами пробритыми на самой плеши!.. Черти гололобые! Вот первое вам дело! Скажу еще и другое. Мы с «вором» да теснимся дружно в круг… У нас и сила!.. Мы еще покажем ляхам, и Литве, и гетману Жолкевскому… Счеты сведем еще!.. А вы… Гляжу на вас… Э-эх, стадо беспастушное!.. Хоть то бы поглядели, што на Руси на всей теперя сотворилось! Што ждать еще нам надо… Подумайте вы, бороды худые!..
– Молчи! И без тебя, чай, знаем! – угрюмо проворчал другой торгаш, голова стрелецкий, Философов, стоящий в толпе.
– То-то вот, «молчи»! – не унимаясь, продолжал Порошин. – Не по ндраву пришлося. Правда глаза колет. Я по земле Московской погулял, по вашей… Вон тута стоят кругом, я вижу, люди из разных концов… со всех краев земли Русской.
– Вестимо! На торгу, как в боярских закромах: со всех полей собран хлеб-разносей! – отозвались голоса из толпы, которая теперь еще теснее сгрудилась вокруг кучки спорщиков, видя, что начался словесный бой, без угрозы для чьей-либо жизни.
– Так вот, люди добрые! – вдруг обратился смышленый казак к толпе. – Вы бы нам и порассказали, что деется теперя по всем углам? А мы послухаем. Гей, ты не из смольнян? – обратился он к коренастому парню лет двадцати пяти, в белых портах и рубахе, с дырявою сермягой на плечах, с измызганным грешневиком на спутанных, белесых волосах. Водянистые светлые глаза выделялись на темном, обветренном, исхудалом лице, опушенном редкой светлой бороденкой и усами.
– Оттедова! – почесывая затылок, отозвался парень.
– Вот то-то, гляжу я, больно мне рожа твоя знакома. Глупая, белесая, как и надо быть у вашего брата, у смоленских круподеров. Поведай, парень, сладко ли вам живется с той поры, как польский короленок, царь московский, избранный пан Владислав, литовская собака, – вас милует да жалует!.. В полон берет, стреляет, топит, режет!..
– Во… во… во! – широко ухмыляясь, подтвердил парень. – Так все и есть, дядя. А ты из насой стороны, сто ли ца?..
– «Што ли ча!..» Нет, не из «васой»!.. Тамо дураков и без меня довольно. Сюда ты как прикатил: верхом али в колымаге…
– Гы-гы-гы! – загоготал парень. – Вярьхом… да в колымаске!.. Гы-гы!.. Песечком! Эхе-хе! Нет ни лосадки, ни телеги… Ноне нет ницаво! На рубежи посли мы, знатца… Так думалось: послободнее тамо, на рубежах!..
– Ну, и што же? – спросил Кропоткин.
– Мурзы, слышь, отогнали нас, – отстраняя сюсюкающего парня, заговорил его товарищ, одетый также, но чуть пообрядней. И бойко продолжал: – Мордва, чуваши да мурзаки татарские, что близко к рубежам понаселилися, они тамо и шмыгают… Землю захватом забирают, кормов нам не дают ни для скота, ни для себя… С мястов гоняют, чуть осядем где-нигде… Мы вот собралися и гайда на Москву!..
– А тут, гляди: вам закрома открыли… поят и кормят досыта? – спросил Порошин.
– Ку-уды-ы-ыы!.. И то день третий, почитай, не емши… В обители поночевали ночи две, тамо и покормились маненько… Работы нет… Дялов-то никаких… Потуже животы перетянули поясами и терпим!.. А теперя – ошшо куда ни есть пойдем, искать удачи…
Ступай туды – неведомо куды… ищи тово – неведомо чево! – усмехаясь, произнес Порошин. – Ай, молодцы робята. На ногах не стоят, а духу не теряют… А ты отколь?..
– Каширские мы будем! – забасил пожилой, высокий, худой мужик в азяме и овечьей шапке, к которому обратился есаул.
– Известно, хто мы! – подхватил стоящий рядом человек помоложе первого, в свитке домотканого сукна, в коневых сапогах. – Мы-ста однодворцы. Да – тесно стало на Кашире ноне… А на Москве, слышь, надобе людей и ратных, и служилых… да и всяких, хто головы на плечах не теряет… Што день – здесь драча да битва идет… Уж сами видели, чуть побывали здеся. Мы к боям охочи… Мы – люди боевые, однодворцы. Вот и пришли, поищем счастья, доли, коли Господь пошлет…
– Бог на помочь, друзья! – с поклоном обратился к ним Порошин. – Ваша правда. Где теперя и подраться, коли не на Москве. Что час, то льется кровь, да сколько понапрасну!.. Я хоть казак, да не дурак, я понимаю… Хоть было б из чево чинить кровопролитье!.. Нет, никому не лучше от всей свары московской от вашей. Всем боль и досада великая, как я вижу да слышу!.. Хошь и нет тута вора-царя, как в Калуге ноне у нас!.. Ну, ты – чем радовать нас хочешь? – обратился он к чисто, нарядно одетому, кудрявому мужику, очевидно торговцу, который высунулся вперед из толпы и ждал, когда ему можно будет вставить свое слово.
– Мы, новгородцы, от государя Великого, от Новогорода, от господина…
– Дела пытаешь али от дела лытаешь?.. Сказывай, молодец! Мы послушаем.
– Чаво и сказывать!.. Забрались к нам свеи… Пока ошшо – помалости теснят. Их – половина, наших половина выборных сидят по избам земским, по приказам по всяким… Хошь и дерут, да и не до последней шкуры… А все душа болит, што присягнули иноверному кралевичу мы ноне… Царевич свейской – лютор… И стал он государем у нас… и господином Святой Софии, нашей Заступницы… И наш Великий Новгород таперя…
От волнения не договорил, умолк новгородец, тяжело дыша.
– Новгород Великий стал вотчиной у люторской земли, у Свеи! – договорил за него нарочито громко и внятно Порошин. – Слыхали!.. Да, слыхали мы и это. А вора-то царя у вас, слышь, нету!.. И в голове царя-то нет, как видно, у москвичей, у всего люду православного, российского! – вызывающе заключил свою речь есаул.
– Ты, слышь, усатый боров, хохол чубатый! Ты к чему это про вора, про царя нам гвоздишь, который раз!.. – сердито заговорил из толпы благообразный пожилой торговец, стоящий особняком с кучкой молодежи, очевидно его подручных или родственников.
– Ты зачем душу нам бередишь своей докукой да расспросом! – настойчиво, властно продолжал он, обращаясь к Порошину. – Помочь-то можешь ли! А! Сказывай, смутьян донской, окаянный!.. Неча подковыривать без толку. Помочь-то чем беде, знаешь ли?
– Помочь! Я – нешто Господь Бог!.. С Ево помогой – сам кажный пусть себе и помогает, как и чем знает! – ответил Порошин, сбавляя тон перед сверкающим взглядом и властной речью неожиданного противника.
– Вот то-то и оно: сам себе кажный!.. Да с Божьей помощью!.. Энто так. И мы на том с тобой сошлися… Мы так же мыслим… А я уж полагал, – и вовсе ты злодей, земли родной предатель, слуга разбойничий калуцкого царька!..
– Мы-ста… да мы-ста!.. А хто же это «мы», скажи, пожалуй! – задорно спросил Порошин, недовольный своей невольною уступчивостью перед каким-то торгашом.
– Мы хто?.. Нижегородцы!.. Вон тезки новгородцев, почитай, да малость поумнее. Не охаем, не вешаем башки! К себе на помочь царька не просим воровского, чтобы нас в кучу собирать… Как толковал речистый энтот дядя с усами да с хохлом, донец чубатый… Вот мы хто! Мы – сами по себе…
– Угу! – откликнулся Порошин. – Так, стало быть, коли у вас на печи тепло да баба толстая лежит под боком, – так пропадай вся пропадом земля!..
– Н-ну!.. Энто ты… послушай… не моги! – Сжимая кулаки, сдвигая брови, двинулся с угрозой здоровяк-нижегородец на глумливого есаула.
– Потише! Не ерепенься, дядя! – остановил его стрелец-торговец, стоящий рядом. – Обиды нету никакой покуда для тебя. Словами начал спор, так што уж с кулаками лезть на драку. Не пристало. Тебе вопрос дают, – давай ответ, как оно водится.
– Верно! – подал голос торгаш-рыбник, Федька Белозерец, от которого далеко несло запахом свежей и соленой рыбы. – Пускай он и казак, а правда чуется мне в его речах… Кой-што уж я смекаю… Не знаю дотошно, к чему он всю речь поведет… А вижу: тянет он из нас по словечку правду, словно масло на воду… Тесно нам стало, облегла печаль всю землю, не то штобы один край али область… А мы друг с дружкою еще сцепиться рады… ровно псы голодные али волки лютые из-за волчихи в течку ихнюю, в вешнюю… Право! Неладно это, што и говорить… Вот я который год езжаю на Москву из Белозерья… А ни у нас, ни здеся доселева такой нужды, докуки и печали не слыхивал, не видывал, как в энти злые годы!.. Здеся, на Москве – еще вам с полгоря. А погляди по иным местам, по городкам, по селам… Волки, лисицы бродят по опустелым домам, по жилью людскому. Вороны хищные слетаются из лесов на груды мертвых тел, что гниют повсюду, на дорогах, на площадях городских… Люди зверьми стали: подстерегает один другого, чтобы убить, ограбить… А то и жрут друг друга с голодухи-то!.. Матери детей губят, чтобы те муки меньше узнали! А ляхи за нашими гоняются, кто от них убегает, добро прячет, за теми враги злых псов спускают, словно на волков алибо на кабанов, – на людей хрещеных! Прямое лихолетье, не зря и названо!.. Смутилась Русь. Ей, матушке, не сладко… А нам, сиротам бедным, маломочным, и прямо помирать без покаянья – одно осталось!.. А мы еще…
– А вы к себе Литву зовете, ляхов! – завел опять свое Порошин. – Посольство шлете, бояр первейших, вящших… Чуть не полсобора Земского, который, еще нет трех недель, кончился у вас… Четыреста людей знатнейших, служилых, воевод, митрополита Ростовского с попами, дьяков умнейших думных, всю царства знать, красу посольством отрядили!.. Куды?.. Сказать то даже срам!.. Челом до земли бить Жигимонту, мол: «Приди, володей землею и нами!.. Обороти нас в латинскую ересь… Попов сгони, нам насажай ксендзов… жен наших, дочерей возьми на поруганье… Последнюю рухлядишку отбери, как повсюду отбирал доселе у православных, где только твоя власть да сила была!..» Што! Аль не так… Молчите?.. То-то!.. Нету вора-царька у вас, да есть зато бояре лукавые, заведомые воры!.. Они уж много лет всю землю продают да предают кому ни попадя!.. Из Тушина перелетывали на Москву, царю вашему, Василью Шуйскому лизали… руки, покуль до смерти ево не укусили, постригли силой!.. А лучче ль стало и потом! Ничуть не лучче!.. Ворохами «цари» явились. Што ни боярин захудалый, что ни подьячий – вор, мздоимец, мшелоимец, не то что «царик» наш, – и тот орет на всех на вас: «Я – есмь твой господин, и Бог, и царь!..» Не так?.. Аль правду молвлю?.. – обводя толпу взглядом, кинул вопрос Порошин.
– Пока все так… Не прилыгаешь много! – среди общего угрюмого молчания отозвался Кропоткин.
– И вовсе не лгу! Чай, крест на шее висит и у меня!.. Чай, землю я жалею свою, донскую… вашу… всю как есть! Одна земля, как мы – едино стадо… Учился в бурсе в киевской и я, не мало годов тому назад… Не забыл Писанье… Нам пастыря единого бы надо… А пастыря и нету!.. И без нево – беда! Так оно и выходит: пущай хота и «вор», да будет он один покуда… А там… Что Бог пошлет. Стеною взяться надо, заодно. Тогда врага прогнать легко нам будет. Называть начнем, много их, врагов наших!.. И ляхи, и люторы, и свея, и своя вольница понизовая… А сочти, так нас – куды-ы больше, чем их… Одолеем всех, только бы разом, дружно за дело приняться! А у нашего «царька»… пущай по-вашему будет, мы его пока «царьком» повеличаем!.. Царевич есть у него, еще дите малое, безвинное. Он на Руси родился, на наших очах. Крещеный, растет среди люду православного на святой Руси… Авось ему Господь пошлет удачу, и станет он как прирожденный царь! Земля помаленьку оправится от грозы, от лихолетья… А тамо?.. Што наперед загадывать! Теперь у всех одна забота: избыть беду великую, разруху земскую! И никто не знает, как за дело взяться… Вот и надо, братцы мои…
– Подожди маленько! – перебил есаула Кропоткин. – Слушал я тебя, никак и разобрать не мог: што ты есть за птица? Сам от себя тут бобы разводишь, али «царек» подослал тебя… Как всюду теперь люди подкупные шатаются, народ простой на свою руку тянут, речами разум отымают!.. И не понять сразу: от Бога ты али?..
– От черта! – добродушно усмехаясь, докончил сам есаул. – Ничаво, толкуй как хочешь. Я не в обиде, господин честной.
– Я обижать и не мыслю. Сдается, ты душа прямая, русская… Только глядишь, приятель, вовсе не туды, куды бы надо…
– Поверни, наставь, господин. Я хоша и грузен, да все же не костылями к земле пригвожден, как был Христос Спаситель Наш на Древе на Святом… Как распята теперь мать-земля православная!..
– Все так, все так! К тому и речь веду! – продолжал Кропоткин. – «Не пропал понапрасну мой день!» – так скажу себе, коли мы с тобою поразумеем друг друга, казак мозговитый… Не беда, што на торгу ненароком мы с тобою повстречались, а в другой раз, може, на Страшном Суде свидимся, коли Господь повелит!..
– Угу!.. Вон ты какой… Ну, слушаю… толкуй свое…
И Порошин даже наклонил слегка голову, готовясь слушать Кропоткина. Насторожилась и толпа, почуяв что-то особенное в тоне собеседников.
– Скажу сперва про дело ближнее. Хоша Великое посольство и снаряжено челом бить крулю Жигимонту, послал бы Владислава на Москву, на царство… Да мне, как и другим, меня и поумнее, и позначнее, – то залегло на уме: не велика будет корысть короне польской от зову нашего… Хотя бы и пришел к Москве Владислав. Ты слыхал ли, дядя? – как звать, не знаю…
– Федькой Порошиным дразнили издавна. Лет десять в есаулах…
– Ну, вот, пан есаул Порошин, слыхал ли ты: на чем стоять приказано посольству, ай нет?..
– Так… краем уха слышал…
– Обоими послушай, – я скажу тебе по всем статьям!
И, загибая пальцы, Кропоткин начал с расстановкой:
– Речь первая: обязан царь Владислав блюсти в земле Московской и в иных царствах и областях российских обычаи старинные. Владеть землей по старине, храня законы и веру православную нерушимо!..
Оба дьяка, Елизаров и Грамматин, взобравшиеся теперь на груду бревен, чтобы лучше видеть и слышать, словно по уговору вынули из глубоких карманов своих однорядок по листу, исписанному четкими строками, и стали глядеть в них, словно проверяя: верно ли говорит Кропоткин? А тот между тем продолжал свое:
– Вторая речь: прибыть к Москве немедля должен крулевич. Тута патриарх его окрестит, штобы и не пахло от него ляхом… И тогда уж венчать на царство станет по древнему обычаю. На третье: суд и право должен царь давать по старине. Менять законы дозволено не ему, не новому царю, а всей боярской думе с собором Земским сообща, никак не иначе. Потом, все дани, пошлины, вся подань по-старому идет, без прибавленья. Без думы царь менять того не может али прибавить на душу противу прежнего!..
– Вот это так! Умно, коли бы этак стало дело! – загудели кругом довольные голоса, особенно торговых людей.
– Войну ли зачинать, мир ли писать, то на волю думы и царя, – продолжал высчитывать на память Кропоткин. – Российским торговым людям – всем вольный выезд за рубеж: московским аль областным, все едино. А для гостей для иноземных – по-старому въезд сюды ничуть не легше… Да казнить бояр либо служилых людей без думы новый царь Владислав никак не волен. А награждать да возвышать по заслуге, а не своим произволом либо хотеньем царским, как дума и правители укажут, глядя тамо: кто чего заслужил?..
– Ого!.. По-новому дело, гляди! – разнесся говор в толпе, все нарастающей вокруг. – У нас раней ничего такого и не бывало на Руси!
– Дак и царей с Литвы же не бывало, гляди, у нас доселе! Надо на первых порах поостеречь малость и землю, и себя, штобы за спиною сыночка старый круль-отец нас к лапам не прибрал.
– Ну, стой, государь мой милосливый… как звать-величать тебя – не ведаю, – заговорил с бревен дьяк Елизаров. – Это ты малость маху дал и народ с толку сбиваешь, можа, и не по своей воле… по незнанию. Были эти речи, как ты сказывал, в первом договоре с Жигимонтом, который Тушинский патриарх, рекомый Филарет, а по-истинному, – митрополит Ростовский Жолкевскому-гетману подписать еще по весне давал. А тута, на Москве, бояре старые, князья гордые повыкинули обе речи и про вольный выезд, и про награду по выслуге. Это на руку худородным-де людям, а князьям да боярам в ущерб. Вот они и постарались… Земский собор тоже по-ихнему постановил… вестимо, и собор такой «боярский» больше был он, а не Земский…
Ропот недовольства пробежал по толпе. Тогда подал голос дьяк Грамматин.
– Не смущайтеся, люди православные! Не все оно так, как тута вам сказано. Верно, выкинуты две речи. Да собор и бояре не зря их захерили. Не на пользу они Земле, а на вред и на смуту. Главное осталось: новый царь Владислав без Земской думы да без бояров и шагу ступить не может… А бояре дело свое знают, потачки не дадут, ни крошки не уступят своего полякам!..
– И, куды! – загудели голоса. – Бояре кому уступят ли!
– Себе самим, чай, сколь надо!.. Где давать другому!..
– Самим, гляди, не хватит, их только к делу припусти!.. Все «сберегут», да, слышь, не для народа, а для себя!..
– Ништо! Пускай бы, лих, не ляхам досталося!..
– Хоша толсто брюхо боярское, ныне пуще разопреть у живоглотов. Лопаться, гляди, станет!.. То-то любо… Мы поглядим! – весело выкрикнул стрелецкий голова Оничков.
– Дай дело договорить, – огрызнулся на него Порошин и снова обратился к Кропоткину.
– Н-ну… а хрестьянам как?.. Кабальным да иным людишкам черным и тяглым какие выйдут новые вольготы да права от вашего Владислава, не слыхать ли? Уж больно всем малым людишкам ноне тяжело, невмоготу стало. Полегше все ждут и просят. Как же им буде, сказывай! Не слыхал ли?
– Как не слыхать! Все будет… как и встарь бывало. Али, сказать вернее, как Годунов Бориска повершил, воссев на царство. Пахарям уходить за рубеж невольно из земли. А польским холопам – к нам, сюды нету ходу. Каждый у себя тяни тягло… И вольный Юрьев день останется порушен, как и при Борисе стало. Штоб вовсе не было его, дня Юрьева… Штобы люди тяглые, пахари сидели на земле крепко, на веки вечные!.. Штоб не шатались хлеборобы по всем концам…