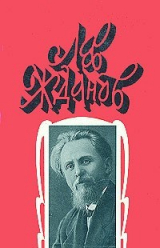
Текст книги "Том 2. Русь на переломе. Отрок-властелин. Венчанные затворницы"
Автор книги: Лев Жданов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
У самого патриарха с ближними к нему людьми о том же толки шли. Все почти доносилось ко владыке, что на Москве творится. Он выслушивал, покачивая своей седой головой, и повторял:
– Да буди воля Божья. Как Он сотворит, так и добро будет… Он – старый Хозяин земли русской… Ево святая воля. А нам – уповать подобает…
Наступило утро 29 января 1676 года.
Матвеев еще до зари был уже во дворце, на верху, вызвал царицу, которая не покидала больного, и, потолковав с ней и с врачом немного, так же тихо-тихо пробрался в царскую опочивальню, слабо озаренную всю ночь.
Хотя Алексей, пылая огнем, лежал словно в полузабытьи, Гаден успокаивал их невнятным шепотом:
– И што ж такое, што жар?.. Такая болезнь. Разве бывает какая простудная хворь без жару?.. Все пройдет. Вот проснется государь, я ему дам питье одно хорошее… Он и совсем успокоится… Разве ж я первый день лечу государя, ага?..
– Ладно, може, и правду ты говоришь, – со вздохом отозвался Матвеев.
– Господи, спаси, исцели государя, – шептала Наталья. – Всех бедных на Москве оделю, вклады великие сотворю на храмы, на обители… Боже, дай милости… Исцели болящего… С колен не подымаясь, все святыни обойду… Господи, самое дорогое, што есть, – отдам на престол Твой… Помоги ему, Господи…
Сохли у нее от волнения губы, и лепет затихал, только глаза не отрывались от икон.
Так перед ними, прислонясь головой к скамье, не поднявшись с колен, и задремала Наталья.
Матвеев и врач не стали ее тревожить.
Врач ушел готовить свое питье. Матвеев, выслав очередного спальника, чтобы и тому дать передышку от ночного дежурства, откинулся головой на спинку кресла, в котором сидел, и против воли скоро задремал, но тревожным, чутким сном.
Так в тишине прошло около часу или двух…
За окнами стало светать. Но сюда не проходили лучи рассвета. Окна были плотно занавешены и закрыты.
– Пи-ить, – вдруг прозвучало едва слышно из того конца покоя, где стояло ложе царя.
Наталья и Матвеев сразу очутились на ногах и быстро подошли к больному.
– Што изволил сказать, государь?..
– Легше ли тебе, родимый мой, светик… Чево желаешь, скажи?..
Оба эти вопроса прозвучали в один раз. Узнав жену и Артамона, Алексей сделал слабую попытку улыбнуться им обоим.
– Со мной… вы… тута… Добро… Пи-ить…
– Пить государю. А я ж несу, вот, в самый раз, – раздался голос Гадена, словно сторожившего за дверью этой минуты.
Бережно держа в руках причудливый флакон венецианской работы, наполненный питьем, он подошел к столику у постели больного, взял небольшой кубок, налил в него питья, отлил из кубка себе на ладонь, так что видели все, и Наталья с Матвеевым, и спальник, вошедший вместе с врачом.
Эту пробу из ладони Гаден проглотил в доказательство, что питье – не ядовито и в нем нет «наговора».
Матвеев принял кубок, подал его Алексею. Видя, что больному трудно держать в руках что-нибудь, он поднес питье к губам царя, которому Наталья поддерживала голову.
Сделав несколько глотков, Алексей оторвался от краев кубка и снова опустился головой на подушки.
Матвеев вылил остатки питья себе на ладонь и так же, чтобы все видели, выпил их.
Наступило полное молчание. Только хрипло, тяжело Дышал больной, полузакрывши глаза.
Через несколько минут питье, очевидно, стало действовать.
Мертвенно-бледное, землистого какого-то оттенка, лицо Алексея немного оживилось, словно бы кровь заиграла под сухой, воспаленной кожей.
Он провел языком по запекшимся губам и увлажнил их немного. Дыхание стало ровнее, не так хрипло и тяжело.
– Спаси тя, Боже, Данилко… Знаешь ты… свое дело… Ишь, с разу с единаво, легше мне стало… Ох, и от груди отвалило… А я уж мыслил: конец… Ништо… Всем – свой черед… Видно, и мне… Полно, Наташа… Помни о сыне… Не убивайся так… Подь сюды… И вы… Сон я нынче какой видел… Вот, Данилко… Ты все знаешь… Растолкуй… – Он замолк, чтобы передохнуть после долгой речи.
Царица и все, бывшие в спальне, окружили кровать. Наталья присела на самое ложе, в ногах царя.
Голова больного лежала на высоко взбитой подушке, и он заговорил медленно, но внятно, без особого напряжения:
– Неспроста тот сон. Вещий. Вот и по сей час – перед очами все стоит, што во снях привиделося… На площади, вот, я стою. Не то меня родитель покойный, не то я сам Федю нарекаю, вот, как год назад оно было… Иду я в облачении царском, в бармах, в венце Мономашьем… Бояре, Дума кругом, народ… Черно по всей кремлевской площади от народу… А под ногами у меня – не то ковры и дорожки бархатные разостланы, не то живые цветы цветут… От духу ихняво – голова кружится. Иду – и думаю: вот, сыну царство сдам, сам на охоту поеду. И, словно бы Новогодье, осень такая ясная…[16]16
До Петра Новогодье справлялось 1 сентября.
[Закрыть] День – красный. Самая охочая пора… И – на полпути покинул я тово, с кем был, сам словно на коня всел. Сокол у меня, мой Забой удалой, на рукавице…
Алексей, вспомнив о любимой своей соколиной охоте, еще больше оживился.
Даже глаза, блестевшие до тех пор тусклым светом, загорелись живее.
– И вот, скачу я уж с ним по полю, вдоль Москвы-реки. Место – знакомое… Ловы – богатые… Взмыла цапля. За ней взмыл мой Забой… Она от ево, на угонки… Куды… Грудью бьет ее сокол… Глядь, а из цапли – коршун матерой оборотился, не то иная птица злобная, и ну Забоя рвать… Не стерпело мое сердце… Я с коня в высь рвуся, словно бы сам туды кинулся на помочь… И – чудо явилося…
– Чудо, – невольно повторила Наталья, захваченная словами мужа.
– Ну, вестимо, как во сне бывает… Легкой я стал… В высь, вот, словно птица, лечу.
А уж ни сокола, ни ворога ево нету… Чистая высь… И я, как на крыльях, несуся. И глянул сверху туды, где площадь, где нареканье шло… Вижу… так вот, ровно вас: не один тамо царевич… Много их… Все один на другова не походят… Только все в наряде царском в нашем родовом… Цепью золотой всю площадь перерезали, из Кремля, с верхов – в Архангельский собор так и идут… так и идут…
И народу – черно кругом. Уж и площадь залило. До Москвы-реки народ… За Москву… Куды ни глянь – без конца народ… Шапками машут, славу кричат… Ровно рокот али дальний гром те клики ко мне, в высь-то доносятся…
Алексей остановился передохнуть…
– Какой дивный сон, – негромко отозвался Матвеев.
– Стой, не все еще… Гляжу я, а сам – вот словно стою на воздухе. И не оглядываюсь я, а чую, стоит еще некто у меня за плечом… Да не один, а много их. Тянет меня оглянуться – и боязно. Ровно што страшное там, чево краше и не видеть. И штобы не томить себя, я уж собрался вниз, к земле ринутися… Снова туды. А слышу ровно бы родителя покойного голос: «Алеша, чево робеешь. Оглянися. Мы здеся…» Глянул я – и впрямь батюшка стоит. Да не один… И Иван Василич царь тута с сыном Федором… И Василь Иваныч… И все иные, хто на Москве да на Руси правил… Володимер-князь… И Ольга… Все Рюриковичи. И сам он тута. Высокой, хмурой, усы срои гладит… И сызнова говорит мне батюшка: «Слышь, Алеша, собралися мы встречати тебя… А ранней ты все же к им, туды вернешься. К роду нашему. Так скажи: лучче бы землей володели. От нас брали бы все, что получче. Нам уж наших грехов не поправить. Они бы хоша замолили все… Ступай с Господом да ворочайся поживей…».
Сказал – и ровно крестом осенил меня. Я – разом единым книзу, ровно камень пал. Дух заняло. Крикнуть хочу – не могу… Лечу, вот-вот разобьюся о землю… А голосу крикнуть – нету. Тут я и прокинулся… Вот сон мой какой нынче…
И, очевидно, совсем утомленный порывом, больной осел в подушках, призакрыл глаза, замолк.
– Дивный сон, – первый нарушая жуткое молчание, отозвался Матвеев.
– Ну, и може, государь великий мыслит, што то лихой сон? Та нет. То – добрый сон, – заговорил Гаден, на которого поднял Алексей вопрошающий взгляд. – Коли летает хто во сне – значно крепкий сон, к здоровью сон той… Вот перво дело. Другое – надо правду молвить: вещий царский сон тот, государь. Потомство свое царь видел… И все – в царских же одеждах… Вот какой хороший сон… Да посбылся бы он, пусть даст Господь… И государю – еще много лет жить и на царстве сидети… Вот моя дума какая, государь, про той сон…
– Аминь, Данилушка, – с просветленным лицом произнесла Наталья. Уверенный тон врача, его толкование сна вернули бодрость и надежду измученной женщине.
Заразили они верой очевидно и самого больного, и Матвеева.
– Аминь, аминь, – повторили оба за Натальей…
– Пожить бы, правда… Молод еще Федя. Не жаль мне себя, царства жаль. Много не налажено… Сколь много затеяно. Где ему… осилит ли парень-малолеток?.. Да и не крепок он у нас. Господи, Господи… Велика доля царская… Да и бремя не легкое… Пожить бы еще… Все бы лучче… – словно про себя проговорил Алексей.
– И поживет государь. Еще долго поживет на свете, еще и нас переживет. Што бы я сам так жил, – уверенно подтвердил Гаден. – Только берегти себя надо. Силы собирать… Морбусу тогда не одолеть государя. Он одолеет всяку хворь… Пусть я так буду счастливый… Отдыхать надо теперь государю. Речей не держать долгих… Теперь, после моего питья, если сызнова в сон ударит ево, уж не будет таких снов. Спокойно заснет мой царь милосливый… Покой надо ему.
– Уж, слышим, слышим, – с невольной досадой заговорила Наталья. – Нешто мы станем мешать… Я, слышь, Алеша, помолиться выду… И, впрямь, коли полегше тебе, соколик, надо Господу хвалу воздать… Молить Ево стану, штобы…
Она не досказала. И, видимо, делала усилия, чтобы не дать волю слезам, внезапно подступившим к горлу.
– Иди, поплачь, помолися… Вестимо, у вас, у бабья, – и радость и печаль – все слезми выходит… Помолися… Дары раздай. Уж я знаю тебя, богомольницу… Скажи тамо, Артамон, пусть выдадут царице из моей казны сколько потребно буде ей… Пусть… Иди, милая… Легше мне…
Осторожно склонилась царица к больному, коснулась губами его плеча, которое выдавалось, исхудалое, острое, из-под рубахи, коснулась руки, лежащей поверх одеял, и вышла из покоя вместе с Матвеевым.
Ушел и Гаден готовить новые снадобья для больного царя.
Очередной спальник, по приказанию больного, раскрыл «Златоуст» [17]17
Назидательная книга с поучениями на каждый день.
[Закрыть] и стал читать негромким, монотонным голосом.
Алексей сначала слушал, полузакрыв глаза, потом снова задремал.
Спальник заметил это и, постепенно понижая голос, перестал читать.
Снова глубокая тишина настала в опочивальне.
На половине царицы жизнь уже шла полным ходом. Кипела обычная работа в мастерских и девичьих, готовили на поварне и в людской избе. В домовой церкви ее, Екатерины Великомученицы, что на Сенях, прошла заутреня и ранняя обедня без Натальи.
Анна Леонтьевна, Кирилло Полуэхтович, младшая сестра Натальи Авдотья, братья: Иван, Афанасий, Лев, ближние бояре и боярыни ждали царицу с вестями о здоровье Алексея, собравшись в просторной Столовой палате.
Сюда прошла и Наталья.
– Господь милости послал, – встречая дочь, проговорила Анна Леонтьевна и подала ей просфору, вынутую за здравие царя и царицы.
– Легше дал Господь царю-государю нашему, – повестил всем от имени царицы-дочери Кирилле Нарышкин, выслушав несколько слов от Натальи.
– Слава те, Спасу Милостивому!.. Подай, Господи! – откликнулись все на эту радостную весть, широко осеняя себя крестом.
– Молитесь о здравии государя, – сама проговорила Наталья, принимая общие поклоны.
По приглашению царицы отец с матерью, сестра; братья и несколько более близких и родственных боярынь и бояр с дьяком Брянчаниновым прошли за Натальей во внутренние покои терема.
Здесь царица подробно передала все, что видела и слышала у больного мужа.
Сон Алексея произвел впечатление на наивных, суеверных слушателей.
– Помрет, гляди, помрет скоро сокол наш, – шамкая, решительно заявила старая нянька Натальи, Кузьминишна.
Но Анна Леонтьевна так поглядела на бестолковую старуху, что та съежилась и отошла подальше в угол.
– Врет старая. Што она разумеет? – вмешался Нарышкин, видя, как сразу омрачилось лицо царицы-дочери. – Поживет еще с нами солнышко наше красное… Сама же, доченька, сказываешь: легше ему… И лекарь вон толкует, да не один… Других он звал… С чево помирать свету государю нашему? Не перестарок… не хворый какой… Оздоровеет. Слышь, и во сне покойный родитель молвил же царю: «Тебе еще наземь вернутися надо»… Вот, и поживет…
– Поживет, вестимо… А то – и моя какая жизнь будет?.. И Петруша наш… Што мы без нево?.. Как нам быть?! – с глубокой тоской, которую давно таила в душе, проговорила Наталья, горячо прижимая к груди сына, успевшего взобраться на колени к матери.
Плохо понимая, что творится кругом, ребенок стал ласково гладить мать по волосам, по лицу, настойчиво повторяя:
– Мамушка, не плачь. Не дам тебя в обиду. Слышь, матушка, скажи: хто обидел? Я тяте скажу… Сам голову срублю… Вот… видишь?!.
И мальчик схватился за рукоятку игрушечной сабли, подаренной ему московскими торговыми людьми в день его ангела.
– Ладно… Зарубишь, вестимо. Не плачу я… Поди, играй, – спуская сына с колен, сказала Наталья и обратилась к отцу:
– Слышь, батюшка, пообещала я, коли полегше буде государю, самой святыни обойти, а в иные – на молебны послать на заздравные. Возьми там казны у боярыни-казначеи… Вот, и он с тобой… – указала на Брянчанинова царица, – тоже пускай едет… К Николе-Мученику, знаешь, где бывал уж, за Яузой.
– На Вшивой Горке, – знамо, к нему, государыня-доченька… В сей час поеду. А еще куды, не скажешь ли?
– Куды?.. Да, много надобно… Всюды надо! Пусть молят Господа святые заступники… Вон, брата пошли, Ваню – к черным попам, в Вознесенскую обитель, к Спасу Нерукотворенному… Скоропомощник он… Мы тута с матушкой у Онуфрия-Великомученика помолимся, от скорой смерти избавителя… Близко, на Сенях тута. А тамо и посоветуем с матушкой да с теткой: куды еще… Весь день ныне ни пить, ни есть не стану… Буду молить Господа и Матерь Божию и угодников святых… Авось услышат молитву мою горячую… Авось… Поезжай, батюшко, не трать часу… А Афоня пускай в Рубцово-Покровское съездит в село, к Покрову[18]18
Теперь – улица Покровская, старинная вотчина Романовых.
[Закрыть]… Много мне помощи было от той Святыни. А еще ково – ко Спасу на Бору надо спосылать… Ишь, родителя видел покойного государь мой во сне… А тамо – и склеп ихний, родовой, Романовых… Надо за упокой помянуть… Да еще бы в Китай-город к Николе… Да на Арбат, к нему же, к Чудотворцу… Нет, туды сама я… Помолю Явленнова-то… Да к Василию Блаженному надо бы, коли поспеем… А к Троице – пешком пойду сама… Только бы оздоровел государь! Да… Уж мы там с матушкой потолкуем, посоветуем… Езжай с Богом, батюшка… Братов посылай и еще тамо ково… Казны возьмите… Не жалейте… А мы уж тут…
– К Христофору – Песья голова надо бы, государыня-сестрица, – нерешительно заметила Авдотья Нарышкина, желая прийти на помощь растерявшейся сестре.
– Молчи, егоза, – цыкнула на нее мать. – Нешто государыне-царице жениха себе вымаливать надо? Энто уж ты бегай ко Христофору, поклоны бей, в девках не просидеть бы… Без тебя разберем, што да как! Поезжай с Господом, старый… Видишь, государыне-доченьке не терпится. Успокойся, доченька… Мигом все поисполним… Услышит Господь молитвы наши грешные.
– И то не стою, старая. Ты уж сама помолчи, – отозвался Нарышкин. – Ну, кум, идем, – обратился он к Брянчанинову. – И ты, Ваня и Афоня… Едем… Казны возьмем. А коней и не распрягали. Готовы возки стоят. Все святыни объездим… Спокойна будь, государыня моя, доченька, Наташенька милая… Храни тебя, Пречистая Матерь…
И, низко поклонившись царице-дочери, Нарышкин вышел с сыновьями и Брянчаниновым.
– Да, матушка, в Ивановску обитель не забыть бы; да в Чудовску… Да… Господи, и память отшибает у меня… Хочу сказать – сама не знаю, о чем?.. Ровно бы разума не стает во мне… Уж больно я натерпелась да намаялась… При ем, при Алеше, при государе – молчу, терплю… Вот – и не стерпеть теперя, так тяжко мне… Ох, матушка, уж не оставь ты меня!.. Сестрица, Овдотьюшка…
И снова Наталья залилась слезами.
– Да буде, Наташенька… Доченька моя… буде… Бог не без милости… Помолим Ево. Рабам последним Он милости посылает Свои… Неужто ж отринет твое моленье чистое?.. Слышь, надоть бы водицы святой да просвирки от Псковских чудотворцев поднести государю… Куды помогает хорошо ото всех недугов святыня та… Дело уж ведомое, государыня-доченька, не раз испытанное…
– Послано уж, матушка. Нынче-завтра вернется посланный, привезет. Ровно на грех, нету ни воды той, ни просфоры. А бывала всегда… Вон, Наташеньке недужилось как-то, ей и дадено… Помогло… Привезут, дам государю… Все дам… Крови бы из груди из моей рада источить ему, помогло бы только… Господи, Господи!.. Матушка, снаряжать поезд вели… Едем!..
– Ладно, доченька… Слышь, може, дождалась бы темени?.. Сама знаешь: царица днем да без государя словно и не ездит по Москве… Не бывало тово… Все больше по ночам, сама знаешь… И на богомолье и в переезды. Не след, штобы всякий глазел на поезд на твой на царский и на тебя… Не укроешься так уж от людей-то…
– И не надо… Старое то дело… Мы, вон, с государем, почитай, на виду у всех по Москве езживали… Так, на забаву смотреть, на послов иноземных… А ныне, на дело на такое, на великое… Да вот, што ты скажешь, боярин, – обратилась она к Матвееву, сидевшему все время в раздумье: – Выехать ли мне засветло али ночи ждать, истомить себя, измучати?..
– Ну, о чем толковать? Как повелишь, так и выедем. Пора уж и кидать старые свычаи, не то теремные, как их кличут, а татарские, колодничьи… Царицу ль народу не видать? Пускай видят! Любить боле станут…
– Слышь… Снаряжай же поезд сам, боярин… Да скорее, прошу…
– Я не замешкаю. Ты не кручинься, государыня Наташенька… Да поешь малость… Так и выедем из Кремля, часу не минет… Я сам все… скоренько… А слышь, мне с тобой ли ехать али поотдохнуть позволишь? Пусть бы боярин Лопухин да Матюшкин, да Прозоровский князь… Да петровцев моих я в охрану пошлю. Оно и крепко будет. А я уж больно заморился, второй день без сну…
– Ладно, как знаешь, боярин. Скорей бы оно лих…
– Говорю: часу не пройдет, в колымагу усажу тебя, государыня-матушка ты моя…
И Матвеев поспешно вышел из покоя.
Боярин точно сдержал обещание.
Наталья по настоянию матери с сестрой и невестки Прасковьи, жены Ивана Нарышкина, только успела перекусить немного, переменила домашнее платье на выездное, как уже явился: с докладом Матвеев, что все готово, и сам усадил царицу в большой зимний возок, в «избушку», запряженную двенадцатью санниками белой масти. В ту же огромную колымагу уселись: Анна Леонтьевна, Авдотья Кирилловна, невестка Прасковья Алексеевна; тетка царицы, жена Федора Полуэхтовича, Авдотья Петровна, боярыня-казначея Матрена Блохина и еще несколько мам и «верховых» боярынь, на попечении которых находились взятые матерью царевичи: Петр, Иван, царевны младшие немаленькая Наталья с кормилицей.
Сестры царя и старшие царевны остались в терему, как и Федор.
Обыкновенно и он зачастую провожал мачеху в ее поездках по монастырям и по святыням. Но сегодня царицу повестили, что «старшой царевич недужен малость», и выезд состоялся без него.
Так как монастыри и храмы, в которых хотела по молиться Наталья, были «за городом», то есть за стенами Кремля, – впереди поезда шел Стремянный стрелецкий полк Матвеева, петровские стрельцы в своих зеленых кафтанах.
По бокам колымаги, как и за нею, ехали верховые бояре, потом тянулись другие возки со свитой царицы. Ехала боярыня-кравчая, еще кой-кто из приближенных лиц; ехали верхом первый боярин и дворецкий Натальи Лопухин, стольник Иван Матюшкин, окольничий Иван Федорович Стрешнев и Тихон, брат его, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и острый язык.
Впереди колымаги ехали еще верхом, по-мужски двадцать четыре красивые, рослые «дворовые женки», амазонки царицы, из комнатной прислуги. На голове у них были особые белые шляпы с полями, подбитые тафтою телесного цвета. Желтые широкие шелковые ленты ниспадали со шляп на самые плечи и были унизаны золотыми пуговками, жемчугом, украшены золотыми кистями. Спереди – короткая белая фата закрывала лицо до подбородка. Длинные широкие шубки и желтые сапоги довершали наряд. Этот женский отряд Москва, очевидно, заимствовала еще у Золотой Орды, где султанши имели каждая своих амазонок.
Разные дьяки, стольники и дядьки царевича Ивана – все, словом, кто дежурил на верху у царицы в этот день, – дополняли свиту, верхами или в возках, смотря по возрасту и удали или глядя по чину.
Поезд растянулся на довольно большое пространство, хотя и не достигал тех размеров, до каких доходили парадные, большие выезды царя и царицы.
Стоя у оконца своей горницы, откуда виден был выезд царицы, Анна Хитрово даже перекрестилась трижды широким, истовым крестом.
– Слава Те, Спасу Многомилостивому! Сама змея с дороги уползла. Теперя – легше буде дело все повершити…
Спустя час или полтора в ее покое собрались все главные участники в задуманном деле: оба Хитрово, дядя Богдан Матвеевич и племянник Александр Севастьянович, оба Толстых, Василий Семенович Волынский, думный дьяк Титов, как лицо, необходимое для составления важного акта; явился и духовник царя Благовещенский протопоп Андрей Саввинович, упитанный, неподвижный, неуклюжий с виду, но жадный на деньгу, ловкий, покладливый старик. Враждуя с патриархом, он пристал к врагам Нарышкиных, надеясь добиться особой силы при новом царе.
Когда пришли звать Федора к старухе Хитрой по важному делу, у царевича сидела Софья, князь Василий Голицын и стольник Иван Максимович Языков, судья дворцовых приказов.
Зная влияние умной, властолюбивой царевны на ее нерешительного брата, зная непримиримую ненависть девушки к молодой мачехе и всему нарышкинскому роду, и ее позвали на совещание, также как и Голицына с Языковым.
Царевна скромно уселась поодаль, почти в углу, за спиной брата и Анны Петровны, расположившихся в широких креслах. Остальные гости-соумышленники разместились на скамьях, на стульях, как попало.
Почти впереди всех уселся поближе к царевичу тщеславный, глупый, но наглый и пронырливый Василий Волынский, успевший составить себе положение на верху не столько благодаря личным заслугам, сколько работами золотошвейных мастериц, которых в большом количестве собирала отовсюду жена Волынского. И чудные вышивки золотом, серебром и шелками, приносимые в дар царской семье и важным боярам, а то и выполняемые за деньги, вызывали расположение к Волынскому со стороны нужных людей…
Боярин, князь Иван Андреевич Хованский из Стрелецкого приказа, голова полка стрельцов, которые в этот день охраняли все посты в Кремле, и еще несколько стрелецких голов и полуголов, известных своею преданностью старым порядкам и царевичу Федору, были тоже позваны. Но, кроме Хованского, остальные стрельцы не решались сесть и стояли небольшой кучкой у окна, выделяясь на темном фоне стены своими цветными кафтанами, блестящим вооружением и желтыми сапогами. Сам князь Хованский давно был известен как ярый «аввакумовец», противник «никоновцев» и Матвеева.
– Пошто так надобен я стал, матушка? – обратился царевич к старухе Хитрой.
Голос его, и вообще слабый, звучал сейчас совсем глухо. Он был бледен, чувствовал себя и на самом деле очень плохо; но не мог отказать Хитрой, которой, по старой памяти, словно побаивался немного.
Когда старуха, поминутно отирая слезы, возводя глаза к иконам и вздыхая, объяснила ему, что придется делать, – Федор и руками замахал.
– Што ты, што ты, матушка… Да нешто можно?! Грех-то какой великий. Може, государь-батюшко совсем инако мыслит, а я приду с людьми, нудить стану, волю бы свою он поиначил. Как тебе и в голову запало, матушка? Нешто сама ты испокон веку не учила меня: батюшку бы слушал, матушку бы не ослушался. А ныне ишь што…
– А што? Какой грех? Была бы жива матушка твоя, и не пришлось бы мне, старухе, тебя на ум наставлять. Сама бы все повершила. И греха тут нету. Не ты, что ли, старший сын, всему царству, всему отцову наследью – единый господин?.. А тут мачеха худородная, прости, Господи, земщина у тея все поотняти тщится для сынка для свово, для Петеньки… А знаешь ли ты…
Но тут старуха, чувствуя, что может наговорить лишнего, сразу приостановилась и обратилась к протопопу Василию:
– Слышь, про што толкует царевич: грех!.. А, подумай: гре-е-х?.. Ах ты, Спасе Милостивый… Мое дело тебе бы, царевич, дитятко ты мое милое, добро было… А про грех – вот он пусть…
– М-да, – протяжным, густым голосом заговорил протопоп Василий, к которому обращены были теперь взоры Феодора и всех присутствующих. – Не токма што свово искати, и боле тово – греха не бывает, ежели оно по слову Божию… Сказано бо есть: «Кто многое имеет – тому еще дано будет и приумножится; а кто мало имеет, у того отнимется и то, што имеет». Тако рече Писание. А в книге Бытия не поведано ли, как произволением Божиим Иаков-Израиль отня первородство у брата Исава за похлебку за красную, чечевичную… И благословение отцово отня у Исава же, яко мать ево, Рахиль сотворила. И греха не было. Ибо – так Господь желал. Ты же, царевич, первородство не продати ли желаешь?.. Али не за своим благословением пойдешь к одру болезни отца своего, царя-государя? Помысли и не кори ветхой деньми, рачительницы своей, болярыни, коя родительницу заменила тебе… И царство зовет тебя, и все бояре, синклиты, и духовенство… Народ весь, вся земля тебя зовут, да пожить бы снова в древлем благочестии, тихо, благостно, почестно, како деды да прадеды жили… Рано нам новины разны на Руси заводити. А молодая царица-правительница при сыне, при малолетнем царе, ежли бы Петра-царевича благословил на царство родитель… Нешто сам понять не можешь, царевич, што буде от сего?.. Не ребенок уж ты… Во, без мала пятнадцать годков тобе… И сам царь тебя же объявлял, год тому минуло… Чево же думать? Кой тут грех? За своим пойдешь!.. Свое и найдешь, слышь.
– Оно так… Вестимо, все так, отец протопоп, как ты сказываешь, – поспешно заговорил царевич. – Нарек меня государь… Я – старшой. Мне он и завещает царство. И земли я тревожить не стану. По-старому буду царить… Пошто же теперь хворого родителя нудить?.. Он и разгневаться может, што докучаю я ему не в пору. «Ишь, – скажет, – я не помер еще, а сын старшой дотерпеть не может… Пришел наследья просить»… Хорошо ли… А то все правда, што сказываешь, отче… Все истинно.
Сбитый с позиции, протопоп побагровел даже от усилия мысли, но, не находя, что дальше сказать, чем убедить отрока, такого сильного именно своей чистотой и наивностью, только обеими руками поглаживал с боков широкую бороду и негромко посапывал.
Заговорил Богдан Хитрово.
Зная мягкий, нерешительный характер Федора, способного в то же время проявить сильнейшее упрямство, если очень насесть на него, боярин начал мягким и примирительным тоном, как будто бы желая остановить и образумить тех, кто говорил раньше:
– И што это вы, други мои… И ты, боярыня – тетушка моя любезная, и ты, отец Василий. Нешто можно так? Царевич и впрямь помыслит, што мы супротив государя идем, али што неладно задумали… Душенька-то у нево, ангела нашево, светла… Он до чево разумом не дойдет, духом учует… А, лих бы, и то надо прямо поведать: каки козни да подвохи с супротивной стороны идут? Вестимо, не от матушки царицы Натальи Кирилловны со младым царевичем… Нет. От Артемона, слышь, от Матвеева от боярина и всему царству замутителя… Оно, вестимо, не на государя на нашего, на царевича, на Федора Алексеевича злоба, матвеевская. Тово сказать не мочно. На нас, на рабов царевича да на присных ево – злобится той коварник. Мы-де ему и Нарышкиным дорогу заступаем… А воссияет над землей, яко солнышко, юный царь Федор – и ему конец, старому грешнику. Наша тода взяла. Вот пошто он и тянет в царенки Петра-малолетка перед старшим братом. А царица Наталья, первой в царстве ставши, никому иному, как Матвееву да Нарышкиным земли на пагубу отдаст, на поток, на разоренье… И на душе у царевича же у старшова, у тебя, свет Федор Алексеевич, то быть должно, коли земля замутится… Ежели – доживешь только до тово часу…
– Доживу?.. Да, што?.. Да нешто? – со внезапной тревогой в голосе заговорил Федор, видя, что Хитрой вдруг запнулся и умолк на полуслове.
Лукавый боярин молчал. Юноша с вопросом переводил взор с одного на другого, на всех присутствующих. Никто не решался заговорить, и среди наступившего тяжелого молчания Федор, склонив голову, бледный, уронив руки вдоль тела, сидел, глядя перед собой немигающими глазами. А острая тревога все больше и больше росла в сердце юноши, словно тисками сжимала ему больную грудь.
– Што уж тут отмалкиваться, брат-государь. Я скажу, Феденька, коли другим не охота. Не взыщи, што девичий обычай забываючи, в боярские речи вступаюсь, – неожиданно прозвучал резкий, сипловатый голос царевны Софьи: – Дело такое… Не то, лих, тебя да царства, – и всех нас касаемое… Всево гнезда Милославских. Сестер всех нас, царевен, и брата Ивана, не одново тебя… Только во услышанье не ведутся речи, а всем ведомо, што и нас всех извести задумали прихвостни нарышкинские, да матвеевцы, да никоновцы треклятые… Кабы еще рать стрелецкая не за нас, кабы от них не опаска малая, – и не было бы давно на свете всево гнезда нашево. Може, гляди, оно и лучче, што не идешь ты к государю-батюшке. Може – и не зван им, а вороги туда зовут, по пути бы извести, али и на глазах у родителя. Хворый он, што поделает… Всего мы за Лихолетье наслышались. Видно, и вновь бояре задумали на царской крови своей корысти поискать. Вот и причина, што доброхоты наши затеяли поживее тебя царем наречь… И государя-родителя хвораво надо на то привести, покуль жив. Штобы народу ведомо было: хто царь. Може, и государь-батюшка без прошения без твово наследье тебе отдаст. Так нешто вороги наши не скроют приказ царский? Поставят братца Петрушу, да не малолетка, вестимо, себя поставят в цари… Нас – по кельям спервоначалу… А там… Што с сиротами бобылиться?.. Вон што было годуновским детям, то и нам буде… А тебе, гляди, первому… Вот чево не договорил боярин, так не взыщи: я досказала, тебя, себя, всю землю жалеючи, от смуты оберегаючи. Тово ради и надоть тобе к батюшке-государю идти. Да за обороной крепкою. Не дать бы ворогам в руки здоровье твое…
Сказала и, отдав поклон брату, уселась, сдерживая сильное волнение, овладевшее девушкой от необычного поступка. Щеки Софьи пылали, глаза горели из-под опущенных ресниц.
Федор выслушал молча речь сестры. Только еще больше помертвели его щеки, еще ниже опустилась на грудь голова на тонкой, исхудалой шее.
Опять наступило молчание.
У многих заскребли кошки на душе. А что, если царевич по своей прямоте и наивности пойдет один к царю и спросит его: правда ли то, что он слышал сейчас? И испортит своим личным вмешательством весь так хорошо налаженный план…
Тогда вмешался Петр Толстой, он заговорил смело, решительно:
– Э-эх, государыня-царевна, не мимо слово молвится: девичья доля – шлык да неволя. Вон, хорошо ты удумала, как речь свою повела, а сколь опечалила царевича – света нашево… Гляди, и в тоску вогнала… Мыслит он теперя: «Дома сидеть – злу свершиться дать. Пойти на оборону роду – сызнова добром дело не покончится, свара пойдет, а, може, и до крови дело добежит… И так – грех, и инако – грех!». А еще ты молвила, может, и не зван-де царевич к родителю. То уж и не след бы сказать. Вот сам Матвеев боярыне Анне Петровне сказывал, зовет-де царевича государь… И от лекаря Данилки, либо Стефанка, как ево там, нехристя, – те же вести были… Пошто зовет, – не ведаем мы. Так думать надо: на худое родитель сына на смертном одре звать не станет. А и сами нарышкинцы не посмеют при царских очах, во покоях царских, где стрельцы охраной стоят, не ихнево полка… Ничево они явно не поделают супротив здоровья и персоны царевича… То лишь сотворено быть может, што поспели подговорить государя… И царь клятву какую ни на есть может взять с царевича… И клятвою тою, – ровно по рукам колодника, – свяжет ево… Вот чево беречись надо… Так, хто не ведает, што клятва насильная – и не в счет. Бог той клятвы подневольной не слышит, не приемлет. Робенок малый про то ведает. Об том и помыслить надо. К тому и царевича света нашево натакнуть: как ему быти?








