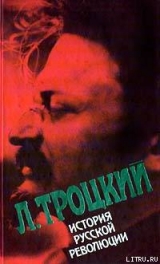
Текст книги "История русской революции. Том II, часть 2"
Автор книги: Лев Троцкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ВЫХОД ИЗ ПРЕДПАРЛАМЕНТА И БОРЬБА ЗА СЪЕЗД СОВЕТОВ
Каждый день войны расшатывал фронт, ослаблял правительство, ухудшал международное положение страны. В начале октября немецкий флот, морской и воздушный, развил активные операции в Финском заливе. Балтийские моряки дрались мужественно, стараясь прикрыть путь к Петрограду. Но они ярче и глубже всех других частей фронта понимали глубокое противоречие своего положения как авангарда революции и как подневольных участников империалистской войны, и через радиостанции своих кораблей они бросили клич о международной революционной помощи во все четыре стороны горизонта. «Атакованный превосходными германскими силами, наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя. Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг… не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего долготерпением революции… не во имя договоров наших правителей с союзниками, опутывающих цепями руки русской свободы». Нет, но во имя охраны подступов к очагу революции, Петрограду. «В час, когда волны Балтики окрашиваются кровью наших братьев, когда смыкаются воды над их трупами, мы возвышаем свой голос:…Угнетенные всего мира! Поднимайте знамя восстания!»
Слова о боях и жертвах не были фразой. Эскадра потеряла корабль «Слава» и после боя отступила. Немцы завладели Моонзундским архипелагом. Перевернулась еще одна черная страница в книге войны. Правительство решило воспользоваться новым военным ударом для перемещения столицы: старый план всплывал при каждом подходящем поводе. Симпатий к Москве в правящих кругах не было, но была ненависть к Петрограду. Монархическая реакция, либерализм, демократия стремились по очереди разжаловать столицу, поставить ее на колени, раздавить ее. Самые крайние патриоты ненавидели теперь Петроград гораздо более жгучей ненавистью, чем Берлин.
Вопрос об эвакуации проходил в порядке чрезвычайной спешности. На переселение правительства вместе с предпарламентом положено всего две недели. Решено также эвакуировать в кратчайший срок заводы, работающие на оборону. ЦИК, как «частное учреждение», должен сам позаботиться о своей судьбе.
Кадетские вдохновители эвакуации понимали, что простое переселение правительства не решает вопроса. Но они рассчитывали взять гнездо революционной заразы голодом, измором, истощением. Внутренняя блокада Петрограда шла уже полным ходом. У заводов отбирались заказы, доставка топлива была уменьшена в четыре раза, министерство продовольствия задерживало идущий в столицу скот, на Мариинской системе приостановлены грузы.
Воинствующий Родзянко, председатель Государственной думы, которую правительство решилось наконец распустить в начале октября, с полной откровенностью высказывался в либеральной московской газете «Утро России» насчет военной опасности, угрожающей столице. «Я думаю, бог с ним, с Петроградом… Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения (т. е. советы и т. д.). На это я возражаю, что очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли». Правда, со взятием Петрограда должен погибнуть Балтийский флот. Но и об этом жалеть не приходится: «там есть суда совершенно развращенные». Благодаря тому что камергер не имел привычки держать язык за зубами, народ узнавал наиболее задушевные мысли дворянской и буржуазной России.
Русский поверенный в делах доносил из Лондона, что британский морской штаб, несмотря на все настояния, не считает возможным облегчить положение своей союзницы в Балтийском море. Не одни только большевики истолковывали этот ответ в том смысле, что союзники, заодно с патриотическими верхами самой России, ждут только выгоды для общего дела от немецкого удара по Петрограду. Рабочие и солдаты не сомневались, особенно после признаний Родзянко, что правительство сознательно готовится отдать их на выучку Людендорфу и Гофману. 6 октября солдатская секция приняла с небывалым доселе единодушием резолюцию Троцкого: «Если Временное правительство не способно защитить Петроград, оно обязано заключить мир либо уступить место другому правительству». Рабочие выступали не менее непримиримо. Петроград они считали своей крепостью, с ним они связывали свои революционные надежды, сдавать Петроград они не хотели. Напуганные военной опасностью, эвакуацией, возмущением солдат и рабочих, возбуждением всего населения, соглашатели с своей стороны забили тревогу: нельзя покидать Петроград на произвол судьбы. Убедившись, что попытка эвакуации встречает противодействие со всех сторон, правительство начало отступать: оно-де озабочено не столько собственной безопасностью, сколько вопросом о месте заседаний будущего Учредительного собрания. Но и на этой позиции удержаться не удалось. Менее чем через неделю правительство оказалось вынужденным заявить, что оно не только собирается само оставаться в Зимнем дворце, но по-прежнему предполагает созвать в Таврическом дворце Учредительное собрание. В военной и политической обстановке это заявление ничего не меняло. Но оно снова обнаруживало политическую силу Петрограда, который считал своей миссией покончить с правительством Керенского и не выпускал его из своих стен. Перенести столицу в Москву посмели впоследствии только большевики. Они выполнили эту задачу без всяких затруднений, потому что для них она была действительно стратегической: политических причин бежать из Петрограда у них быть не могло.
Покаянное заявление о защите столицы сделано было правительством по требованию соглашательского большинства комиссии Совета российской республики, или предпарламента. Это причудливое учреждение успело наконец появиться на свет. Плеханов, который любил и умел шутить, непочтительно назвал бессильный и недолговечный Совет республики «избушкой на курьих ножках». Политически это определение было не лишено меткости. Надо лишь прибавить, что в качестве избушки предпарламент выглядел весьма недурно: ему отведен был великолепный Мариинский дворец, служивший ранее прибежищем Государственному совету. Контраст нарядного дворца с запущенным и пропитанным солдатскими запахами Смольным поразил Суханова. «Среди всего этого великолепия, – признается он, – хотелось отдыхать, забыть о трудах и борьбе, о голоде и войне, о развале и анархии, о стране и революции». Но для отдыха и забвения оставалось слишком мало времени.
Так называемое «демократическое» большинство предпарламента состояло из 308 человек: 120 эсеров, в том числе около 20 левых, 60 меньшевиков разного оттенка, 66 большевиков; дальше шли кооператоры, делегаты крестьянского Исполкома и пр. Имущим классам предоставлено было 156 мест, из которых почти половину заняли кадеты. Вместе с кооператорами, казаками и достаточно консервативными членами крестьянского Исполкома правое крыло по ряду вопросов было близко к большинству. Распределение мест в комфортабельной избушке на курьих ножках находилось, таким образом, в вопиющем противоречии со всеми решительно волеизъявлениями города и деревни. Зато, в противовес серым советским и иным представительствам, Мариинский дворец собрал в своих стенах «цвет нации». Так как члены предпарламента не зависели от случайностей избирательной конкуренции, от местных влияний и провинциальных предпочтений, то каждая общественная группа, каждая партия посылала наиболее своих видных вождей. Личный состав оказался, по свидетельству Суханова, «исключительно блестящ». Когда предпарламент собрался на первое заседание, у многих скептиков, по словам Милюкова, отлегло от сердца: «Хорошо, если Учредительное собрание будет не хуже этого». «Цвет нации» с удовлетворением глядел на себя в дворцовые зеркала, не замечая, что он – пустоцвет.
Открывая 7 октября Совет республики, Керенский не упустил случая напомнить, что, хотя правительство обладает «всей полнотой власти», тем не менее оно готово выслушать «все настоящие ценные указания»: будучи абсолютным, правительство не переставало быть просвещенным. В пятичленном президиуме, при председателе Авксентьеве, одно место было предоставлено большевикам – оно останется незанятым. У режиссеров жалкой и невеселой комедии мутило на душе. Весь интерес серого открытия в серый дождливый день заранее сосредоточился на предстоящем выступлении большевиков. В кулуарах Мариинского дворца распространился, по словам Суханова, «сенсационный слух: Троцкий победил большинством двух или трех голосов… и большевики сейчас уйдут из предпарламента». На самом деле решение демонстративно уйти из Мариинского дворца принято было 5-го на заседании большевистской фракции всеми голосами против одного – так велик был сдвиг влево за истекшие две недели! Лишь Каменев сохранил верность первоначальной позиции, вернее, он один отважился открыто отстаивать ее. В особом заявлении, адресованном в ЦК, Каменев без обиняков характеризовал принятый курс как «весьма опасный для партии». Неясные намерения большевиков вызывали известное беспокойство в среде предпарламента: "боялись, собственно, не потрясения режима, а «скандала» пред лицом союзных дипломатов, которых большинство только что приветствовало подобающим залпом патриотических рукоплесканий. Суханов рассказывает, как к большевикам отрядили официальное лицо – самого Авксентьева – для предварительного запроса: что произойдет? «Пустяки, – ответил Троцкий, – пустяки, маленький пистолетный выстрел».
После открытия заседания Троцкому предоставлено было, на основании перенятого по наследству от Государственной думы регламента, десять минут для внеочередного заявления от имени большевистской фракции. В зале воцаряется напряженное молчание. Декларация начиналась с установления, что власть сейчас столь же безответственна, как и до Демократического совещания, созывавшегося якобы для обуздания Керенского, и что представители имущих классов вошли во Временный совет в таком количестве, на какое они не имеют ни малейшего права. Если бы буржуазия действительно готовилась к Учредительному собранию через полтора месяца, ее вожди не имели бы оснований отстаивать сейчас с таким ожесточением безответственность власти даже пред подтасованным представительством. «Вся суть в том, что буржуазные классы поставили себе целью сорвать Учредительное собрание». Удар попадает в цель. Тем более бурно протестует правое крыло. Не отклоняясь от текста декларации, оратор бичует промышленную, аграрную и продовольственную политику правительства: нельзя было бы вести иного курса, если бы даже поставить себе сознательной целью толкать массы на путь восстания. "Мысль о сдаче революционной столицы немецким войскам… приемлется, как естественное звено общей политики, которая должна облегчить… контрреволюционный заговор. Протесты перерастают в бурю. Крики о Берлине, о немецком золоте, о пломбированном вагоне, и на этом общем фоне, как бутылочный осколок в грязи, – уличная брань. Никогда ничего подобного не случалось во время самых страстных боев в грязном, запущенном, заплеванном солдатами Смольном. «Достаточно было попасть нам в хорошее общество Мариинского дворца… – пишет Суханов, – чтобы немедленно восстановилась кабацкая атмосфера, которая царила в цензовой Государственной думе».
Прокладывая себе дорогу через взрывы ненависти, чередующиеся с моментами затишья, оратор заканчивает: «Мы, фракция большевиков, заявляем: с этим правительством народной измены и с этим Советом контрреволюционного попустительства мы не имеем ничего общего… Покидая Временный совет, мы взываем к бдительности и мужеству рабочих, солдат и крестьян всей России. Петроград в опасности! Революция в опасности! Народ в опасности!.. Мы обращаемся к народу. Вся власть Советам!»
Оратор сходит с трибуны. Несколько десятков большевиков покидают зал среди напутственных проклятий. После минут тревоги большинство готово вздохнуть с облегчением. Ушли одни большевики – цвет нации остается на посту. Только левый фланг соглашателей пригнулся под ударом, направленным, казалось, не против него. «Мы, ближайшие соседи большевиков, – признается Суханов, – сидели совершенно удрученные всем происшедшим». Чистые рыцари слова почувствовали, что время слов прошло.
Министр иностранных дел Терещенко в секретной телеграмме русским послам сообщал об открытии предпарламента: «первое заседание прошло очень бледно, за исключением скандала, устроенного большевиками». Исторический разрыв пролетариата с государственной механикой буржуазии воспринимался этими людьми как простой «скандал». Буржуазная печать не упустила случаи подстегнуть правительство ссылками на решимость большевиков: господа министры тогда лишь выведут страну из анархии, когда у них «будет столько же решимости и воли к действию, сколько ее у товарища Троцкого». Как будто дело шло о решимости и воле отдельных лиц, а не об исторической судьбе классов. И как будто отбор людей и характеров происходил независимо от исторических задач. «Они говорили и действовали, – писал Милюков по поводу ухода большевиков из предпарламента, – как люди, чувствующие за собой силу, знающие, что завтрашний день принадлежит им». Потеря Моонзундских островов, возросшая опасность Петрограду и выход большевиков из предпарламента на улицу заставили соглашателей призадуматься над тем, как быть дальше с войною. После трехдневных обсуждений с участием военного и морского министров, комиссаров и делегатов армейских организаций ЦИК нашел наконец спасительное решение: «настаивать на участии представителей русской демократии на парижской конференции союзников». После новых трудов представителем назначили Скобелева. Был выработан детальный наказ: мир без аннексий и контрибуций, нейтрализация проливов, также Суэцкого и Панамского каналов – географический кругозор соглашателей был шире политического, – отмена тайной дипломатии, постепенное разоружение. ЦИК разъяснил, что участие его делегатов в парижских совещаниях «имеет целью произвести давление на союзников». Давление Скобелева на Францию, Великобританию и Соединенные Штаты! Кадетская газета ставила ядовитый вопрос: как поступит Скобелев, если союзники без церемоний отвергнут его условия? «Пригрозит ли он новым воззванием к народам всего мира»? Увы, соглашатели давно уже стеснялись собственного старого воззвания.
Собираясь навязать Соединенным Штатам нейтрализацию Панамского канала, ЦИК на деле оказывался неспособен произвести давление даже на Зимний дворец. 12-го Керенский отправил Ллойд Джорджу обширное письмо, полное нежных упреков, горестных жалоб и горячих обещаний. Фронт находится «в лучшем положении, чем был прошлой весной». Конечно, пораженческая пропаганда – русский премьер жалуется британскому на русских большевиков – помешала выполнить все намеченные цели. Но о мире не может быть и речи. Правительство знает один вопрос: «как продолжать войну». Разумеется, под залог своего патриотизма Керенский просил о кредитах.
Освободившийся от большевиков предпарламент тоже не терял времени: 10-го открылись прения о поднятии боеспособности армии. Занявший три томительных заседания диалог развивался по неизменной схеме. Надо убедить армию, что она воюет за мир и демократию, говорили слева. Убедить нельзя, надо заставить, возражали справа. Заставить нечем: чтобы заставить, надо сперва хоть отчасти убедить, отвечали соглашатели. По части убеждения большевики сильнее вас, возражали кадеты. Обе стороны были правы. Но и утопающий прав, когда издает вопли, прежде чем пойти ко дну.
18-го наступил час решения, которое в природе вещей изменить ничего не могло. Формула эсеров собрала 95 голосов против 127 при 50 воздержавшихся. Формула правых – 135 голосов против 139. Поразительно, нет большинства! В зале, по отчетам газет, «общее движение и смущение». Несмотря на единство цели, цвет нации оказался неспособен вынести хотя бы платоническое решение по наиболее острому вопросу национальной жизни. Это не было случайностью: то же самое повторялось изо дня в день по всем остальным вопросам, в комиссиях, как и на пленуме. Осколки мнений не суммировались. Все группы жили неуловимыми оттенками политической мысли: сама мысль отсутствовала. Может быть, она ушла на улицу с большевиками?.. Тупик предпарламента был тупиком режима.
Переубедить армию было трудно, но и принудить ее было нельзя. На новый окрик Керенского по адресу Балтийского флота, выдерживавшего бои и несшего жертвы, съезд моряков обратился к ЦИКу с требованием удалить из рядов Временного правительства «лицо, позорящее и губящее своим бесстыдным политическим шантажом Великую революцию». Такого языка Керенский не слышал раньше и от матросов. Областной комитет армии, флота и русских рабочих в Финляндии, действовавший как власть, задержал правительственные грузы. Керенский пригрозил арестом советских комиссаров. Ответ гласил: «Областной комитет спокойно принимает вызов Временного правительства». Керенский смолчал. По сути, Балтийский флот уже находился в состоянии восстания.
На сухопутном фронте дело еще не зашло так далеко, но развивалось в том же направлении. Продовольственное положение в течение октября быстро ухудшалось. Главнокомандующий Северным фронтом доносил, что голод является «главной причиной морального разложения армии». В то время как соглашательские верхушки на фронте продолжали твердить, правда уже только за спиною солдат, о поднятии боеспособности армии, снизу полк за полком выдвигал требование опубликования тайных договоров и немедленного предложения мира. Жданов, комиссар Западного фронта, доносил в первые дни октября: «Настроение крайне тревожное в связи с близостью холодов и ухудшением питания… Определенным успехом пользуются большевики». Правительственные учреждения на фронте повисали в воздухе. Комиссар 3-й армии доносит, что военные суда не могут действовать, так как солдаты-свидетели отказываются являться для дачи показаний. «Взаимоотношения командного состава и солдат обострились. Офицеров считают виновниками затягивания войны». Вражда солдат к правительству и командному составу давно уже перенеслась на армейские комитеты, не обновлявшиеся с начала революции. Через их головы полки посылают делегатов в Петроград, в Совет, жаловаться на невыносимое положение в окопах – без хлеба, без обмундирования, без веры в войну. На Румынском фронте, где большевики очень слабы, целые полки отказываются стрелять. «Через две-три недели солдаты сами объявят перемирие и сложат орудие». Делегаты одной из дивизий сообщают: «Солдаты с появлением первого снега решили разойтись по домам». Делегация 33-го корпуса угрожала на пленуме Петроградского Совета: если не будет настоящей борьбы за мир, «солдаты сами возьмут власть в свои руки и устроят перемирие». Комиссар 2-й армии доносит военному министру: «Немало разговоров о том, что с наступлением холодов покинут позиции».
Почти прекратившееся после июльских дней братание возобновилось и быстро росло. Снова стали после затишья учащаться случаи не только ареста солдатами офицеров, но и убийства наиболее ненавистных. Расправа производилась почти открыто, на глазах у солдат. Никто не вступался: большинство не хотело, маленькое меньшинство не смело. Убийца всегда успевал скрыться, как будто тонул бесследно в солдатской массе. Один из генералов писал: «Мы судорожно цепляемся за что-то, молим о каком-то чуде, но большинство понимает, что спасения уже нет».
Сочетая коварство с тупоумием, патриотические газеты продолжали писать о продолжении войны, о наступлении и победе. Генералы качали головами, некоторые двусмысленно подпевали. «Мечтать сейчас о наступлении, – писал 7-го барон Будберг, командир корпуса, стоявшего около Двинска, – могут только совершенно безумные люди». Уже через день он вынужден занести в тот же дневник: «Ошеломлен и ошарашен получением директивы о предстоящем не позже 20 октября наступлении». Штабы, ни во что не верившие и на все махнувшие рукой, вырабатывали планы новых операций. Немало было генералов, которые видели последнее спасение в том, чтобы повторить опыт Корнилова с Ригой в грандиозном масштабе: втянуть армию в бой и попытаться обрушить поражение на голову революции.
По инициативе военного министра Верховского посгановлено было уволить старшие возрасты в запас. Железные дороги затрещали под натиском возвращающихся солдат. В перегруженных вагонах ломались рессоры и проваливались полы. Настроение остающихся от этого не становилось лучше. «Окопы разваливаются, – пишет Будберг. – Ходы сообщений заплыли; всюду отбросы и экскременты… Солдаты наотрез отказываются работать по приборке окопов… Страшно подумать, к чему все это приведет, когда наступит весна и все это начнет гнить и разлагаться». В состоянии ожесточенной пассивности солдаты повально отказывались даже от предохранительных прививок – это тоже стало формой борьбы против войны.
После тщетных попыток поднять боеспособность армии путем сокращения ее численности, Верховский внезапно пришел к выводу, что спасти страну может только мир. На частном совещании с кадетскими вождями, которых молодой и наивный министр надеялся перетянуть на свою сторону, Верховский развернул картину материального и духовного развала армии: «Всякие попытки продолжать войну могут только приблизить катастрофу». Кадеты не могли этого не понимать, но, при молчании остальных, Милюков презрительно пожимал плечами: «достоинство России», «верность союзникам»… Не веря ни одному из этих слов, вождь буржуазии упорно стремился похоронить революцию под развалинами и трупами войны. Верховский проявил политическую смелость: без ведома и предупреждения правительства он выступил 20-го в комиссии предпарламента с заявлением о необходимости немедленно заключить мир независимо от согласия или несогласия союзников. Против него бешено ополчились все те, которые в частных беседах соглашались с ним. Патриотическая печать писала, что военный министр «вскочил на запятки колесницы товарища Троцкого». Бурцев намекал на немецкое золото. Верховского уволили в отпуск. С глазу на глаз патриоты повторяли:
по существу он прав. Будберг даже в дневнике проявлял осторожность. «С точки зрения верности слову, – писал он, – предложение, конечно, коварное, ну а с точки зрения эгоистических интересов России, быть может, единственное, дающее надежду на спасительный исход». Попутно барон признавался в своей зависти немецким генералам, которым «судьба дает счастье быть творцами побед». Он не предвидел, что скоро наступит очередь и для немецких генералов. Эти люди вообще ничего не предвидели, даже наиболее умные из них. Большевики предвидели многое, и это составляло их силу.
Уход из предпарламента взрывал на глазах народа последние мосты, которые еще связывали партию восстания с официальным обществом. С новой энергией – близость цели удваивает силы – большевики повели агитацию, которую противники называли демагогией, потому что она выносила на площадь то, что сами они прятали в кабинетах и канцеляриях. Убедительность этой неутомимой проповеди слагалась из того, что большевики понимали ход развития, подчиняли ему свою политику, не боялись масс, несокрушимо верили в свою правоту и в свою победу. Народ не уставал их слушать. У масс была потребность держаться вместе, каждый хотел проверять себя через других, и все внимательно и напряженно следили за тем, как одна и та же мысль поворачивалась в их сознании разными своими оттенками и чертами. Бесконечные толпы стояли у цирков и других больших помещений, где выступали наиболее популярные большевики с последними выводами и последними призывами.
Число руководящих агитаторов сильно убавилось к октябрю. Не хватало прежде всего Ленина как агитатора и еще более как непосредственного повседневного вдохновителя. Не хватало его простых и глубоких обобщений, которые прочно ввинчивались в сознание масс, его ярких словечек, подхваченных у народа и ему же возвращенных. Не хватало первоклассного агитатора Зиновьева: скрываясь от преследований по обвинению в июльском «восстании», он решительно повернулся против октябрьского восстания и тем самым на весь критический период сошел с поля действия. Каменев, незаменимый пропагандист, опытный политический инструктор партии, осуждал курс на восстание, не верил в победу, видел впереди катастрофу и угрюмо уходил в тень. Свердлов, по природе больше организатор, чем агитатор, часто выступал на массовых собраниях, и его ровный, могучий и неутомимый бас распространял спокойную уверенность. Сталин не был ни агитатором, ни оратором. Он не раз фигурировал в качестве докладчика на партийных совещаниях. Но выступал ли он хоть раз на массовых собраниях революции? В документах и воспоминаниях не сохранилось на этот счет никаких следов.
Яркую агитацию вели Володарский, Лашевич, Коллонтай, Чудновский. За ними следовали десятки агитаторов меньшего калибра. С интересом и симпатией, к которой у более развитых примешивалась снисходительность, слушали Луначарского, опытного оратора, который умел преподнести и факт, и обобщение, и пафос, и шутку, но который не притязал никого вести: он сам нуждался в том, чтобы его вели. По мере приближения к перевороту Луначарский быстро терял краски и увядал.
Суханов рассказывает о председателе Петроградского Совета: "Отрываясь от работы в революционном штабе, (он) летал с Обуховского на Трубочный, с Путиловского на Балтийский, из манежа в казармы и, казалось, говорил одновременно во всех местах. Его лично знал и слышал каждый петербургский рабочий и солдат. Его влияние – ив массах и в штабе – было подавляющим. Он был центральной фигурой этих дней и главным героем этой замечательной страницы истории.
Но неизмеримо более действительной являлась в этот последний период перед переворотом та молекулярная агитация, которую вели безыменные рабочие, матросы, солдаты, завоевывая единомышленников поодиночке, разрушая последние сомнения, побеждая последние колебания. Месяцы лихорадочной политической жизни создали многочисленные низовые кадры, воспитали сотни и тысячи самородков, которые привыкли наблюдать политику снизу, а не сверху и именно поэтому оценивали факты и людей с меткостью, далеко не всегда доступной ораторам академического склада. На первом месте стояли питерские рабочие, потомственные пролетарии, выделившие слой агитаторов и организаторов исключительного революционного закала, высокой политической культуры, самостоятельных в мысли, в слове, в действии. Токари, слесари, кузнецы, воспитатели цехов и заводов имели вокруг себя уже свои школы, своих учеников, будущих строителей республики советов. Балтийские матросы, ближайшие сподвижники питерских рабочих, в значительной мере вышедшие из их же среды, выдвинули бригады агитаторов, которые брали с бою отсталые полки, уездные города, мужицкие волости. Обобщающая формула, брошенная в цирке Модерн кем-либо из революционных вождей, наполнялась в сотнях мыслящих голов плотью и кровью и совершала затем круговорот по всей стране.
Из Прибалтийского края, из Польши и Литвы тысячи революционных рабочих и солдат эвакуировались при отступлении русских армий вместе с промышленными предприятиями или в одиночку – все это были агитаторы против войны и ее виновников. Большевики-латыши, оторванные от родной почвы и целиком ставшие на почву революции, убежденные, упорные, решительные, вели изо дня в день подрывную работу во всех частях страны. Угловатые лица, жесткий акцент и ломаные нередко русские фразы придавали особую выразительность их неукротимым призывам к восстанию.
Масса уже не терпела в своей среде колеблющихся, сомневающихся, нейтральных. Она стремилась всех захватить, привлечь, убедить, завоевать. Заводы совместно с полками посылали делегатов на фронт. Окопы связывались с рабочими и крестьянами ближайшего тыла. В прифронтовых городах происходили бесчисленные митинги, совещания, конференции, на которых солдаты и матросы согласовывали свои действия с рабочими и крестьянами; отсталая прифронтовая Белоруссия была таким образом завоевана для большевизма.
Там, где местное партийное руководство было нерешительно, выжидательно, как, например, в Киеве, Воронеже и многих других местах, массы нередко впадали в пассивность. В оправдание своей политики руководители ссылались на упадочные настроения, которые они же вызывали. Наоборот, «чем решительнее и смелее был призыв к восстанию, – пишет Поволжский, один из агитаторов Казани, – тем доверчивее и дружнее относилась солдатская масса к оратору».
Заводы и полки Петрограда и Москвы все настойчивее стучались в деревянные ворота деревни. В складчину рабочие посылали делегатов в родные им губернии. Полки постановляли призывать крестьян на поддержку большевиков. Рабочие предприятий, расположенных вне городов, совершали паломничества по окружающим деревням, разносили газеты, закладывали большевистские ячейки. Из этих обходов они приносили в зрачках глаз отблеск пожаров крестьянской войны.
Большевизм завоевывал страну. Большевики становились непреодолимой силой. За ними шел народ. Городские думы Кронштадта, Царицына, Костромы, Шуи, выбранные на основе всеобщего голосования, были в руках большевиков. 52 процента голосов получили большевики при выборе районных дум Москвы. В далеком и мирном Томске, как и в совсем непромышленной Самаре они оказались в думе на первом месте. Из четырех гласных Шлиссельбургского уездного земства прошло три большевика. В Лиговском уездном земстве большевики собрали 50 % голосов. Не везде дело обстояло так благоприятно. Но везде оно изменялось в том же направлении: удельный вес большевистской партии быстро повышался.
Гораздо ярче большевизация масс обнаруживалась, однако, в классовых организациях. Профессиональные союзы объединяли в столице свыше полумиллиона рабочих. Те меньшевики, которые сохраняли еще в своих руках правления некоторых союзов, сами себя чувствовали пережитком вчерашнего дня. Какая бы часть пролетариата ни собралась и каковы бы ни были ее непосредственные задачи, она неизбежно приходила к большевистским выводам. И не случайно: профессиональные союзы, заводские комитеты, экономические и просветительные объединения рабочего класса, постоянные и временные, всей обстановкой вынуждались ставить по поводу каждой частной задачи один и тот же вопрос: кто хозяин в доме?
Рабочие заводов артиллерийского ведомства, созванные на конференцию для урегулирования отношений с администрацией, отвечают, как этого достигнуть: через власть советов. Это уже не голая формула, а программа хозяйственного спасения. Приближаясь к власти, рабочие все конкретнее подходят к вопросам промышленности: артиллерийская конференция создала даже особый центр для разработки методов перехода военных заводов на мирное производство.








