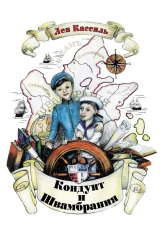
Текст книги "Кондуит и Швамбрания"
Автор книги: Лев Кассиль
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Зимой нас вместе с женской гимназией водили в военный городок, чтоб показать примерный бой.
Кругом было холодно и бело.
Полковник объяснял бой дамам из благотворительного кружка. Дамы грели руки в муфтах и восхищались, а при выстрелах затыкали уши. Бой, впрочем, был очень некрасив и совсем не такой, каким его изображали в «Ниве».
Черные фигурки ползли по полю, бежали стада дымов, образуя завесу, зажигались какие-то огни. Нам объяснили: сигнальные. Звук перестрелки цепью издали напоминал трепыханье на ветру длинного флага. Из окопов воняло гадостно.
Полковник сказал:
– Атака. Фигурки побежали, деловито произнося «ура».
– Все, – сказал полковник.
– Кто же победил? – заинтересовалась публика, ничего не поняв.
Полковник подумал и сказал:
– Те победили.
Потом полковник предупредил, глядя вверх:
– А сейчас ударит бомбомет.
Бомбомет действительно ударил, и очень громко. Дамы испугались. Лошади извозчиков шарахнулись. Извозчики выругались в небо.
Бой кончился.
Участвовавшая в показательном сражении рота прошла перед гостями. Роту вел лукавый подпоручик. Поравнявшись с нами, солдаты с заученным молодечеством запели непристойную песню, лихо посвистывая и напрягая остуженные глотки.
Гимназистки переглядывались. Гимназисты заржали. Кто-то из учителей кашлянул.
Забеспокоилась толстая начальница.
– Подпоручик! – крикнул полковник. – Это что за балаган? Отставить!
Позади всех шел, спотыкаясь в огромных сапогах и путаясь в шинели, маленький, тщедушный солдатик. Он старался попасть в ногу, быстро семенил, подскакивал и отставал. Гимназисты узнали в нем отца одного из наших гимназистов-бедняков.
– Вот так вояка! – кричали гимназисты. – У нас в третьем классе его сын учится. Вон стоит.
Все захохотали. Солдатик подобрал шинель руками и вприпрыжку, судорожно вытянув шею, пытался настичь свою роту. Третьеклассник, его сынишка, стоял, опустив голову. Красные пятна ползли по его лицу.
Дома меня ждал с нетерпением Оська. Он жаждал услышать описание боя.
– Очень стреляли? – спросил Оська.
– Ты знаешь, – сказал я, – война – это, оказывается, ни капельки не красиво.
Серый в яблокахКончался 1916 год, шли каникулы. Настало 31 декабря. К ночи родители наши ушли встречать Новый год к знакомым. Мама перед уходом долго объясняла нам, что «Новый год – это совершенно не детский праздник и надо лечь спать в десять часов, как всегда…» Оська, прогудев отходный, отбыл в ночную Швамбранию.
А ко мне пришел в гости мой товарищ – одноклассник Гришка Федоров. Мы с ним долго щелкали орехи, играли в лото, потом от нечего делать удили рыб в папином аквариуме. В конце концов все это нам наскучило. Мы потушили свет в комнате, сели у окна и, продышав на замерзшем стекле круглые глазки, стали смотреть на улицу.
Светила луна, глухие синеватые тени лежали на снегу. Воздух был полон пересыпчатого блеска, и улица наша показалась нам необыкновенно прекрасной.
– Идем погуляем, – предложил Гришка. Но, как известно, выходить на улицу после семи часов в декабре гимназистам строго-настрого запрещалось. И наш надзиратель Цезарь Карпович, грубый и придирчивый немец, тот самый, что был прозван нами Цап-Царапычем, выходил вечерами специально на охоту, рыскал по улицам и ловил зазевавшихся гимназистов.
Я сразу представил себе, как он вынырнет из-за угла, сверкая золотыми пуговицами с накладными двуглавыми орлами, и закричит:
«Тихо! Фамилия? Стоять столбом!.. Балда!» Такая встреча ничего доброго не предвещала. Четверка в поведении, часа четыре без обеда в пустом классе. А быть может, еще какой-нибудь новогодний подарок. Цап-Царапыч был щедр по этой части.
– Ничего, – сказал Гришка Федоров, – он где-нибудь сейчас сам Новый год встречает. Сидит, небось, уписывает.
Долго уговаривать меня не пришлось. Мы надели шинели и выскочили на улицу.
Недалеко от нашего дома, на Брехаловке, помещались номера для приезжающих и ресторан «Везувий». В этот вечер «Везувий» казался огнедышащим. Окна его извергали потоки света, земля под ним дрожала от пляса, как при землетрясении.
У коновязи перед номерами стояли нарядные высокие санки с бархатным сиденьем и лисьей полостью, на железном фигурном ходу с подрезами. В лакированные гнутые оглобли с металлическими наконечниками был впряжен высокий жеребец серебристо-серой масти в яблоках. Это был знаменитый иноходец Гамбит, лучший рысак в городе. Мы сразу узнали и коня и самый выезд. Он принадлежал богачу Карлу Цванцигу.
«Тпру» по-немецки?..И тут мне в голову пришла отчаянная затея.
– Гришка, – сказал я, сам робея от собственной дерзости, – Гришка, давай прокатимся. Цванциг не скоро выйдет. А мы только доедем вон дотуда и кругом церкви и опять сюда. А я умею править вожжами.
Гришку не надо было долго уговаривать. И через минуту мы уже отвязали Гамбита, влезли на высокое бархатное сиденье санок и запахнули пушистую полость.
Я взял в руки плотные, тяжелые вожжи, по-извозчичьи чмокнул губами и, откашлявшись, произнес басом:
– Но! Двигай!.. Поехали!..
Гамбит оглянулся, покосился на меня своим крупным глазом и пренебрежительно отвернулся. Мне даже показалось, что он пожал плечами, если это только вообще случается у лошадей.
– Он, наверно, только по-немецки знает, – сказал Гришка и громко закричал:
– Эй, фортнаус!
Но и это не подействовало на Гамбита. Тогда я с размаху ударил его по спине скрученными вожжами. В ту же секунду меня отбросило назад, и, если бы не Гришка, поймавший меня за хлястик шинели, я бы вылетел из санок. Гамбит прянул вперед и пошел. Он не понес – он шел своей обычной широкой и в то же время частой иноходью. Я крепко держал вожжи, и мы мчались по пустынной улице. Эх, жаль, что никто из наших не видит нас!
– Знаешь, Гриша, – предложил я, – давай заедем за Степкой Гаврей, он тут за углом живет, мы успеем.
Я натянул правую вожжу. Гамбит послушно свернул за угол. Вот домик, в котором живет Степка.
– Стой, приехали. Тпру!
Но Гамбит не остановился. Как я ни натягивал вожжи, иноходец мчал нас дальше, и через минуту домик Степки Гаври остался далеко позади.
– Знаешь что, Гришка? – сказал я. – Лучше не надо Степки, он, знаешь, дразниться будет только… Лучше Лабанду захватим, он вон где живет.
Я уже заранее намотал на руку вожжи и что есть силы уперся в передок саней.
Но Гамбит не остановился и у Лабанды. Меня стала забирать нешуточная тревога.
– Гришка, а как он вообще останавливается?.. Тут, кажется, Гришка понял, в чем дело.
– Тпру, стой! – что есть силы закричал он, и мы стали тянуть вожжи в четыре руки.
Но могучий иноходец не обращал внимания на наши крики и на рывки вожжей, шел все быстрее и быстрее, таща нас по пустым улицам.
– Не понимает, наверно, по-нашему! – с ужасом сказал Гришка. – А кто знает, как будет «тпру» по-немецки! Мы это не учили. Он теперь нас с тобой, Лелька, без конца возить будет.
– Не надо ехать больше! Тпру!.. Стой, довольно! – кричали мы с Гришкой.
Но Гамбит упрямо вымахивал вдоль по ночной улице.
Лошадиное словоЯ стал припоминать все известные мне обращения к лошадям, все лошадиные слова, которые только знал по книжкам.
– Тпру, тпру! Стой, ми-ла-ай!.. Не балуй, касатик!
Но, как назло, на ум лезли все какие-то выражения былинного склада; «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок», или совсем погонятельные слова, вроде; «Эй, шевелись… Поди-берегись!.. Ну, мертвая!.. Эх, распошел!..» Использовав все известные мне лошадиные слова, я перешел на верблюжий язык.
– Тратрр, тратрр… чок, чок! – вопил я, как кричат обычно погонщики верблюдов.
Но Гамбит не понимал и по-верблюжьи.
– Цоб-цобе, цоб-цобе! – хрипел я, вспомнив, как кричат чумаки своим волам.
Не помогло и «цоб-цобе»…
На Троицкой церкви ударил колокол. Один раз, другой, третий… Двенадцать раз ударил колокол.
Значит, мы уже въехали в Новый год. Что же нам, веки вечные так ездить?! Когда же остановится этот неутомимый иноходец?!
Таинственно светила луна. Зловещей показалась мне тишина безлюдных улиц, на которых только что один год сменил другой… Неужели же мы на веки обречены мчаться вот так?.. Мне стало совсем не по себе.
И вдруг из-за угла блеснули в лунном свете два ряда начищенных медных пуговиц, и мы увидели Цап-Царапыча. Гамбит мчался прямо на него.
И я со страху выронил вожжи.
– Тихо! Что за крик? Как фамилия? Стоять столбом, балда! – визгливо прокричал Цап-Царапыч. И произошло чудо. Гамбит стал как вкопанный.
С новым счастьем!Мы мигом соскочили с санок, обежали с двух сторон нашего иноходца и, приблизившись к надзирателю, вежливо, щепотью ухватив лакированные козырьки фуражек, обнажили свои буйные головы и низко поклонились Цап-Царапычу.
– Добрый вечер, Цап… Цезарь Карпыч! – хором произнесли мы. – С Новым годом вас, Цезарь Карпыч, с новым счастьем!
Цап-Царапыч не спеша вынул пенсне из футляра, который он достал из кармана, и утвердил стекла на носу.
– А-а-а! – обрадовался он. – Два друга. Узнаю! Прекрасно! Прелестно! Отлично! Превосходно! Вот мы и запишем обоих. – Цап-Царапыч вынул из внутреннего кармана своей шубы знаменитую записную книжечку. – Обоих запишем, и того и другого. И оба они у нас посидят после каникул по окончании уроков в классе, без обеда, по четыре часа: один четыре часа, и другой – четыре. С Новым годом, дети, с новым счастьем!
Тут взгляд Цап-Царапыча упал на наш выезд.
– Позвольте, дети, – протянул надзиратель, – а вы попросили у господина Цванцига разрешения кататься на его санках? Что?
Мы оба вперебой стали уверять надзирателя, что Цванциг сам попросил нас покататься, чтобы Гамбит разогрелся немножко.
– Прекрасно, – проговорил Цап-Царапыч. – Вот мы сейчас туда все отправимся и там на месте это и выясним. Нуте-с…
Но нас так страшила самая возможность снова очутиться на этих проклятых санках, что мы предложили Цап-Царапычу ехать одному, обещая идти рядом пешком.
Ничего не подозревавший Цап-Царапыч взгромоздился на высокое сиденье. Он запахнулся пышной меховой полостью, взял в руки вожжи, подергал их, почмокал губами, а когда это не помогло, стегнул легонько Гамбита по спине. В ту же минуту нас разметало в разные стороны, в лицо нам полетели комья снега. Когда мы отряхнулись и протерли глаза, за углом уже исчезали полуопрокинутые санки. На них, кое-как держась и что-то вопя, от нас унесся наш несчастный надзиратель.
А из-за другого угла уже бежал в расстегнутой шубе, в галстуке, сбитом набок, хозяин Гамбита, господин Карл Цванциг, крича страшным голосом:
– Карауль!.. Конокради!.. Затержать!..
И где-то уже заливался полицейский свисток. Как у них там потом все выяснилось, мы не пытались разузнать… Но и сам наш надзиратель после каникул ни слова не сказал нам о ночном происшествии. Так начался для нас Новый год – год 1917.
Февральский кондуит
О круглой земле, о больших новостях и маленьком мореПапа и мама ушли в гости. Ахнуло парадное, и от сквозняка по всему дому двери передали друг другу эстафету. Аннушка тушит в гостиной свет – слышно, как щелкнул выключатель, – и уходит на кухню. Немного жуткая пустота влезает в дом. Тикают часы в столовой. В стекла окон рвется ветер. Я сажусь за стол и делаю вид, что готовлю уроки. Братишка Ося рисует пароходы. Много пароходов, и у всех из труб дым. Я беру у него красно-синий карандаш и начинаю раскрашивать в учебнике латинские местоимения. Все гласные буквы – красными, согласные – синими. Очень красиво получается.
Вдруг Ося спрашивает:
– Леля! А почему знают, что Земля круглая? Это я знаю. Про это есть на первой странице географии, и я долго рассказываю Осе про корабль, который уходит в море далеко-далеко. Потом он скрывается за горизонтом. Его не видно. Значит, Земля круглая.
Но Ося не удовлетворен.
– А может быть, он утонул, корабль? – говорит он. – А, Леля? А?
– Не приставай, пожалуйста! Видишь, я уроки учу.
Раскраска местоимений продолжается. Молчание.
– А я знаю, почему знают, что Земля круглая, – говорит опять Ося.
– Ну и знай!
– Знаю! Потому что глобус круглый… Что-о? Вот!
– Дурак ты сам круглый, вот что…
У Оськи пухнут губы. Грозит ссора. Но… в кабинете отца громко звонит телефон. Мчимся наперегонки в кабинет. Там пусто, темно и страшно. Но я поворачиваю выключатель, и комната сразу меняется, как проявленный негатив фотографии. Окна были светлыми – стали черными. Рамы были черными – стали светлыми. А главное – не страшно. Я беру трубку и говорю важным папиным голосом:
– Я вас слушаю! Что?
Оказывается, звонят из Саратова, и звонит наш любимый дядя Леша. Он очень давно не приезжал к нам. Мама говорила нам, что он уехал далеко. Но мы с Оськой подслушали раз, что он вовсе сидит в тюрьме за то, что он против царя и войны. А теперь, значит, его выпустили. Вот хорошо! И мы оба кричим в трубку:
– Дядечка! Приезжай!
– Ладно, ладно, – смеется в телефон дядя. – А ты, Леля, не забудь передать маме, папе, когда придут, что звонил я и сказал, что в России революция… Временное правительство… Царь отрекся… Повтори! – И голос у дяди какой-то необычайно веселый.
– Дядечка! – кричу я. – Как же это так вышло? – Ты еще маленький, не поймешь.
– Нет, пойму, – обиделся я, – нет, пойму! Я уже в третьем.
И дядя из Саратова, из-за Волги, торопясь, рассказывает по телефону о войне, о революции, равенстве, братстве…
– Вы кончили? – влезает в трубку чужой голос. – Время истекло.
Крррах! Нас разъединили. А я стою, сразу словно вырос на три года. Я стою и готов взорваться от всего того, что услышал от дяди.
Но тут взгляд мой падает на Оську. Он стоит смущенный.
– Эх, ты! – возмущаюсь я. – А еще знает, отчего Земля круглая! Как не стыдно!..
– Я терпел, терпел, пока ты кончишь по телефону… и не заметил.
Я бегу на кухню.
В кухне у Аннушки гость – знакомый раненый солдат. Черный и угрюмый, а на груди серебряный георгиевский крестик. Восторженно кричу:
– Аннушка!.. Во-первых, теперь революция… свобода… и без царя!.. А во-вторых… Оське надо штаны переодеть…
И, задыхаясь, я рассказываю все, что слышал от дяди. И вдруг Аннушкин солдат встает. Левая рука у него забинтована. Правой он обнимает меня. Я оторопел. Солдат крепко прижимает меня к себе:
– Эх, милай! Вот разуважил! Спасибочко! Неужто ж правда? – и грозит большим кулаком кому-то в четыре окна: – Ну, погоди! Дождались!..
Я смотрю в окна. Но там никого нет. А солдат извиняется:
– Вы меня простите, молодой человек… Уж больно вы меня того… Да как же… Господи ж… Вот спасибочко! Ровно праздник!
Нос у него странно морщится.
Разговор по прямому проводуВ столовой я влезаю на стул и стучу в отдушник. Это вроде телефона. Наверху живут Нюра и Вера Живильские. У них тоже отдушник. У нас постучишь – наверху слышно. В отдушнике Нюрин голос:
– Слушаю!
– Здравствуйте! (Вообще мы на «ты», но по «телефону» надо говорить «вы».) Здравствуйте, Нюра. Большие новости! Революция, и у нас солдат сидит.
– А у меня чего есть! – говорит Нюра. – Отгадайте.
– Еще где-нибудь революция?
– Нет! Крестная сервиз подарила, и даже с молочником.
Я бросаю труб… виноват – захлопываю отдушник. Разве они могут понять? И я, одевшись, бегу к товарищу-соседу, чтобы порадовать его. А латынь так и остается невыученной.
Цап-Царапыч гонится за луной, или что сказал об этом кондуитНа улице пахнет оттепелью. Небо в звездочках, как петлица инспекторского мундира. Я мчусь по пустой улице, а сбоку бежит луна и, как собака, останавливается поочередно за каждым телеграфным столбом. Домики стоят, зажмурив ставни. Как можно сейчас дрыхнуть? Ведь революция же! Мне хочется орать…
Из-за угла навстречу нам выплывают два ряда сияющих пуговиц… Цап-Царапыч! Мы с верной луной задаем драпу – бежим назад. Луна прячется за столбы и заборы. Я бегу, укрываясь в их тень. Но Цап-Царапыч уже заметил.
– Стой! Стой, прохвост! – кричит он. – Городовой! Но фамилии не кричит. Значит, не узнал, и я лечу дальше. Луна и Цап-Царапыч следуют за мной. Цап-Царапыч – враг. Луна – сообщница.
Вот она, чтоб не выдать меня, юркнула за крышу… Но я ошибался. Цап-Царапыч узнал меня. В кондуите на другой день возникла следующая запись на моей страничке:
4 марта был замечен надзирателем на улице после 7 часов. Несмотря на приказание остановиться, убежал…
Луна в кондуит не попала.
«Вольно!» – говорит солдатВ гостиную мы приводим Аннушкиного солдата и Аннушку. Мы ходим по ковру, нацепив на папину трость красный Аннушкин платок.
Солдату дают маленькое Оськино ружье. Солдат показывает войну. Мы все поем:
По Кавказским горам Гимназист гулялся.
Он кричал; «Долой царя!» Красный флаг махался.
В гостиной замечательно пахнет смазными сапогами. Мы очень сдружились с солдатом, и он дает нам по очереди заклеивать языком его собачью ножку.
А Оська сидит у него на коленях и, подпрыгивая, спрашивает:
– А вы отгадайте… Если кит и вдруг на слона налезет? Кто кого сборет? Отгадайте.
– Не знаю, – говорит солдат. – Ну, скажи, кто?
– И я не знаю, – говорит Ося. – И папа не знает, и дядя. Никто.
О ките и слоне долго спорим. Мы с солдатом – за слона, Аннушка назло – за кита. Солдат садится за пианино. Он тычет пальцем в одну клавишу и пытается петь «Марсельезу».
Аннушка спохватывается, что уже поздно и нам пора спать.
– Вольно! – говорит солдат, и мы идем спать.
Самоопределение ОськиНа полу детской начерчены лунные «классы». Прямо хоть прыгай по ним на одной ножке! Мы лежим в своих кроватках и говорим про революцию. Я рассказываю Осе, что слышал от дяди или читал в газетах о войне, о рабочих, о царе, о погромах…
Вдруг Ося спрашивает:
– Леля, а Леля! А что такое еврей?
– Ну, народ такой… Бывают разные: русские, например, американцы, китайцы. Немцы еще, французы. А есть евреи.
– Мы разве евреи? – удивляется Оська. – Как будто или взаправду? Скажи честное слово, что мы евреи.
– Честное слово, что мы – евреи. Оська поражен открытием. Он долго ворочается, и уже сквозь сон я слышу, как он шепотом, чтобы не разбудить меня, спрашивает:
– Леля!
– Ну?
– И мама – еврей?
– Да. Спи.
И я засыпаю, представляя, как завтра в классе я скажу латинисту: «Довольно старого режима и к стенке ставить. Вы не имеете полного права!» Спим.
Ночью возвращаются из гостей папа и мама. Я просыпаюсь. Как и все люди после гостей, театра, они устали и раздражены.
– Дивный пирог был, – говорит папа, – у нас такого никогда не могут сделать. И куда деньги уходят?!
Слышно, как мама удивляется, найдя в подсвечнике на пианино окурок собачьей ножки. Папа пошел полоскать горло.
Тренькнула стеклянная пробка графина. И вдруг отец быстрым, очень громким для такой поздноты голосом позвал маму. Мама что-то спрашивала. Папа говорил весело и громко. Они нашли мою записку с великой новостью. Я перед сном написал ее и засунул в пробку графина.
Отец с матерью на цыпочках входят в детскую.
Отец садится на постель, обнимает меня и говорит:
– А революция пишется через «е», а не через «и»: революция. Ты-ы! – И щелкает меня в нос.
В это время просыпается Ося. Он, видно, все время даже во сне думал о сделанном им открытии.
– Мама… – начинает Ося. – Ты зачем проснулся? Спи.
– Мама, – спрашивает Ося, уже садясь на постели, – мама, а наша кошка – тоже еврей?
«Боже, царя…» передай дальше»Утром Аннушка будит меня и Оську на этот раз так – она поет:
– Вставай, подымайся, рабочий народ… В гимнастию пора!
Рабочий народ (я и Оська) вскакивает. За завтраком я вспоминаю о невыученных латинских местоимениях: хик, хек, хок…
Выходим вместе с Оськой. Тепло. Оттепель. Извозчичьи лошади машут торбами. Оська, как всегда, воображает, что это лошади кивают ему. Ося – очень вежливый мальчик. Он останавливается около каждой лошади и, кивая головой, говорит:
– Лошадка, здравствуйте!
Лошади молчат. Извозчики, которые уже знают Оську, здороваются за них. Одна лошадь пьет из подставленного ведра. Оська спрашивает извозчика:
– Ваша лошадка тоже какао пьет? Да? Бегу, мчусь в гимназию. Они ведь еще не знают. Я ведь первый. Раздевшись, влетаю в класс и, размахивая на ремнях ранцем, ору:
– Ребята! Царя свергнули!!!
– !!!!!!
Цап-Царапыч, которого я не заметил, закашлявшись и краснея, кричит:
– Ты что? С ума сошел? Я с тобой поговорю. Ну, живо! На молитву! В пары.
Но меня окружают, меня толкают, расспрашивают.
Коридор гулко и ритмично шаркает. Классы становятся на молитву.
Директор, сухой, выутюженный и торжественный, как всегда, промерял коридор выутюженными ногами. Зазвякали латунные бляхи. Стихли.
Батюшка, черный, как клякса в чистописании, надел епитрахиль. Молитва началась.
Мы стоим и шепчемся. Неспокойно в маренговых рядах, шепот:
– А в Питере-то революция.
– Это наверху, где Балтийское на карте нарисовано?
– Ну да, здоровый кружок: на немой карте – и то сразу найдешь.
– А там, историк рассказывал, Петр Великий на лошади и домищи больше церкви.
– А как это, интересно, революция?
– Это как в пятом году. Тогда с японцами война была. Народ и студенты по улицам ходили с красными флагами, а казаки и крючки их нагайками. И стреляли.
– Вот собаки, негодяи!
– Эх! Сегодня письменная… Опять пару влепит. Плевать!
– …Иже еси на небеси!
– Вот тебе и царь… Поперли. Так и надо! Зачем войну сделал?
– Тише вы!… А уроков меньше задавать будут?
– …Во веки веков. Аминь.
– Наследник-то в каком классе учится? Небось, кругом на пятках… Ему чего! Учителя не придираются.
– Ну, теперь ему не того будет. Наловит двоек да колов. Узнает!
– Стоп! Как же генитив плюраль будет?.. Ну ладно. Сдуем.
По рядам пошла записка. Записку эту написал Степка Атлантида. (Потом эта записка вместе с Атлантидой попала в кондуит.) На записке было:
«Не пой „Боже, царя…“ Передай дальше».
– …От Луки святого евангелия чтение… Робкий веснушчатый третьеклассник прочел, спотыкаясь, притчу. Инспектор подсказывал, глядя в книгу через его плечо. Последняя молитва:
– …Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.
Сейчас, сейчас! Мы насторожились. «Господствующие классы» прокашлялись. Мм-да!
Маленький длинноволосый регент из Троицкой высморкался торжественно и трубно. На дряблой шее регента извилась похожая на дождевого червя сизо-багровая жила. Нам всегда казалось, что вот-вот она лопнет. Регент левой рукой засовывает цветной платок сзади, в разрез фалд лоснящегося сюртука. Взвивается правая рука с камертоном. Тонкий металлический «зум» расплывается в духоте коридора. Регент поправляет засаленный крахмальный воротничок, выуживает из него тонкую, будто ощипанную шею, сдвигает в козлы бровки и томно, вполголоса дает тон:
– Ля-аа… Ля…а – а…
Мы ждем. Регент вскидывается на цыпочки. Руки его взмахивают подымающе. Дребезжащим, словно палец об оконное стекло, голосом он запевает:
– Боже, царя храни…
Гимназисты молчат. Два-три неуверенных дисканта попробовали подхватить. Сзади Биндюг спокойно сказал, как бы записывая на память:
– Та-а-ак… Дисканты завяли.
А регент неистово машет руками перед молчащим хором. Наканифоленный его голос скрипит кобзой:
– …Сильный… державный, царствуй… И тут мы не в силах сдерживаться больше. Нарастающий смех становится непередыхаемым. Учителя давятся от смеха.
Через секунду весь коридор во власти хохота. Коридор грохочет.
Усмехается инспектор. Трясет животом Цап-Царапыч. Заливаются первоклассники. Ревут великовозрастные. Хихикает сторож Петр.
Ха-ха… Гы-ги… Ох-хо… Хи-хи… Хе-хе-хе… Ах-ха-ха-ха…
Только директор строг и прям, как всегда. Но еще бледнее.
– Тихо! – говорит директор и топает ногой. Под его начищенными штиблетами все будто расплющилось в тишину.
Тогда Митька Ламберг, коновод старшеклассников, восьмиклассник Митька Ламберг тоже кричит:
– Тихо! У меня слабый голос. И запевает «Марсельезу».








