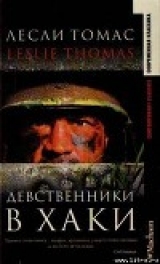
Текст книги "Девственники в хаки"
Автор книги: Лесли Томас
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц)
5
Ужас, пережитый Бриггом при виде распростертого на песке тела Фреда Органа, был пустяком по сравнению с навязчивыми кошмарами, которые начали преследовать его после похорон. Самое жуткое заключалось в том, что при жизни Фред весил двадцать два стоуна, а похоронили они от силы девятнадцать.
Даже несколько месяцев спустя, лежа без сна на койке в пенглинской казарме, Бригг мучительно размышлял над тем, куда подевались ноги старины Фреда. Лай бездомных собак часто будил его по ночам, и Бригг оказывался один на один с мыслью, от которой никак не мог избавиться. Почему они не нашли ни лоскутка от заплывших жиром ног Фреда? На пляже не осталось даже клочьев ботинок, которые могли бы направить их поиски, потому что Фред вышел на свою последнюю прогулку босиком. Ни следа от Фреда.
Вот как вышло, что прощальный салют прогремел над могилой, в которой покоилось лишь восемь десятых Фреда Органа – над вырытой в жирной земле джунглей одинокой могилой, вокруг которой молча стояли прямой, как палка, и бледный, как смерть, сержант Дрисколл, поминутно сгонявший с мясистого носа надоедливых мух. Любезноу и еще несколько солдат пенглинского гарнизона не могли ни сдержать слез, ни справиться с владевшим ими страхом. В траурной церемонии приняло участие и еще одно живое существо – маленькая обезьяна, которая, прикрыв глаза крошечными лапками, сидела на дереве над самой головой Бригга. За все время она ни разу не пошевелилась, очевидно полагая, что раз она не видит людей, значит, и они ее не видят.
Прибывшие саперы прочесали побережье и нашли еще двадцать семь противопехотных мин, которые кто-то позабыл на пляже в 1942 году. Эти мины тоже были спрятаны в песке, однако от того места, где обычно резвились прибывшие на тренировочный сбор солдаты, до них было не меньше полумили.
Навязчивый кошмар, причиной которого были и оторванные ноги Фреда Органа, и неумолчный лай и грызня собак, в конце концов вынуждали Бригга поворачиваться на кровати и будить Сэнди Джекобса.
– Сэнди, – говорил Бригг, – эти паршивые собаки совершенно распоясались. Они сведут меня с ума: я опять думаю о том, куда девались ноги Фреда.
Сэнди было очень приятно будить посреди ночи. Он никогда не ворчал и не сердился, и готов был болтать с Бриггом хоть до самого рассвета. Особенно часто и охотно Сэнди рассказывал о своем доме и о преследованиях, которым подвергался его еврейский папаша со стороны шотландцев. На протяжении многих лет отец Сэнди играл в духовом оркестре Эрдри на большой трубе-баритоне, но однажды на футбольном матче какой-то шутник бросил в сверкающий медный раструб инструмента горящий фейерверк. Фейерверк взорвался глубоко внутри баритона, наполнив легкие Джекобса-старшего горячим дымом и огнем, и с тех пор он больше не прикасался к своему любимому инструменту.
В одну из ночей речь зашла об обрезании. Сэнди много знал об этой древней традиции. Он-то и сообщил Бриггу, что один из прикомандированных к кухне солдат сделал обрезание в гигиенических целях и только недавно вернулся в часть после полагавшегося по болезни десятидневного отпуска.
Благодаря проникавшим в балконную дверь кинжальным лунным лучам, в казарме было довольно светло, и Бригг, не тратя зря времени, бросился будить Таскера и Лонтри.
– Если мы сделаем себе обрезание, – сообщил он, – то каждый из нас получит десятидневный медицинский отпуск.
– Отстань, – проворчал Таскер и, ухватившись за край простыни, натянул ее на голову. Лонтри остался сидеть на койке, но голова его почти сразу упала на грудь, и он заснул.
Бригг снова принялся трясти друзей.
– Да послушайте же!… – горячо шептал он, наклонившись к самой голове Таскера. – Слушай, ты, идиот! Десять дней отпуска! Десять дней, если сделать обрезание!
– Ну хорошо, – сонно согласился Таскер. – Расскажи еще раз. Если я сделаю себе обрезание… Если я сделаю что?!…
– Обрезание, – с бесконечным терпением пояснил Бригг. – Как Сэнди Джекобс. Только ему сделали обрезание, когда он был совсем маленьким.
– Отстань, – зевнул Таскер. – Отстань, ради всего святого!
Бригг посмотрел на Лонтри, который продолжал спать сидя. Неожиданно он качнулся и рухнул на подушку, словно его хватил удар. Пожав плечами, Бригг с сожалением вернулся на койку. Собаки замолчали, и он даже сумел на некоторое время забыть о ногах Фреда, ибо его разум был переполнен приятными мыслями о том, как лучше воспользоваться десятидневным отпуском.
Наконец Бригг крепко заснул и спал целых десять минут, когда Таскер разбудил его, потеребив за ухо.
– Сколько, ты говоришь, отпуск? – спросил он.
– Какой отпуск? – сонно удивился Бригг.
– За обрезание. Ты же сам только что говорил…
– А-а… – зевнул Бригг. – Десять дней, а что?
– Тогда нужно обратиться к врачу завтра же утром.
– Но не всем сразу, – возразил Бригг. – Надо растянуть это хотя бы на несколько дней. Как ты думаешь, это больно?
– Больно? Нисколько. К тому же, без этого кусочка нам будет намного удобнее.
Примерно через неделю после описанного выше исторического разговора шестеро обитателей казармы пенглинского гарнизона встретились в одной палате Британского военного госпиталя в Сингапуре. В их компанию случайно затесался рядовой Джордж Фенвик. Уши у него по-прежнему болели, но не сильнее, чем тогда, когда он регулярно погружал их в хлорированную воду бассейна; очевидно, они уже адаптировались к регулярным купаниям, зато Фенвик, проводивший в воде почти все свободное время, заработал ревматические боли в плече, которое теперь лечил в терапевтическом отделении.
Когда для проведения обрезания по медицинским показаниям в госпиталь поступили Бригг и Таскер, Фенвик уже был здесь старожилом.
– Премерзкое место, – первым делом сообщил он. – Каждый день – утром и после обеда – меня ведут в холодную комнату, в которой к тому же здорово воняет, и велят крутить огромное тяжелое колесо. Четыреста оборотов.
– Дважды в день? – тут же уточнил Таскер.
– Ага, – кивнул Фенвик. – У них там есть такие специальные часы, которые показывают, сколько раз я крутанул это колесо. К тому же к комнате приставлена медсестра, настоящая старая ведьма, которая не выпускает меня оттуда, пока я не поверну штурвал положенное число раз. Это, ребята, здорово смахивает на камеру пыток, уж вы мне поверьте…
– И как эти упражнения повлияли на твои уши? – осведомился Бригг.
– Это не для ушей, – пояснил Фенвик. – Я стараюсь осуществлять свой план, но пока я здесь, мне не удается и близко подойти к плавательному бассейну, и проклятые перепонки с каждым днем чувствуют себя все лучше. У меня в плече ревматизм – вот зачем они заставляют меня вертеть колесо.
– Может быть, тебя комиссуют из-за ревматизма? – предположил Бригг.
Фенвик уставился на него во все глаза.
– Об этом я как-то не подумал, – прошептал он наконец, расплывшись в мечтательной улыбке. – Господи! Как же я сам не сообразил! Если притвориться, будто боли распространились по всему телу и я колена не могу согнуть, то, пожалуй, мне удастся добиться досрочного увольнения по болезни. А как ты думаешь?
– Как тут обстоит дело с сиделками? – поинтересовался Таскер.
– Ужасно, – ответил Фенвик.
– Так-таки и нету ни одной хорошенькой? – с мольбой переспросил Таскер. – Ни одной не слишком страшненькой?
– Ну, – милостиво признал Фенвик, – есть тут одна ночная сестра с очень приятным голосом, да и фигура у нее ничего. Когда она проходит мимо, я нарочно выставляю в проход руку, чтобы она на нее наткнулась. Тогда сестра начинает ворчать, что она, мол, думала, будто у меня ревматизм…
– А как она выглядит? – продолжал допытываться Таскер. – Какое у нее лицо?
– Ничего особенного, – пожал плечами Фенвик, уже слегка утомленный настойчивостью товарищей. – Вот голос у нее действительно приятный.
Через день после Бригга и Таскера в тот же госпиталь были приняты Лонтри, Лонгли с его выпуклой грудью и Синклер. Офицер медицинской службы в Пенглине беспробудно пил, спасаясь от жары, и одним махом отправил всех троих в сингапурский госпиталь для гигиенического обрезания.
Чтобы не терять времени даром, Синклер приволок с собой «Атлас железных дорог мира», в котором было ровным счетом пятьсот девяносто три страницы, а Лонгли выражал робкие надежды, что пока он будет лежать в госпитале по поводу сложной операции, медики сумеют что-нибудь сделать с его горбом, который почему-то вырос спереди, а не сзади.
В тот же день после обеда всех пенглинцев, включая примкнувшего к ним в последний момент Фенвика, прооперировали и отправили обратно в палату, туго перевязав их раны узким белым бинтом.
– Что-то сильно болит, – шепнул Таскер Бриггу, томившемуся на соседней койке.
– И у меня, – ответил тот. – Уж не знаю, стоило ли терпеть… Ну, ничего, зато теперь нам дадут отпуск.
– Сильно болит, – пожаловался Фенвик Лонтри, который лежал рядом с ним.
– И у меня. Интересно, зачем евреи делают это со своими младенцами? – отозвался Лонтри.
Потом в палату вошла сиделка Блессингтон – та самая, с приятным голосом и фигурой. Таскер посмотрел на нее прикрыв лицо краешком одеяла. Так же поступил и Бригг. И Лонтри тоже.
Блессингтон была одета в девственно чистый белый халат. Ее лицо, как и предупреждал Фенвик, не отличалось красотой, зато длинные ноги имели вид прохладный и соблазнительный.
– Добрый вечер, – поздоровалась Блессингтон с Таскером, опершись руками на спинку его кровати. – Как мы себя чувствуем?
Таскер, пожиравший сиделку глазами, с энтузиазмом тряхнул головой, и она продолжила негромко беседовать с ним, одновременно поглаживая торчащие из-под одеяла пальцы ног счастливца.
– О-о-о-ох! – неожиданно ахнул Таскер. – Не надо! Прошу вас, сестра, не надо! Больно…
– Что случилось? – улыбнулась Блессингтон. – Отчего мы так разволновались? Я же просто трогаю тебя за пальцы, вот так…
– О-о-ооо-оо-о! – простонал Таскер. -Это не пальцы, это… моя операция. О-оо-о! У-УУ-У!
Блессингтон не торопясь переходила от одного раненого к другому.
– О-о-ооо-оо-о! – сказал Бригг. – О-о-оох!! И Фенвик сказал:
– О-о-ооо-оо-о!
И Лонтри тоже сказал:
– О-о-ооо-оо-о!
И только Лонгли, у которого была уродливая грудная клетка, и который совсем не интересовался женщинами, просто сказал:
– Ох!
Солдат, работавший в кухне, обманул Сэнди Джекобса. Никакого отпуска по болезни новообрезанным не полагалось. На третий день после операции они уже вернулись в Пенглин, правда – все еще с бинтами на тех местах, к которым прикоснулся скальпелем армейский хирург.
В первую же ночь после их возвращения собаки возле казармы учинили дьявольский концерт, и Бригг снова начал думать о том, что стало с ногами Фреда Органа. На следующий день он смастерил из спинки стула и двух велосипедных камер мощную катапульту и установил ее на балконе. Смертоносная машина могла метать четвертинку кирпича на расстояние около ста ярдов, сообщая снаряду достаточную скорость, чтобы прикончить любую собаку, которая осмелится выть на луну. Когда в наступившей темноте снова залаяли и заскулили неугомонные псы, Бригг вышел на балкон в обществе нескольких товарищей, которым не терпелось увидеть первый выстрел. Увесистый камень со свистом унесся во мрак – и угодил в левую коленную чашечку сержанта Любезноу, который на беду возвращался из столовой через плац.
Завопив от боли, удивления и негодования, сержант изменил направление движения и неровной скачущей походкой заковылял к казарме, на балконе которой он заметил несколько темных фигур.
– Я вас достану! – разносилось над плацем. – Головы поотворачиваю! Сгною на гауптвахте!! Вы у меня попляшете, попляшете!!!
Легкий паралич, в который поверг Бригга и К° первый вопль, сменился суетливой подростковой нервозностью, и все участники испытаний торопливо попрятались под одеялами, напряженно прислушиваясь к тому, как сержант, волоча раненую ногу и не переставая чертыхаться, вприскочку взбирается по гулкой бетонной лестнице.
У двери Любезноу споткнулся и упал, ударившись о косяк, но тут же поднялся и включил свет.
– Паа-адъем! – заорал он. – Па-адъем! Всем встать около коек!
Они застонали и заворочались под простынями и одеялами, изображая крепко спящих людей.
– В чем дело? Что случилось? – волновался нервный капрал Брук, худой и бледный, словно жук-проволочник, пытаясь выпутаться из простыней.
Любезноу был в шортах, и на колене его красовался изрядный желвак, в центре которого алела небольшая открытая рана. Приволакивая увечную конечность и держась за колено руками, он ковылял по проходу между койками как какой-нибудь средневековый нищий-калека и наконец остановился возле москитной сети над кроватью Лонтри. Схватив сеть обеими руками, сержант дергал и тянул ее до тех пор, пока веревка не оборвалась, и сетка не обрушилась на притворявшегося спящим рядового.
– Встать у коек! – снова приказал Любезноу. – Все! Тот, кто это сделал, очень пожалеет, дайте мне только добраться до этого негодяя!
В конце концов все, в том числе и те, кто действительно спал, выстроились у коек, сонно жмурясь на желтый свет ламп. Только Пэтси Фостер и Сидни Вильерс были в пижамках, причем впопыхах они надели штаны друг друга, да и появились они из-под одной москитьеры. Все остальные, в чем мать родила, стояли по стойке «смирно», лишь изредка знобко вздрагивая от сырости, поднимавшейся от бетонного пола. Среди них были и шестеро легкораненых из Британского военного госпиталя; их подвергшиеся хирургическому вмешательству органы все еще были забинтованы и свисали по обеим сторонам прохода, как белые флаги капитуляции.
Сержант Дрисколл в своей комнатке был занят тем, что играл в дартс. У него появилась новая идея относительно того, как заставить закрыться непокорный глаз. Повесив мишень на стене за дверью, он сидел на кровати, разложив рядом на тумбочке тридцать восемь дротиков с разным оперением. Он брал их по одному и, неловко размахнувшись правой рукой, бросал в цель, пытаясь хотя бы наполовину прикрыть левый глаз во время прицеливания или броска.
Свой комплект метательных снарядов Дрисколл использовал уже дважды, однако никакого успеха не достиг. Выбравшись из кровати, чтобы выковырять дротики из мишени, он как раз поправлял на стене доску, когда в казарме, словно раненый слон, затрубил Любезноу. Перепоясав чресла полотенцем, Дрисколл отправился посмотреть, в чем дело.
Продолжая сжимать руками колено, Любезноу вприпрыжку двигался по проходу между двумя рядами совершенно голых (бинты не в счет) рекрутов, перемежая гневные тирады протяжными стонами. Как только Дрисколл показался в дверях своей каморки, второй сержант остановился, отчетливо кренясь на левую сторону.
– Что случилось, сержант? – ледяным тоном осведомился Дрисколл.
Любезноу с грацией циркового медведя повернулся к нему.
– Они искалечили меня! – заявил он необычайно высоким, почти жалобным голосом. – Бросили кирпич и попали мне в колено. Взгляни сам, разве это не свинство?
Дрисколл сделал несколько шагов вперед, рассматривая колено Любезноу с выражением благожелательного любопытства.
– Вам следует обратиться к врачу, сержант, – предложил он официальным тоном. – Вынужден, кроме того, напомнить, что за эту комнату отвечаю я. Я разберусь.
Любезноу мрачно посмотрел на него. – Кто-то должен за это ответить!… – с угрозой проговорил он. – Этот случай будет расследовать военный трибунал, так и запомните!
С этими словами он похромал в сторону лестницы. Еще некоторое время до них доносились его многократно повторенные гулкими бетонными стенами жалобы. Наконец плачущий голос Любезноу послышался снаружи, с плаца: вняв совету, сержант отправился будить гарнизонного врача.
Когда Любезноу ушел, холодный взгляд Дри-сколла обежал лица молодых солдат. Потом, сохраняя на лице нейтральное выражение, он ненадолго вышел на балкон и тут же вернулся.
– Умники, – негромко фыркнул сержант, рассматривая подчиненных с новым интересом в глазах. – Эдисоны!… Всем спать. Разбираться будем завтра.
Солдаты полезли под одеяла. Сидни и Пэтси печально посмотрели друг на друга и разошлись по своим кроватям.
Дрисколл подошел к дверям и, выключив свет, негромко сказал, обращаясь к затихающей комнате:
– И советую до завтра избавиться от этой штуки на балконе.
С грохотом захлопнув дверь своей комнаты, Дрисколл схватил с тумбочки полную пригоршню стрелок и метнул их в мишень. Потом он повалился на кровать, стараясь сдержать волну радостного удовлетворения, которая стремительно поднималась в его душе. Тщетно. Воспоминания были слишком свежи, слишком выпуклы. Жаждущий мщения Лю-безноу, волочащий раненую ногу вдоль строя голых, покрытых «гусиной кожей» солдат, вставал перед ним, как живой, и Дрисколл не выдержал. Смех вырвался наружу словно взрыв газа, и сержант даже не пытался его заглушить.
Притихшая казарма услышала этот смех сквозь закрытую дверь и в свою очередь сдавленно забулькала и захихикала. Первые робкие смешки сливались друг с другом, словно весенние ручьи, и наконец ринулись в окна и двери единым бурным потоком, грохочущим и неостановимым. Задорные возгласы, неистовые выкрики и раскатистый хохот доносились с каждой койки, как ни корчились их обладатели под одеялами, как ни затыкали рты подушками и ни свешивали головы к полу.
Бездомные псы на площади перед казармой в страхе затихли и присели на свои поджарые зады. Сержант Любезноу, пытавшийся вытащить из постели гарнизонного врача, прислушивался к этим звукам с подозрением и гневом. И под покровом сотрясающейся от всеобщего веселья темноты Сидни Вильерс выскользнул из постели и, счастливый, юркнул под сень москитьеры над кроватью Пэтси Фостера.
6
С самого утра стояла сильная жара; низкие облака грозили дождем, но не торопились пролиться освежающей влагой, стройные пальмы замерли неподвижно, как люди, поникшие головами в печальном раздумье.
Была суббота, и Филиппа убила целое утро, наблюдая из окна своей спальни, как солдаты пенглинского гарнизона пытаются заниматься военной подготовкой. Чуть ниже пригорка, на котором стоял домик полкового старшины Раскина, лежала рассеченная оврагом долина, половинки которой соединял шаткий деревянный мост. Ближайшая к дому часть долины представляла собой обширное пространство, покрытое красноватой, хорошо утрамбованной сланцевой глиной, на которой ничего не росло. Противоположный берег оврага был, напротив, ярко-зеленым. Чуть дальше торчали над пышной тропической растительностью плоские крыши казарм, похожих на желтые сырные головы.
Разбившись по отделениям, солдаты разошлись по твердому глинистому полю. Все они были в башмаках, гетрах, защитного цвета шортах и беретах, залихватски сдвинутых на правое ухо, но без рубах. Впрочем, никакого интереса для Филиппы они не представляли; она глазела на них только потому, что сегодня был выходной, и ей не надо было идти на работу в детский сад.
Каждую субботу на поле происходило одно и то же. В конторах никто не работал, и личный состав гарнизона делился на две части. Половина солдат отправлялась на расположенное в двух милях от Пенглина стрельбище, где посылала пулю за пулей в безвредные мишени; вторая половина усердно топтала глину, предаваясь тактическим занятиям.
По случаю удушающей жары, которая преследовала ее всю ночь, Филиппа давно сбросила пижамную курточку и осталась в одних панталонах. Лежа на животе, она смотрела в окно, но так, чтобы солдаты внизу не могли ее заметить. В разных концах поля занималось одновременно около десятка секций, и Филиппа увидела отца, который то размахивал своим офицерским стеком, указывая обучаемым на какие-то промахи, то, крепко зажав его под мышкой, с важным видом переходил от одной группы к другой.
Этот стек был хорошо знаком Филиппе. Сколько она себя помнила, отец носил его всегда. Однажды, когда ей было всего шестнадцать, и они жили в Англии, он избил ее этим стеком только потому, что считал кривоногой дурнушкой. Помнится, она заплакала, пытаясь удержать между коленями, икрами и бедрами три холодных монетки по одному пенни, которые отец с непонятным упорством вставлял между ее судорожно стиснутыми ногами. Монетки то и дело падали на пол, и вот тогда-то он выдал ей в первый раз, заявив что она – неряха и не умеет стоять как следует. Мать Филиппы в это время мирно беседовала с черепашкой, которая до появления золотых рыбок была ее любимым домашним животным.
– Попробуй еще раз, – приказал старшина Раскин дочери сквозь стиснутые зубы. – Ну, давай же!… Нет, стой, я сам… – пробормотал он, неожиданно теряя терпение.
Филиппа чувствовала, как дрожат его пальцы, когда он засовывал монетки сначала между жировыми валиками в верхней части ее ляжек, затем между коленями и, наконец, между икрами. И все это время он размахивал в воздухе свободной рукой, не выпуская из кулака красно-коричневого стека.
Дело кончилось тем, что от страха Филиппа вздрогнула и снова уронила монетки. Две нижних выпали первыми, но она еще некоторое время боролась, в ужасе сдвигая ноги и пытаясь удержать третью.
Когда отец снова начал ее пороть, Филиппа сначала только всхлипывала при каждом ударе, а потом извернулась и с неожиданной яростью вцепилась ногтями в его кирпично-красную старшинскую рожу. Отчаяние и страх придали ей силы, и она не прекращала атаки до тех пор, пока не прочертила по отцовской щеке пять глубоких царапин, идущих от скулы к уголку рта. Только после этого Филиппа с громким криком выбежала из комнаты, споткнувшись по дороге о любимую черепаху матери, на что мать негромко заметила ей вслед: – Будь осторожна, Филиппа, деточка!… Старшина Раскин больше никогда не называл ее кривоногой. Но до сих пор Филиппа иногда развлекалась тем, что зажимала ногами три мелких монетки – и никогда не роняла.
На глиняной площадке одетые в шорты солдаты с протяжным «А-а-а-а!» с разбега кололи штыками свисающие с длинной деревянной перекладины мешки с травой. Забежав на другую сторону, они разворачивались и с еще более свирепыми криками снова кололи брезентовые мешки, приканчивая воображаемого противника. В одну из таких суббот в штыковом бою едва не погиб старший клерк-делопроизводитель из бухгалтерии. Зазевавшись, он свернул с тропы не в ту сторону и едва не оказался пронзен штыком какого-то ретивого воина из отдела пайкового довольствия. Занятия были немедленно приостановлены, а всеобщее смятение разрешилось тем, что пострадавшего торжественно снесли в санчасть, где врач наложил на «страшную рану» полудюймовый пластырь.
Сегодня одна группа солдат занималась разборкой ручного пулемета Брена, другая набивала магазины для «стэна», а две секции под командованием капрала Брука отрабатывали тактику борьбы с уличными беспорядками. Выстроившись в две шеренги перед воображаемой толпой возбужденных туземцев, солдаты ждали, пока капрал призовет бунтовщиков к порядку при помощи простой команды «А ну, разойдись!» К несчастью, Брук переживал один из своих знаменитых «затыков» и был не в силах произнести ни слова.
Филиппа обратила внимание на Бригга, когда Дрисколл сбил его наземь ударом локтя. Сержант как раз обучал вверенное ему подразделение искусству маскировки и камуфляжа, когда Бригг негромко выругался.
– Выйди-ка сюда, сынок, – сказал Дрисколл, моментально останавливаясь.
Бригг повиновался.
– Ты, кажется, что-то сказал? – спросил сержант.
– Нет, сарж, ничего особенного.
– А мне послышалось, что ты как-то меня назвал. Может, повторишь?…
– Что вы, сержант, – поспешно возразил Бригг. – Я сказал это не вам, а Таскеру.
Остальные захихикали, но Дрисколл приказал им заткнуться.
– Тебе никогда не приходилось участвовать в рукопашном бою, Бригг? – спросил он.
– Нет, – честно признался тот.
– Я хочу показать тебе один прием, – продолжал сержант. – Вот смотри… У каждого человека, даже у такого худого как ты, есть на животе пара-другая складок кожи. Надо схватить их вот так и повернуть вот так…
Он сжал между пальцами примерно две унции бригговой плоти и резко повернул кисть. Бригг заорал и, совершив в воздухе изящный кульбит, упал лицом вниз на утоптанную глину, задрав в небо тощий зад. Вокруг снова захохотали; не смеялись только Бригг и Дрисколл.
– Ну, давай, сынок, давай, ударь меня, – негромко сказал сержант, внимательно наблюдавший за выражением лица Бригга.
– С удовольствием! – прорычал Бригг, отплевываясь. Вскочив на ноги, он ринулся на Дрисколла, но сержант лениво приподнял локоть на высоту плеча, и Бригг сам врезался в него скулой. Удар вышел таким сильным, что Бригг опрокинулся на спину, нелепо перебирая в воздухе худыми ногами. В голове у него гудело, как в тоннеле, по которому мчится груженый состав.
– Ну как, достаточно? – спросил Дрисколл нормальным голосом. – Вот и хорошо. Вставай, парень.
Бригг, потирая щеку, поднялся.
– Ну-ка, посмотрим, что тут у нас… – Сержант внимательно осмотрел его лицо. – Никаких повреждений. Ступай в строй. В перерыве на чай куплю тебе трубочку с кремом.
Полковой старшина Раскин покинул красное глинистое поле ровно в полдень и, поднявшись по вырубленным в земле ступенькам, двинулся по тропинке, ведущей к дому. У него было полное, слегка одутловатое лицо с тоненьким серпиком усов под носом, голубые, точно у куклы, глаза и редкие светло-желтые волосы. Как и у большинства военнослужащих пенглинского гарнизона, верх и низ полевой формы старшины Раскина были разного оттенка, а брезентовый ремень он носил так низко, что край кителя топорщился из-под него словно неровная, грязноватая балетная пачка.
Толкнув дверь, Раскин вошел в прохладную прихожую. Его жена по обыкновению сидела в гостиной и беседовала со своими золотыми рыбками, то и дело спрашивая у них, который час.
Старшина сделал еще несколько шагов и, повесив ремень на столб, поддерживавший галерею второго этажа, стал снимать ботинки.
На ботинки налипло немного красноватой пыли, и Раскин, поставив их в неглубокий поддон под вешалкой, аккуратно подобрал с пола три крошечных комочка глины. Миссис Раскин сообщила золотым рыбкам, что только что пробило двенадцать и, заметив мужа, приветствовала его высоким, тонким голоском. Раскин не ответил и в одних носках поднялся в комнату дочери.
Постучавшись, он толкнул дверь и вошел в спальню Филиппы. Она, все еще в одних панталонах, сидела перед трюмо и накладывала на лицо крем. Завидев в зеркале отца, Филиппа быстро прикрыла грудь сложенными крест-накрест руками и раздраженно крикнула:
– Почему ты никогда не стучишься, прежде чем войти?!
Старшина Раскин неловко переступил с ноги на ногу. Лицо его стало почти таким же красным, как у дочери. Воспользовавшись его замешательством, Филиппа метнулась к гардеробу и накинула на плечи домашнюю курточку.
– Я стучал, – пробормотал Раскин. – Честное слово, стучал.
– Ага, постучал и сразу вошел! – огрызнулась Филиппа.
– Замолчи сейчас же! – закричал и Раскин. – Замолчи, слышишь?!
После этого в комнате неожиданно наступила тишина. Отец и дочь стояли по обеим сторонам широкой кровати, в упор рассматривая друг друга.
– Почему мы все время ссоримся? – негромко спросил Раскин. – Почему?
– Потому что мы ненавидим друг друга, – резонно ответила Филиппа и снова уселась перед трюмо. Демонстративно не замечая отца, она продолжала мазать лицо кремом.
– Это неправда, – печально сказал Раскин. – Неправда. Когда-то у нас все было хорошо. Просто с тобой стало трудно ладить, ты сама это знаешь…
– А ты врываешься в мою комнату, даже не постучав, – парировала Филиппа.
– Я стучал, – еще раз повторил Раскин. – Извини, пожалуйста…
Он стоял и смотрел на дочь, но Филиппа больше ничего не прибавила. Раскин был вынужден первым нарушить молчание.
– Я извинился, – с нажимом сказал он. – Извинился. Не так уж часто я перед тобой извиняюсь, не так ли?
– Что верно, то верно, – вздохнула Филиппа. – Ну да ладно. Что ты хотел мне сказать?
– Сегодня вечером в гарнизоне будет вечер отдыха. И танцы.
– О, Господи! – воскликнула Филиппа. – Только не это!… Если ты думаешь, что я просто мечтаю, чтобы каждый опившийся пивом капрал рыгал мне в лицо, то ты сильно ошибаешься.
Когда Раскин снова заговорил, в его голосе прозвучали властные нотки.
– Ты пойдешь, – медленно проговорил он. – Говорю тебе, ты туда пойдешь. Танцы бывают не так уж часто – всего один раз каждые три или четыре месяца.
Филиппа бросила быстрый взгляд на его отражение в зеркале.
– Нет, – сказала она, но голос ее предательски дрогнул. Она боялась. – Я не хочу…
– Полковник… – начал Раскин.
– Ну вот, опять «полковник»!… – перебила Филиппа, и на этот раз ее голос прозвучал гораздо увереннее. – Можно подумать, что я – единственное развлечение в лагере или что-то вроде того. Он, небось, говорил, что тебе следовало бы привести меня с собой, а ты встал по стойке «смирно», отдал честь и сказал: «Слушаюсь, сэр! Я прослежу, чтобы она пришла, сэр!» Нет уж, с меня хватит и прошлого раза.
– Не ври, Филиппа, – сказал Раскин своим самым отвратительным тоном и, наклонившись к ее плечу, взглянул на дочь в зеркало. – В прошлый раз тебя не было на танцах.
– Ну, значит это был позапрошлый раз, – брезгливо ответила Филиппа. – Все равно это было ужасно. Или ты думаешь, что я – обычная шлюха из Женской вспомогательной службы? Так вот, я не шлюха!
Раскин повернулся и пошел к двери.
– Не забудь приготовиться, – сказал он деревянным голосом. – Начало ровно в восемь.
Филиппа повернулась к нему.
– Я не хочу! – дрожа воскликнула она. – Не хочу и не могу! Ты не можешь меня заставить!
Услышав эти слова, Раскин потерял терпение, и это было то самое, чего так боялась Филиппа. Отец надвинулся на нее огромными шагами и, схватив за плечи, рывком повернул к себе. Филиппа в ужасе замерла на низеньком стуле; ее самообладания хватило только на то, чтобы крепче запахнуть на груди лацканы домашней тужурки. Не выпуская плечей дочери, Раскин яростно встряхнул ее.
– Я могу тебя заставить и заставлю! – прогремел он прямо в лицо Филиппы, и она почувствовала на щеках брызги слюны. – Заставлю!
Перестав трясти дочь, Раскин наклонился еще ниже и прошипел:
– Ты знаешь, что о тебе говорят в гарнизоне? Знаешь?! Они говорят, что ты – лесбиянка! Говорят, что ты предпочитаешь женщин! Тебе ясно? Ясно, я тебя спрашиваю?!
Филиппа разрыдалась. Слезы катились по щекам, повисали на подбородке и щипали шею. Крем на лице не давал им растекаться, и каждая путешествующая вниз капелька долго сохраняла безупречно округлую форму.
– Это ложь! – всхлипнула она. – Как они могут говорить такое? Это жестоко, жестоко, жестоко! Никто из них меня не знает!
– Я просто посвятил тебя в то, что творится за стенами нашего дома, – негромко сказал Раскин, внезапно растеряв весь свой пыл. – Я слышал это своими собственными ушами.








