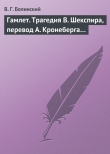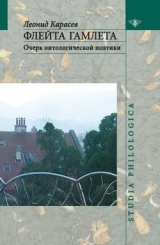
Текст книги "Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики"
Автор книги: Леонид Карасев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Если верно, что жизнь – это изменение, тогда то же самое можно сказать и о жизни текста. Сохраняя в себе постоянное количество знаков, он постоянно изменяется, причем нередко очень существенно. Десятки, сотни прочтений делают свое дело: исчезает, так сказать, исходная точка прочтения. Начало жизни хрестоматийного произведения теряется в тумане времени, и каждое «новое» прочтение оказывается отнюдь не возвращением к мифическому Началу (т. е. моменту написания), а чаще всего ответом на прочтение предыдущее, имеющее столь же мало общего с «оригиналом», сколь и оно само. Изменения затрагивают все уровни текста, в том числе и его онтологическую подоснову. Происходит что-то вроде схематизации или уплотнения текста. Хрестоматийное произведение становится настолько обкатанным, знакомым, что при разговоре о нем исчезает потребность каждый раз заново излагать сюжет или перечислять персонажи – все и так известно. В итоге, для того чтобы включить текст в поле обсуждения, достаточно лишь упомянуть его название или эмблему, т. е. какую-то прославленную, всем хорошо знакомую сцену, фразу или деталь. Иначе говоря, если текст глубоко вошел в культуру, в вещество литературы, это означает, что он живет не всем массивом, а по преимуществу благодаря своим эмблемам.
Иногда эмблема объявляет себя сразу и выступает как визитная карточка текста с самого начала. Иногда процесс эмблематизации затягивается: время ищет в тексте то, что ему нужно, и останавливается на той точке, которая способна стать полномочным представителем текста. Превращение текста в эмблему, замещение его эмблемой – иллюстрация к принципу «экономии мышления»: в культуре, т. е. в сфере тотального оперирования смыслами, эта замена оказывается очень удобной. Вместо всей цепочки идей, событий, характеров берется смысловая точка, конспективно, сжато содержащая в себе всю эту последовательность или же намекающая на нее тем или иным образом. Нечто похожее происходит и с научными теориями. Они довольно быстро начинают схематизироваться, уплотняться; место трактатов занимают дайджесты, отдельные цитаты или формулировки и, наконец, эмблемы, напоминающие нам о содержании, о главном в нем. Образ виноградной лозы становится эмблемой натуральной эстетики Ипполита Тена, а бильярдный шар, отскакивающий от стенок стола, представляет концепцию К. Леви-Строса; возможны и концептуальные эмблемы: «Эго» и «либидо» З. Фрейда или «архетип» К. Г. Юнга, «деконструкция» Ж. Деррида.
Эмблема должна быть узнаваемой. Узнав же ее, войдя в эмблему, мы оказываемся в отбрасываемой ею символической тени, накрывающей подчас все произведение. Живописец может изобразить множество событий из жизни библейского Самсона, не надеясь на то, что узнавание будет мгновенным и безошибочным. Однако если дать в руки Самсону ослиную челюсть или нарисовать как его стригут, то никаких разъяснений уже не потребуется. За деталью, занимающей крохотное место в тексте, встанет весь текст.
Однако деталь детали рознь. «Уликовая парадигма», описанная Карлом Гинзбургом, предполагает внимание к деталям, заведомо мелким, незаметным; это праздник ничтожных подробностей, которые как раз тем и сильны, что усыпляют автора и заставляют его «проговориться»[5]5
Гинзбург К. Приметы: уликовая парадигма и ее корни // НЛО. 1994. № 8. С. 32—61.
[Закрыть]. Особенность онтологического интереса к деталям в том, что это чаще всего интерес к вещам хрестоматийным, отмеченным, прославленным; это внимание к фразам-визиткам, порогам, эмблемам. «Троянский конь» напомнит об «Илиаде», эмблемой «Дон Кихота» станет всадник, скачущий к ветряным мельницам, герой, стоящий у могилы с черепом в руках, вернее всего укажет на «Гамлета», поднимающийся по лестнице студент с топором – на «Преступление и наказание».
Эмблема может оказаться и «равной» всему тексту, пройти по нему сплошной линией или пунктиром. Таков «Прометей прикованный» Эсхила: название трагедии тут фактически совпадает с самим действием. Таковы «Вишневый сад» Чехова или «Стулья» Ионеско. Чем «классичнее», «хрестоматийнее» текст, тем больше в нем эмблем и тем более его эмблемы знамениты. В «Гамлете» эмблемами будут и встреча с Призраком, и «мышеловка», и фраза «Есть многое на свете…», и «Бедный Йорик» и т. д. Однако и у эмблем есть иерархия: в их ряду имеется самая главная, самая прославленная. В «Гамлете» среди эмблем зримых на первом месте, скорее всего, окажется человек, держащий в руках череп, а среди эмблем-фраз главной станет знаменитая альтернатива: «Быть или не быть».
Если текст прославил себя за пределами породившей его культуры, встал в ряд мировых памятников, это означает, что и его эмблемы также приобрели характер универсальных. Когда речь идет об эмблемах первого ряда, различия в их восприятии стираются, или, во всяком случае, отступают назад. Немец или англичанин видят в эмблеме «Дон Кихота» то же самое, что и испанец. Это происходит потому, что образ скачущего к ветряным мельницам рыцаря в определенном смысле перестал быть образом в привычном значении этого слова. Он стал настолько «стертым» и одновременно самодостаточным, в себе самом завершенным, что начал блокировать читательские интенции, идущие далее к стоящему за ним тексту. Свойство эмблемы в том, что она, подобно зеркалу, отражает брошенный на нее взгляд, временно «ослепляя» того, кто с ней столкнулся. Другое дело, что выполнив свою роль, т. е. «назвав» текст, напомнив о нем, она быстро сходит на нет, как бы засыпает. Пафос универсального согласия, всеобщего узнавания сменяется столкновением индивидуальных прочтений, личных образов прочитанного, перекличкой персональных мифологий. Так возникает «Дон Кихот» испанца, мало похожий на «Дон Кихота» немца, так возникает любой лично прочитанный, прочувствованный «Дон Кихот».
В принципе каждое хрестоматийное произведение, сумевшее так или иначе дожить до сегодняшнего дня, может быть описано через обозначающие его эмблемы. Эмблемы-фразы: «Молилась ли ты на ночь?», «Остановись, мгновенье», «Многоуважаемый шкап».
Эмблемы-вещи: топор, чиновничья шинель, железная маска, хрустальная туфелька, стакан воды, кусок шагрени. Эмблемы-звуки: шаги командора, рог Роланда, лопнувшая струна.
В эмблемах – не всегда, конечно, но весьма часто – обнажается онтологическое «дно» текста. Многочисленные прочтения делают свое дело: эмблема как бы отслаивается от текста, позволяя взглянуть на скрывавшуюся под ней подоснову. Мы притрагиваемся к онтологической схеме текста, к его «началу», или «исходному смыслу».
Исходный смыслТермин «исходный» и в самом деле предполагает какое-то «начало». Однако о каком начале может идти речь – авторском, читательском, внеличностном, стилевом, историческом? Похоже, обо всех сразу, только измерения тут берутся не биографические или историко-эстетические, а природно-бытийные, пространственно-текстурные, шире – энергийные. И хотя от личного восприятия никуда не уйти (а этого и не нужно делать), увиденное или понятое выходит за рамки и текста, и автора, и читателя. Речь о том, что составляет тканевую подоснову Бытия, определяет его формы, очерчивает пустоты, задает направления, рождает запахи, отделяет низ от верха, а свет от тьмы.
Человек – часть и, в некотором смысле, центр мира, поэтому все, что ни есть в мире, так или иначе касается и его самого, сходится в нем в единую точку. Вот почему, когда мы размышляем о таких, вроде бы, отвлеченных вещах, как только что перечисленные, мы все время говорим о человеке, толкуем человека. Вещи «обличают» нас, говорил Г. Мейер, имея в виду вещи-предметы. То же самое можно сказать и о «вещах» в метафизическом смысле этого слова – о вещах мира. Изучение биографий писателей, разграничение или сопоставление культурно-исторических эпох, анализ особенностей стиля автора, школы или направления важны, но ограничиваться этим нельзя. Что мы исследуем – вот в чем вопрос. Ведь текст изучают не ради самого текста, стиль не ради стиля, а эпоху не ради эпохи. Говоря о литературе, мы в конечном счете надеемся приблизиться к тайне мира, к тайне человека, живущего и умирающего в этом мире. Поэтому, говоря о стилях, направлениях, биографиях, архивах, придерживаясь тех или иных идейных позиций, нужно помнить об эфемерности, условности перегородок, отделяющих их друг от друга. Человек сказывается в стиле, стиль в человеке, их пронизывает язык эпохи, а сама эпоха – не что иное, как переплетение человеческих судеб, волений, исканий, в том числе – и в области стиля и языка. Шекспир очень интересен, однако если выяснится, что шекспировские пьесы написал кто-то другой, о ком мы вообще ничего не знаем, сами пьесы от этого ничего не потеряют. Шекспировские пьесы очень интересны, однако ими мир человека не исчерпывается: они – всего лишь одна из дверей, ведущих нас к тайне человека, независимо от того, в каком времени и в какой культуре он живет. У людей много различий, но у людей много и общего. То, как это «общее» проявляет себя в конкретном произведении, как оно формирует текст, проявляет – через себя – и автора, и читателя, и составляет интерес онтологически ориентированной поэтики.
Однако если бы дело было только в исходных «безличных» или «надличностных» категориях, тогда можно было бы вполне ограничиться изучением фольклора или массовой литературы. К чему тревожить сочинения Толстого и Шекспира ради обнаружения в них каких-то общих мест и архетипов, если эти самые общие места и архетипы буквально выпрыгивают из любого третьесортного детективного романа? Онтологический поиск – это не поиск архетипов в юнговском понимании этого термина; если архетипы и попадают в поле внимания, то понимаются, прочитываются иначе, на каком-то другом уровне. На первое место выходит неослабевающее удивление перед бытием, наличествованием мира. Создается положение, когда позволительно задавать «нелепые» вопросы, дотрагиваться пальцем до знакомых предметов, переспрашивая, как они называются и для чего служат. Почему одни вещества твердые, а другие – жидкие? Почему одни предметы больше других и что вообще значит «больше»? Почему дерево растет сразу в двух направлениях – вверх и вниз? Почему на руке пять пальцев, почему похожие лица вызывают удивление, а непохожие не вызывают? Почему, если перейти к собственно литературе, определенные вещи написаны именно так, а не как-то иначе? Как так вышло, что однажды в детстве покрашенные охрой волосы Гуинплена так и остались на всю жизнь рыжими (ведь волосы растут)? Почему Раскольников видит в своем бреду биллиард? Почему чеховские сестры не едут в Москву, хотя им ничего не стоит это сделать? Почему Д'Артаньяна разносит пушечным ядром, а Портос гибнет под каменной плитой? Почему в финале «Фауста» говорится о сооружении дамбы, а не дороги или моста? В чем онтологический смысл этих подробностей? Хотя полностью избавиться от социальных, идеологических, стилистических коннотаций невозможно, важно то, какое им будет уделено место – станут ли они целью исследования, или лишь привлекаемым при необходимости средством.
Если текст существует, значит он обладает сущностью: игра словами здесь не случайна. В нем есть какой-то стержень, дающий ему силы быть собой, в нем есть нечто, делающее его узнаваемым, отличным от всех других текстов. Я имею в виду не «официальную» цель автора написать роман об определенных событиях или утвердить вполне определенную мысль (хотя бывает и такое). Речь идет об исходном смысле, который фактически равен всему произведению; о том, без чего оно не может существовать как нечто целостное и оформленное. Возможно, это какое-то чувство, возможно, мысль или идея. В любом случае надо говорить о симплеме, т. е. о чем-то изначальном, внятном и, следовательно, простом. «Простом» в том глубоком значении этого слова, которое внятно людям, уже имевшим дело со «сложными» вещами и понявшим, что наибольшие сложности кроются в простоте: чем проще, тем сложнее.
Путь к выявлению «простых», или «исходных», смыслов лежит через интроспекцию и интуицию. Объяснения Н. Хомского и А. Вежбицкой, четко уловивших и описавших эту связку, ее роль в анализе «простых» вещей, избавляют меня от необходимости приводить свои собственные доводы. Особенно хорош пассаж из «Семантических примитивов» А. Вежбицкой, и хотя у нее идет речь о лингвистике, а не о «теории смыслов», существо подхода остается тем же самым (возможно потому, что, по сути, задача ставится та же самая). «.Почему лингвистическая интуиция какого бы то ни было отдельного лица должна представлять особый интерес или ценность? Не лучше ли было бы изучать лингвистическую интуицию носителя языка или «среднего» носителя языка?
Это возражение должно быть снято, по крайней мере, по двум соображениям. Во-первых, исследователь имеет непосредственный доступ только к собственной интуиции, и лишь на этой основе он может изучать интуицию других людей. И во-вторых, я полагаю, что интуиции разных носителей языка практически совпадают. Таким образом, исследование и описание интуиции отдельного лица равносильно исследованию и описанию интуиции всех носителей языка.
Природа интуиции такова, что методом ее исследования неизбежно может быть только интроспекция. Однако следует подчеркнуть, что интроспекция означает не какое-то случайное «мне кажется», а систематическое, упорное проникновение в глубины своего языкового сознания. Первые семантические впечатления различных людей, включая исследователей, часто значительно различаются. Да и собственные впечатления могут в разные дни быть различными. Исследованию подлежит глубинная интуиция, очищенная от всяких поверхностных ассоциаций и предрассудков, приобретенных вместе с лингвистическим образованием, от ложных впечатлений, подсказанных языковыми формами, и т. п.»[6]6
Вежбицка А. Семантические прмитивы. Введение // Семиотика. М., 1983. С. 245—246.
[Закрыть]. Применительно к нашему случаю, т. е. к онтологическому анализу текста, это означает, что решающий шаг внутрь произведения, к его подоснове делается на основе неожиданно возникшего, а затем многократно проверенного ощущения того, что между хорошо знакомыми элементами текста возникла какая-то новая – неслучайная – связь. Онтологически прочитанные «пороги» и «эмблемы» текста, а вслед за ними весь текст выдают свои секреты, вернее, показывают, что никаких секретов, собственно, и не было, что все лежало на виду. Появляется своего рода отправная точка, «ключевое слово», указывающее на то, как устроена онтологическая схема произведения.
Каким бы хитроумным и сложным ни был сюжет, сколько бы подробностей в нем ни фигурировало, на интересующем нас уровне содержания «идея» текста определяется, задается лишь несколькими, а иногда и одной мыслью или чувством. Это и есть, собственно, то, что я называю «исходным смыслом». Смысл обозримый, целокупный, равный себе, неделимый. Это как-то перекликается и с «фигурами» Ельмслева, и с «базовыми» понятиями Сепира, и с «семантическими маркерами» Бирвиша, но в то же время не сводится ни к их совокупности, ни к каждому из них в отдельности. Что такое «простота» смысла, истолкованная через качество неделимости, как будто понятно: далее не делится, и все. Вопрос, однако, в том, что понимать под «неделимостью». Опуская различные критерии, к которым прибегают лингвистика и семантика при определении «простоты» того или иного понятия, я хочу обратить внимание на саму проблему делимости или разложимости тех или иных целокупностей. В принципе можно разделить все что угодно. Поэтому, вероятно, критерием простоты должна быть не формальная возможность разделения чего-либо, а то, сохранит ли свой смысл, свое «качество» после этой процедуры идея, чувство, понятие, или же нет. Иначе говоря, «простыми» могут оказаться не только какие-то очевидно элементарные, но и достаточно сложные образования. Иерархия простоты и сложности, таким образом, задается не числом элементов, составляющих ту или иную целостность, а самим стержнем, «идеей», которые определяют данную вещь как целостность. Человек, например, представляет собой очень организованную систему, и вместе с тем смысл его как живущего, живого существа очень прост: он либо жив, либо нет. Исходный смысл в данном случае невозможно упростить, его нельзя поделить на части, не потеряв при этом самого этого смысла. Мы вполне можем разделить, разбить на части понятия или идеи «счастья», «покоя» и «воли» у Пушкина или смысл возвращения в материнскую утробу у Платонова, но что останется после этого от самих смыслов? Можно еще не значит – нужно.
У Достоевского в числе «исходных» имеется, например, смысл или мотив отделения головы от тела, и, хотя нечто подобное можно встретить и у других авторов, сила и своеобразие, с каким этот смысл сказался в романах Достоевского, делают его «конструктивным» (если позволительно так выразиться в данном случае) принципом и в «Преступлении и наказании», и в «Идиоте», и в «Братьях Карамазовых». Мысль о том, что человеку можно отрезать голову, настолько глубоко поразила Достоевского, что для «разрешения» этой мысли ему потребовались сотни страниц текста, наполненного подробностями, на первый взгляд, не имеющими к исходному смыслу отрезания головы никакого отношения. Нечто в этом роде имеет в виду Ж. Делез, когда говорит в «Логике смысла», что все творчество Фицджеральда представляет собой раскрытие мысли о жизни, как о постоянном разложении. Это как будто приходит в противоречие с делезовским тезисом о том, что смысл не восстанавливается, а всегда заново создается; для меня, впрочем, тут проблемы нет, так как «исходность» смысла – не более чем абстракция, идеальное условие, помогающее увидеть смысл в его движении, самораскрытии, а значит, в постоянной создаваемости.
У Шарлотты Бронте в «Джейн Эйр» в число исходных смыслов входит тема смеха. И хотя привлечение смеха как конструктивного элемента почти наверняка не входило в сознательную задачу автора, так вышло «само собой». Онтологический срез обнаруживает в «Джейн Эйр» немало важных ходов и символических деталей, прямо или опосредованно связанных с символом смеха, – начиная с безумия жены Рочестера и пожара, возникшего в комнате, и кончая тем, что Рочестер лишается одного глаза.
Пример «Джейн Эйр» указывает нам путь в сторону мифологии, где исходные смыслы составляют, так сказать, и условие, и цель повествования. Любой миф со всем многообразием входящих в него деталей может быть сведен к одному, двум или трем мотивам, ради которых эти детали, собственно, и были «подобраны». Я. Голосовкер называл это «кривой смысла»[7]7
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М., 1987. С. 217.
[Закрыть], т. е. сквозным движением через варианты; в трансформационной мифологии К. Леви-Стросса это «пучки функций» или «медиаторы».
С литературой, в собственном смысле слова, дело обстоит труднее: тут двумя мотивами всего не объяснишь, хотя, пройдя путь от сплошного восприятия текста до выявления его стержня, видишь, что и в «двух мотивах» умещается очень многое. Ироническая попытка Льва Толстого передать в одной фразе содержание романа «Анна Каренина» содержит в себе не только иронию. Другое дело, что события, перечисленные Толстым, по большей части относятся к разряду внешних подробностей, тогда как нечто исходное, глубинное, ради чего эти «подробности» и появились, осталось неназванным. Толстой, например, вряд ли догадывался о том, что одним из скрытых, но очень мощных двигателей его сочинительства был исходный смысл ожидания надвигающейся силы. В романах Толстого четко просматривается одна и та же по сути, но принимающая различные облики ситуация: персонаж замирает, затихает, напряженно бездействует, ожидая, когда эта сила – подчас смертельная – надвинется на него, свершит в нем свою волю, подчинит себе.
Исходный смысл не есть «основная мысль» текста. И это также не его «центральный мотив», поскольку мотив отторжим от текста, а исходный смысл – без его умерщвления – нет (об этом я писал в книге «Вещество литературы» в разделе «Текст и энергия»).
Исходный смысл не есть «главная» метафора произведения, поскольку метафора представляет собой фигуру переноса и соответственно игру на получившемся контрасте. В исходном смысле же нет ни переноса, ни игры. Это основа, нерв текста, его отправная точка и одновременно цель (правда, никогда не достигаемая).
Исходный смысл не есть «содержание» и (или) «форма», поскольку он осциллирует между ними, поддерживая основную интенцию произведения и его целостность, понятую прежде всего как целостность живого организма, сопротивляющегося угрозе гибели (о проблеме финала-смерти речь также шла в предыдущем разделе). Иначе говоря, исходный смысл есть то, с помощью чего осуществляют себя в тексте и содержание, и форма, это своего рода условие существования и того, и другого, если, конечно, мы говорим о художественном произведении в настоящем смысле этого слова, то есть о чем-то искреннем, талантливом, живом. В этом отношении мне достаточно понятна позиция Р. Якобсона, пытавшегося нащупать то, что соединяет внешнюю форму статуи Фальконе (длительность) и заключенный в ней смысл (идея жизни): для Якобсона это связующее «нечто» есть «образ продолжающейся жизни».
Исходный смысл (или симплема) – понятие не литературоведческое, а философское. Иначе говоря, оно, впитывая в себя опыт различных способов анализа текста, описывает его жизнь на том уровне, который связан областью метафизического умозрения и определяет себя в таких терминах, как «энергия», «интенция», «цель», «бытие».
Уловить исходный смысл – значит получить счастливую возможность прочесть хорошо знакомый – прославленный – текст по-новому. По-новому не ради самой новизны, не ради новизны любой ценой. Эпоха подсказывает, выбирает то, что ей интересно в тексте: сегодня это одно, завтра, возможно, что-то другое. Угаданный исходный смысл позволяет отыскать в тексте некоторую символическую линию, проследить за тем, как она движется, как сказывается в различных точках: то в эмблемах или порогах, то в онтологической подоснове сюжета. Обнаружив такую линию, мы можем пройти по тексту иначе, чем это делалось прежде. Мы начинаем видеть, как живет исходная идея или чувство, как они видоизменяются. Начав свое движение в одном облике, исходный смысл перераспределяет свою энергию, трансформируется по ходу действия, не меняя при этом внутренней сути. «Память» о начале, исходе сидит в нем очень крепко. Смысл может ослабевать, замирать, раздваиваться, менять маски, но никогда не изменяет своей природе. Иначе говоря, временно «забыв» обо всем остальном, что есть в тексте, мы остаемся один на один с его энергийным импульсом, исходным неуничтожимым смыслом и его символическими воплощениями – иноформами.