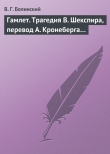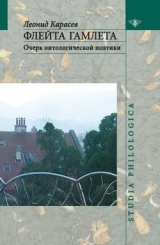
Текст книги "Флейта Гамлета: Очерк онтологической поэтики"
Автор книги: Леонид Карасев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Рассмотреть поэтику отдельно от онтологии все равно не удастся. Поэтому теперь, когда мы непосредственно займемся литературой, и прежде всего, тем слоем, где сказываются смыслы бытия наличествующего, выпирающего за «обычные» свои границы, обращения к области онтологии будут неизбежны.
Текст – собрат бытия, его инвариант. Наложение профилей реальности внешней (описываемой) и внутренней (авторской) создают «рельеф» текста, способный воздействовать на читателя с особой силой в тех точках, где его интуиции совпадают, накладываются на авторские. Начинается разговор на исходном онтологическом языке, и именно такого рода «реплики» или «дискуссии» являются главным предметом онтологической поэтики. Временно отвлекаясь от того, что происходит, она обращает внимание на то, как это происходит: «как» не в формалистском смысле «приема», а в смысле феноменальной явлен-ности, так сказать, «формы» описываемого события, выбора именно такого рода движения, пространства, звука или вещества, а не какого-либо иного. Читая роман, можно заинтересоваться, почему автор упоминает картину, изображающую Женевское озеро, а можно остановить свой взгляд на факте упоминания воды – ведь озеро, в том числе и Женевское, это прежде всего вода. В первом случае анализ уведет нас к социологии и эстетике (Швейцария, культура, высшее общество, курорт, красивый ландшафт и т. д.), во втором – к проблеме вещества, к вопросу о том, почему в определенный момент в определенном месте повествования появляется именно изображение воды, а не, скажем, дерева или дома. Само собой, я имею в виду не любые подробности текста, а места наиболее знаменитые, отмеченные особым авторским и читательским вниманием.
Почему отец Гамлета отравлен не «обычным» образом, а ядом, влитым в ухо? Почему колокольчик, в который звонил Раскольников, имел странный надтреснутый звук, как будто был сделан не из меди, а из жести? Если же говорить о вещах более широких, то можно, продолжив метафору «рельефа», представить себе онтологический анализ текста в виде взаимодействия воды и суши. В силу своей универсальности и широты (что может быть шире факта наличия или отсутствия?) онтологические меры напоминают воду: трудно различимая сама по себе, вода способна выделить и определить то, с чем она соприкасается. Ее аморфность приобретает в таких случаях выраженные моделирующие свойства. Так, подобно островам в океане, начинают проступать очертания «островов» Шекспира или Достоевского: я имею в виду не их очевидные «идеологические» различия, а особенности явленных в тексте персональных онтологий. Общее начинает определять частное, а частное – общее. «Частное» и «общее» я мыслю в традиционном гегелевском ключе: вещи отличает друг от друга то же самое, что и объединяет. Предметы синего, розового и белого цвета отличаются друг от друга благодаря тому, что все они имеют цвет; то же самое относится и к явленным в тексте «формам» вещей, к «протяженностям», «плотностям», «пустотам», «запахам» и т. п.
В своем интересе к феноменальной явленности мира онтологическая поэтика не одинока; в этом смысле она представляет собой одну из возможных интеллектуальных стратегий, разворачивающихся в последние десятилетия на фоне общего внимания к проблемам «натуры», «вещества» и «телесности». Упомянув в названии работы рядом с «поэтикой» «онтологию» и разумея под последней прежде всего материальную ткань мира, я хотел помимо всего прочего напомнить этим о существенном изменении в сфере гуманитарных стратегий, которое произошло со времен написания «Лингвистики и поэтики» Р. Якобсона[3]3
Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против» М., 1975. С. 193—230.
[Закрыть]. Речь не об оценке истинности или неистинности ориентации лингвистического типа, а о том, что в известном смысле «лингвистика» и «онтология» представляют собой полярности, ибо если в первом случае на первом месте оказывается язык, система знаков, возвышающаяся над материально оформленной реальностью, то во втором все обстоит иначе – текст оказывается «проводником» в глубины, лежащие под «дневной поверхностью» бытия. И хотя структуралистские поэтики не однажды обращали внимание на «натуральную» сторону дела, онтологический подход отличается самой решительной сменой акцентов.
Текст как бы висит над реальностью, он – ее «идеальный» образ; соответственно всякая форма лингвистического анализа будет находиться на этом же или еще более высоком уровне. В этом отношении линия исследований, связанная с проблемами «значения» и «истинности» речевых актов – от Дж. Остина до Дж. Серля – оказывается линией подчеркнуто «надбытийной». Само намерение проверить возможности языка, его «искренность», найти четкие соответствия между сферами значения и употребления вполне понятно, однако, все это имеет смысл до той черты, за которой выясняется, что так называемые «условия истинности высказывания» (М. Даммит и др.) ничего не говорят нам об истине, взятой в ее субстанциальном срезе. И даже если мы вырвемся за пределы круга, где «употребление» эквивалентно «значению», вопрос об истинности высказываний, и, соответственно, об истине, на которую эти высказывания направлены (иначе они бессмысленны), решен не будет.
Если говорить об онтологическом подходе, то здесь вопрос об истине задается в форме, охватывающей собой и язык, на котором описывается бытие, и само бытие. Истина – это то, что есть: «есть» в смысле наивно-вещественном, витальном; «есть» – в смысле антитезы отсутствия чего-либо. Истина не может быть связана с онтологической пустотой или ущербностью, она – синоним самоценного существования, пребывания. Если пользоваться терминологией позднего Хайдеггера, то «присутствие» и «теперь» здесь особым образом сливаются: в «теперь» слышатся голоса «присутствия» как фундаментальной данности. Для человека все это означает только одно – выход к горизонту, где истина-жизнь объявляет себя в своей абсолютной перспективе. Истина – в преодолении смерти; это противостояние бытию—конечности. Человек, таким образом, оказывается и средством, и целью фундаментального бытийного сдвига, а неприятие смерти – «супракодом» человеческого существования (С. Хоружий).
Все это имеет прямое отношение к проблемам «онтологии текста», так как исходной, хотя и не обязательно всякий раз называемой, точкой отсчета тут выступает сопоставление шансов двух противоборствующих сил: понятия «жизни» и «смерти» могут как угодно переиначиваться, переплетаться, маскироваться, но именно их конкретное сочетание определит собой то, что я называю «онтологической схемой» текста. Пробиться же к ней помогает взгляд, обращающий внимание и на само «чудо» наличествования, явленности некоторого положения вещей, и на то, как это положение устроено. Так начинается движение сквозь текст, сквозь описываемую им реальность к ее подоснове, к тому, что не всегда описывается, но всегда предполагается. Само собой, обязательным будет и движение возвратное – к тексту, к персональной мифологии (или, что то же самое, онтологии) автора. Если прибегнуть к «языкоцентристской» схеме В. Топорова, предполагающей возможность движения выше или ниже уровня языка, то онтологическая стратегия окажется наиболее последовательным и решительным спуском вниз, или вернее, вглубь; спуском не только к вещам, созданным человеком и потому несущим за них ответственость, к вещам в их «антропоцентрической перспективе»[4]4
Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифо-поэтического. М., 1995. С. 7—111.
[Закрыть], но и к вещам вообще, к самой данности, субстанции, текстуре.
Онтологический взгляд предполагает смену позиций видения: природа берет верх над культурой, вещество – над символом, факт наличия вещи – над возможностью ее использования, утилизации. Отсюда – выраженный отказ от поиска и учета интертекстуальных связей, скрытых или явных цитат, идеологических и стилистических заимствований; отказ от рассмотрения текста как чего-то такого, что состоит из «кусочков» других текстов, их отражений или интервенций. Отказ этот, само собой, мотивирован не тем, что интертекстуальный подход недостаточен, а тем, что онтологический интерес – совсем в другом. Хотя он тоже нацелен на выход за рамки конкретного авторского сочинения и желает увидеть за частным событием нечто общее, сам характер этого «общего» оказывается иным: это не знаки, а вещества, не цели, которые преследует движение, а само движение, его «форма»; не «польза» от предметов, а сами предметы, понятые как самостоятельные существа. В этом же ряду оказывается и такой особенный «предмет», как человеческое тело; дело не в унижении человека до уровня «бездушных вещей», и не в возвеличивании предметов до уровня человека, а в умственном ходе, позволяющем обнаружить резерв смысла там, где все уже казалось очевидным и исхоженным вдоль и поперек. Уравняв тело человека с «телами» предметов, поставив их в один ряд на основании того, что все они состоят из вещества, мы получаем возможность увидеть новые связи между этими «телами». Тело человека, уравненное в своих правах с веществами, пространствами «сливается» с ними и разговаривает на понятном им универсальном языке. Люди и вещи «узнают» друг друга, помогают или, напротив, мешают друг другу: так, у Достоевского поступки персонажей оказываются в зависимости от находившихся поблизости предметов из железа, меди или камня, а у Чехова ведущую смыслообразующую роль начинает играть мотив замкнутого пространства, порожденный в том числе и особенностями телесно-психического состава самого Чехова.
«Тот, кто видел свой город перевернутым, видел его правильно». Франциск Ассизский, вставший на руки, демонстрирует возможности взгляда, упивающегося данностью: естественные вещи, как пишет Г. К. Честертон, предстают в «сверхъестественном свете». Если перевести все это на язык «научного» описания, то речь пойдет о видении вещей в их – насколько это возможно – чистом виде. Пафос онтологического взгляда на текст можно вполне по-платоновски определить как неубывающее удивление перед тем, что бытие развернуто, дано нам именно в том виде, в каком оно дано; на первый план выходит само наличествование и оформленность, место интертекста занимает то, что можно назвать «интернатурой». И хотя универсальные характеристики или «элементы» наличного бытия тоже можно рассматривать как текст, это будет уже нечто особенное. По сути, речь идет о том, что М. Мерло-Понти называл «кроной Бытия», составленной из качеств, или свойств, «глубины», «цвета», «формы», «линии», «движения», «контура» и т. д. В этой универсальной текстуре, в общей для всех подоснове реальности и состоит причина возможных совпадений между различными художественными мирами. У Родена есть фрагменты, которые совпадают с фрагментами Жермена Ришье. Однако, как говорит Мерло-Понти, это происходит не потому, что один скульптор что-то заимствовал у другого, а потому, что оба они были скульпторами, т. е. оба были связаны с одной и той же тканью Бытия и соответственно могли в чем-то совпадать благодаря этой исходной приобщенности.
Близкий пример из области литературы, хотя тоже имеющий вполне скульптурный характер: совпадение деталей и логики описания мертвой Настасьи Филипповны в «Идиоте» и Нелли в «Лавке древностей» Диккенса (ср. также «мраморную» ножку Настасьи Филипповны и «мраморное» тело и ноги в «Мартине Чезлвите» и «Николасе Никльби»). Тут можно говорить не только о возможных сознательных или бессознательных заимствованиях, но и о совпадениях в самих исходных условиях описания, в общей логике и текстуре происходящего: умершего человека естественно представить уснувшим, а его холодное застывшее белое тело сравнить с мрамором.
Идеальной целью поэтики, ориентированной на поиск интертекстуальных связей, могла бы стать цепочка или веер, в которых прослеживалась бы история заимствований деталей и символов, их перетекание из одних текстов в другие: идея определения универсального символического контекста здесь скорее подразумевается, чем реально достигается. Идеальной же целью онтологической поэтики могло бы стать выявление и описание исходной бытийной ситуации, определение изначального фундаментального лексикона, провоцирующего появление сходных элементов в различных, не связанных друг с другом текстах.
Пафос удивления перед наличным бытием, перед его потрясающей воображение вещественной определенностью определяет и характер интереса к онтологическому слою текста. Элементы, в которых проступает «натура», подоснова бытия, мыслятся как равные между собой в самом факте своего существования и, соответственно, выступают таковыми для исследователя. Отсюда важное правило: онтологически насыщенные элементы текста рассматриваются совокупно, «списком», а уже затем только в их реальной последовательности и соотнесенности друг с другом. Иерархический строй повествования, таким образом, берется не на «веру», а как бы заново восстанавливается, приобретая в итоге очертания, не обязательно совпадающие с теми, что принято считать знакомыми и правильными: значимой может оказаться деталь «второстепенная» или же нечто такое, на что и вовсе не обращали внимания. Такого рода анализ напоминает «обратный ход» действия персонажа: важным оказывается не то, какие обстоятельства привели героя на вершину горы или в глубокую пещеру, а сам факт того, что он в определенный момент объявляется именно в этом месте, а не каком-то ином. Предшествующие же события рассматриваются как «повод», «способ» объяснить с большей или меньшей степенью достоверности, почему герой оказался именно в этом месте, или почему он поступил именно таким образом, а не каким-либо другим.
Пафос удивления перед чудом наличествования распространяется и на человеческое тело. Здесь онтологическая поэтика оказывается вполне последовательной: она равнодушна к эротизму, садомазохизму, перверсиям и агрессиям, которые воодушевляют большинство современных исследователей проблемы тела. Это равнодушие идет от общей установки на самотождественность различных элементов мира. Вещи (в том числе и тела) важны сами по себе, а не тем, как они могут быть использованы. Зато особое значение приобретает жизнь тела, взятая в ее самоценной замкнутости: возникает интерес к частям тела, его формам, пропорциям, к его здоровью или нездоровью, к ранам, характеру смерти или обстоятельствам выздоровления. В романах Достоевского, например, персонажи постоянно ранят свои пальцы, и эти случаи нередко составляют целые симметричные ряды. Характер болезни нередко оказывается глубоко идеологичным. Герои Достоевского мучаются от бессонницы и головных болей, герои Чехова болеют чахоткой, персонажи Платонова страдают от болей в животе. В каждом случае мы видим, как в рисунке болезни отражается персональная мифология автора. У Достоевского она связана с темой «смерти-рождения», воплощенной в отделении головы от тела, у Чехова – с темой больной души, у Платонова – с сюжетом «возвращения» и темой детства.
Интерес к телу переносится и на его останки, а также на все, связанные с телом предметы – на одежду, обувь, украшения, амулеты, платки, трубки, зонтики, очки и т. д. Причем всякий раз важно, как сделаны эти вещи и из каких веществ. Онтологический интерес в этом отношении не является чем-то выдающимся; он вполне созвучен любому исследованию, в поле внимания которого попадают детали быта и поведения персонажей. Другое дело, что существен сам поворот интереса, то, к чему он подводит: так, в настойчивом присутствии медных предметов в наиболее напряженных эпизодах романов Достоевского (убийство старухи-процентщицы, самоубийство Свидригайлова в «Преступлении и наказании», убийство Карамазова-отца, самоубийство Смердякова в «Братьях Карамазовых» и т. д.) можно увидеть контуры темы церковного колокола, являющейся стержневой и смыслообразующей для Достоевского.
То же самое относится и к «профилю» действий и переживаний персонажей: как они делают, то, что делают, как именно выражаются, осуществляются их чувства, из какого «вещества» все они составлены. Наконец, почему в тексте упоминаются или фигурируют совершенно определенные животные и растения, а опять-таки не какие-либо другие. В перспективе же все предметы, присутствующие в мире и уже этим самым противостоящие пустоте-смерти, зиянию несуществования, могут быть рассмотрены так, что различие между их «жизнью» или «смертью» будет снято: все поглотит пафос существования, актуального пребывания, присутствия в мире, единственной стоящей целью которого является достижение подлинной полноты бытия, возможное лишь при условии победы над смертью и замене ее жизнью. Если же перевести все сказанное на язык более конкретный, то вполне уместным тут было бы воспользоваться формулой А. Веселовского, чуть-чуть ее видоизменив: задача онтологической поэтики, как она мне представляется, – определить роль и границы Текстуры Мира в процессе личного творчества. И хотя, само собой, и это определение-сравнение далеко от совершенства, все же кое-что для уяснения сути дела оно дает.
Дав примерный очерк онтологической поэтики, обнаруживающей в себе немало и вполне традиционных черт, я хочу перейти к описанию принципов и понятий, составляющих ее стержень. «Онтология» и «поэтика» снова будут идти рука об руку, отливаясь в форму конкретных интеллектуальных тактик, каждая из которых не является универсальной, но чаще всего оказывается полезной лишь в определенных ситуациях. Начать же лучше всего с особого типа встречающихся в тексте положений, которые можно назвать онтологическими «точками» или «порогами».
ПорогУ Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть удачное название для подобных положений: «такая минутка». Хотя дело, собственно, не в «минутке» как таковой, а в том жизненном отрезке, в течение которого герой делает что-то очень важное, определяющее затем весь последующий характер действия. Времени это обычно занимает совсем немного – может быть, несколько минут, может, час, день… Чаще всего это порог жизни и смерти: ситуации убийства, самоубийства, умирания. Но бывает и так, что движение идет в обратную сторону: герой выздоравливает или принимает решение, которое равнозначно его новому рождению. Наконец, «порог» – это нередко само начало повествования, когда все еще впереди, когда все многовозможно, шатко, зыбко. Так или иначе, «порог» представляет собой точку онтологически напряженную: от того, какой она будет, как разрешится, зависит рисунок бытия будущего, надвигающегося и одновременно вызревающего в момент прохождения, преодоления порога. Миг неверного равновесия, смыслового колебания, из которого возможно движение в прямо противоположные стороны, сменяется онтологической определенностью выбранной бытийной перспективы. В этом смысле «порог» – понятие скорее натурального, нежели символического ряда: если искать аналогии, то ближе всего к нему окажется пригожинская «точка бифуркации».
Гамлет, следящий за поведением короля во время театрального представления; гоголевский чиновник в новой шинели, бегущий с закрытыми глазами по пустынной площади навстречу своей судьбе; Раскольников, идущий в контору, чтобы сделать свое признание – все это онтологические пороги, через которые переступают или пытаются переступить персонажи. Важно то, что стоит за формой явленности порога: то, как он обозначен, подан, организован, говорит нам о том, что его так организовало и обозначило – природное, субстанциальное начало, сказавшееся в личном творчестве автора. Для Шекспира в «Гамлете» это будет «спор» между зрением и слухом (об этом позже), для Гоголя в «шинели» – тяга к центру пустого пространства, бегство от чреватой смертью периферии, для Достоевского в «Преступлении и наказании» – рывок вверх по лестничному ходу.
Порог помогает понять то, что рассеяно по всему пространству текста. Порог как уплотнение, сгущение смысла; порог как один из «ключей» к онтологической подоснове повествования. Это очень удобный объект исследования, так как он весь на виду; даже если порогов будет два или три, по сравнению с громадой текста, они все равно займут очень скромное место. Разумеется, это не означает, что достаточно порога, а весь остальной текст уже не нужен. Просто используя данную тактику, мы движемся по тексту иначе, чем обычным образом: мы смотрим на него через определенные «отверстия» или «окна» и, как следствие, замечаем то, чего не видели раньше, а если и видели, то не придавали этому особого значения.
В ситуациях порога очень важны подробности: в каких именно пространствах действуют герои, какие именно предметы, вещества, звуки или запахи их окружают. Если выяснится, что одни и те же детали или схемы повторяются в нескольких типологически сходных положениях, значит к ним следует отнестись с особым вниманием. Заметив повторы, выделив их благодаря исходному преимуществу, которое дает нам взгляд на небольшие, хорошо просматриваемые участки текста, мы по-другому отнесемся и ко всему тексту. «Случайные» детали окажутся элементами системы, малое объяснит большое.
Как правило, пороговые сцены в хрестоматийньгх текстах выделяет и сам автор, и опыт жизни текста в культуре; современному читателю они, так сказать, известны заранее, подчас еще до знакомства с текстом. Пороги выступают как «знаки» или «метки» произведения. Внимательно исследуя их слово за словом и обнаружив детали, определяющие их характер, мы получаем первый приблизительный эскиз онтологической схемы текста или какой-то его части. Применительно к романам Достоевского понятие «порога» оказывается как нельзя более точным, приобретая очертания вполне реальные: это либо порог двери, либо порог лестницы, по которой поднимается или должен подняться герой, чтобы исполнить свою идею – поднять, «восстановить» себя.
Внимание к ситуациям порога – одна из тропинок, ведущих к онтологической подоснове текста. Другая, кое в чем с ней схожая, ведет к символически и онтологически напряженным точкам текста – к его эмблемам.