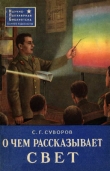Текст книги "Гоголь в тексте"
Автор книги: Леонид Карасев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Финал текста
(Грязь, дрянь, помои, земля, ноги и пр.)
Начнем все сызнова, но только теперь в том же порядке, что и прежде, будем рассматривать концовки повестей, глав, эпизодов, где настойчиво повторяется набор одних и тех же мотивов, так или иначе указывающих в сторону, противоположную разноцветью, яркости и блеску. Вместо солнца и месяца – мрак и серость, вместо праздника – тоска, вместо золота и серебра – земля, дрянь, мусор или что-нибудь пустое, дешевое.
В начале «Сорочинской ярмарки» все начиналось с блеска и золота, но уже в финале первой главы показана сцена, где является картина совершенно противоположного свойства. Щеголиха ругается с парубком: «Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка дрянь!». Тут парубок схватил «комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар был удачнее, нежели можно было предполагать: весь новый ситцевый очипок был забрызган грязью». То есть – три «дряни» и две «грязи» всего на несколько строк повествования.
В финалах третьей, четвертой, пятой и шестой глав появляются разбитая пивная кружка, то есть черепки, «жинки», уподобленные «всякой дряни», цыган в кафтане, превратившемся почти что в пыль, «черт с свиною личиною», разбитое вдребезги окно, четырехкратное упоминание черта. В финале девятой главы сказано о цыганах, которые «казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи», в финале десятой показан плюющийся Черевик, а в конце тринадцатой главки (одновременно это и конец всей «Сорочинской ярмарки») дана общая картина состояния, противоположного по своему духу «нормальному» гоголевскому началу: «Смычок умирал, слабея и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо».
«Вечер накануне Ивана Купала». Финал первой части: «Дьявольский хохот загремел со всех сторон». Петро, «как сноп, повалился на землю. Мертвый сон охватил его». Конец второй части истории: «Вся хата полна дыма, и посередине только, где стоял Петрусь, куча пеплу» и «битые черепки… вместо червонцев». И, собственно, конец всей повести. Еще «не так давно (…) мимо развалившегося шинка, который нечистое племя долго после того поправляло на свой счет, доброму человеку пройти нельзя было. Из закоптевшей трубы столбом валился дым и, поднявшись высоко, так, что посмотреть – шапка валилась, рассыпался горячими угольями по всей степи, и черт, нечего бы и вспоминать его, собачьего сына, так всхлипывал жалостно в своей конуре, что испуганные гайвороны стаями поднимались из ближнего дубового леса и с дикими криками метались по лесу».
Финалы «Майской ночи». Конец второй главы – пьяный матерящийся Каленик. Конец третьей – «ноги», то есть «низ» тела: «Гуляй, козацкая голова! – говорил дюжий повеса, ударив ногою в ногу». Конец четвертой – «хари» и снова «ноги»: «Помилуй, пан голова! – закричали некоторые, кланяясь в ноги. – Увидел бы ты, какие хари (…) Все разбежались».
Те же «ноги» и топанье в финале «Пропавшей грамоты». Последняя строка повествования: «…ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься вприсядку».
«Ночь перед Рождеством». В конце первого раздела упомянуты «рожа» и «мерзость мерзостью». Конец второго раздела. Здесь упоминается «перержавевшая подкова», то есть вещь, отсылающая нас одновременно как к «ногам» (в данном случае, лошадиным), так и к разряду негодных, мусорных вещей.
Разбивка на разделы, так же как и в случае «Сорочинской ярмарки», здесь достаточно произвольна. Порой эти разделы занимают не более одной или двух страниц; они даже не являются началами каких-то новых эпизодов или сюжетных поворотов. Поэтому ожидать в них смысловых накоплений, свойственных настоящим финалам, не стоит. Однако даже и в этом случае в нескольких из тринадцати разделов мы сталкиваемся с характерными для Гоголя финалами. Особенно показателен конец повести, где идет речь об обуви, то есть о вещи, предназначенной исключительно для ног.
«– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула, – те самые, которые носит царица…
– Нет! Нет, мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей, – я и без черевиков…»
Строго говоря, в «Ночи перед Рождеством» – тринадцать разделов. Последний – четырнадцатый – совсем мал (всего в несколько предложений), но весьма выразителен: поминается здесь и черт в аду, и гадость, и плевки, и «кака» («яка кака намальована»). И это особенно задевает, когда сравниваешь эти последние слова повести с ее началом: «…ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». Начал Гоголь с Христа и месяца, а закончил чертом: «гадость» и «кака» вместо красоты, добра и величия.
В финалах «Страшной мести» все те же знаки земли и низа: «пол», «конь», «хлев», «хмель», «грех», «могила», «содом», «земля», «черепки», «мертвецы грызут мертвеца», «хлебное семя, кинутое в земле и пропавшее даром в земле».
Повесть «Старосветские помещики». Предисловие начинается с описания «пестроты» и «блеска», а заканчивается сожалением рассказчика о том, как он приедет на то же место и увидит «их прежнее, ныне опустелое жилище» и «кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик – и ничего более». Таков же и финал всей повести: «Избы (…) развалились вовсе», мужики разбежались…». Иначе говоря, хорошее, бывшее в начале, как это обычно водится у Гоголя, к концу становится негодным и плохим.
В конце первой главы «Тараса Бульбы» козаки покидают хутор: «оглянулись назад; хутор их как-будто ушел в землю», а затем равнина и вовсе «все собою закрыла». В финалах третьей и пятой глав – «земля» и «куча» (заснувшая на земле пьяная компания и Андрий, пробирающийся с татаркой по подземному ходу); затем снова – «ноги»: татарка «скинула с себя черевики и пошла босиком». Далее в финалах глав мы увидим вырывание волос из головы, надругательство над полячкой («пыль», «земля», тело, разорванное на части), козацкие кости, «разбитые возы» и «расколотые сабли», Тараса, рухнувшего, «как подрубленный дуб, на землю», и т. д.
Конец одиннадцатой главы (пытки Андрия) настолько ужасен, что не хочется воспроизводить его еще раз. Тема все та же: «порча тела». То есть, если обобщить сказанное, перед нами снова трансформация, перевод чего-то хорошего, здорового, в больное и мертвое.
Все та же «порча тела» и в последней, двенадцатой, главе повести, где опять-таки в самом конце описывается гибель Тараса. Появляется здесь и очередное упоминание о ногах: «А уже огонь подымался над костром, захватывая его ноги…».
В «Вие» первая ночь Хомы в церкви заканчивается падением гроба на землю, а в конце третьей звучат глухие шаги Вия и дается его описание («Весь он был в черной земле»). Общий финал: нечисть бросилась бежать в окна церкви. «Так навеки и осталась церковь, с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном…». В финале послесловия упоминается «бурьян» и старая «подошва от сапога», то есть вещь бросовая и вместе с тем снова связанная с мотивом «ноги».
В начале «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – гимн бекеше: «Описать нельзя: бархат! серебро! огонь!». В финале – грустная картина осени с важными для гоголевской концовки словами. Здесь уж земля, так земля, грязь так грязь! «Тощие лошади (…) потянулись, производя копытами своими, погружавшимися в серую массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь лил ливмя на жида, сидевшего на козлах и накрывшегося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. – Скучно на этом свете, господа!» Здесь едва ли не все значимо – от мифологических оттенков (лошади, копыта) до общей картины «порчи», приведения в негодность исходно «хороших» земли («серая масса грязи» и «изрытое» местами поле) и неба («слезливое без просвету»). Сюда же следует отнести и хозяек мусорных куч – галок с воронами, и главные цвета, цвета земли – черный и серый. Наконец, и сам «инвалид» с его «серыми доспехами» также попадает в рубрику отжившего, сломанного: был здоровый человек, стал инвалидом, да и одежда его пришла в негодность, оттого он ее и чинит.
В финале повести «Невский проспект» Петербург представлен как город лживый, дьявольский («все дышит обманом»). Линия «снижения» образа сказывается и в привычном для Гоголя упоминании в финале какой-нибудь дряни. В данном случае речь идет о фонаре, который может испачкать прохожего «вонючим своим маслом».
В финале «Носа» упомянута вещь, которая хотя и не есть совершенная «дрянь», но сама по себе является пустяком или чем-то ненужным. В «Старосветских помещиках» это были «небольшие безделушки», в «Вие» – прихваченная звонарем «старая подошва от сапога», в «Носе» это «орденская ленточка», которую майор Ковалев купил «неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена».
Повесть «Портрет» состоит из двух частей, и в обоих финалах речь идет о происшествии, случившемся с картиной. В первом случае это «изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы», во втором – картина и вовсе исчезает со стены, так будто ее и не было. Финал первой части, конечно, более выразителен в интересующем нас смысле: ценность, «добро», превратившиеся в мусор. Что касается финала «Портрета», как он дан в редакции «Арабесок», то здесь повторяется ситуация концовки «Вия», «Старосветских помещиков» и «Носа»: последние слова повести – опять о чем-то «пустом», ненужном или незначащем. В «Портрете» как раз последнее слово и употреблено: посетители смотрят на портрет и видят, как изображение начинает исчезать. «Что-то мутное осталось на полотне. И когда подошли к нему ближе, то увидели какой-то незначащий пейзаж».
В финале «Шинели» интересующего нас материала не так много. Можно, конечно, сказать, что вместо живого человека здесь представлен мертвец, и, таким образом, схема снижения, превращения одного в другое сохраняется, но это, пожалуй, было бы натяжкой. Скорее, важны здесь сами подробности концовки, например то, что рот мертвеца пахнул «страшно могилою» (запах из ряда, отсылающего к теме разложения, дряни, гнили и пр.).
Повесть «Коляска» возвращает нас к теме вещей, которые исходно казались или назывались «хорошими», а в финале оказались чем-то малоинтересным или даже никчемным. В начале повести была «чрезвычайная коляска настоящей венской работы», а в финале оказывается, что она не только «не стоит четырех тысяч», а и «двух не стоит. Просто ничего нет».
В финале «Ревизора» рассматриваемая тема снижения или деградации растянулась на несколько заключительных страниц комедии. В последнем явлении во время коллективного чтения письма Хлестакова хорошее или значительное буквально на глазах превращаются во что-то плохое и никчемное с соответствующим набором слов и выражений. Вместо «уполномоченной особы» – «Ни се, ни то, черт знает что такое».
Ну а далее по ходу финальных страниц «Ревизора» появляются ключевые для «темы снижения» слова, и появляются они в такой концентрации, какой более не найти во всем тексте комедии. Хлестаков – «сосулька», «тряпка», Земляника – «свинья в ермолке». Смотритель училищ «протух насквозь луком». «Свиные рыла вместо лиц». «Пачкуны проклятые», «сморчки короткобрюхие». И все это перемежается десятком упоминаний «черта» в самых различных выражениях.
Тема снижения, деградации с присущим ей словесным рядом («издевка», «позор», «страм», «плюну», «пакости» и пр.) появляется в финале «Женитьбы». «Хорошее» оказывается «плохим»: «Что ж вы, батюшка, в издевку-то разве, что ли? Посмеяться разве над нами задумали? На позор разве мы достались вам, что ли? (…) Осрамить перед всем миром девушку. Я мужичка, да не сделаю этого. А еще дворянин! Видно, только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства!».
Наконец, «Мертвые души». Финал первой главы. Собакевич, лежа в кровати, рассказывает жене о своем знакомстве с «преприятнейшим человеком» Павлом Ивановичем Чичиковым: «На что супруга отвечала “Гм!” и толкнула его ногою». Собственно, и внутри самой главы большой эпизод с игрой в карты и знакомством Чичикова с помещиками заканчивается в том же духе. Перед абзацем, с которого начинается дальнейшее течение истории («На другой день Чичиков отправился…»), идет дословно следующее: «И ко мне прошу (сказал Собакевич. – Л. К.), шаркнувши ногою обутою в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особенно в нынешнее время…».
В финале главы третьей снова появляется и «земля», и «ноги» в сочетании с темами грязи и бездорожья. Чичиков уезжает от Коробочки: «Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжелило экипаж; к тому же почва была глиниста и цепка необыкновенно». Так бы и не выехали, если бы не сопровождавшая их местная девчонка с «босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежею грязью». Кучер «остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: “Эх, ты, черноногая!”» Это просто какой-то апофеоз земли и грязи (нечто похожее можно было увидеть в конце «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: «серая масса грязи» и пр.). Внутри второй главы поэмы две значимые сцены также заканчиваются в этом ключе. Долгое путешествие Чичикова в бричке завешается падением на землю. «Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь» И далее: «…барин барахтался в грязи, силясь оттуда вылезть…». А конец следующей сцены отмечен очередным упоминанием ног, в данном случае – «пяток». Хозяйка, приготовляя Чичикова ко сну, говорит: «Может, ты привык, отец мой, чтобы кто-нибудь почесал на ночь пятки (…) Но гость отказался и от почесывания пяток». «Пятки» упомянуты и в финале следующей четвертой главы. Когда Чичиков схватил стул, пытаясь защититься от наступавших на него ноздревских слуг, он почувствовал такой страх, что душа его «спряталась в самые пятки». Снова, как и в случае из «Сорочинской ярмарки» («он давай бог ноги»), мы имеем идиоматическое выражение, однако факт налицо: нужное слово появляется в нужном месте (в той же «Сорочинской ярмарке» в конце пятой главки также упомянуты «башмаки, надетые на босые, загорелые ноги»).
Конец пятой главы поэмы. Сразу перед лирическим заключением Гоголя о силе и меткости русского слова следует само это слово. Вернее, само оно не упомянуто, но его «снижающий», то есть соответствующий характеру гоголевских финалов смысл, сомнений не вызывает. На вопрос Чичикова, знает ли мужик Плюшкина, тот ответил: «– А! заплатанный, заплатанный! (…) Было им прибавлено и существительное к слову заплатанный, очень удачное, но не употребительное в светском разговоре». Речь, таким образом, идет о неприличном слове, о слове «снижающем», деформирующем человеческий образ; поэтому появление этого слова (упоминание о нем) в финале текста в рамках рассматриваемой нами закономерности выглядит вполне оправданным. К месту здесь и прилагательное «заплатанный»; оно – из ряда, где речь идет о чем-то старом, ветхом, испорченном или сломанном – словом, обо всем том, что входит в рубрику «не-жизни».
В конце шестой главы говорится про нехороший, исходящий от Петрушки запах, запах такой силы, что Чичиков советует ему открыть окна, а затем появляется такое слово, что «ниже» в телесном смысле отыскать вряд ли и удастся: Чичиков «заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей».
Финал главы седьмой. Очередная сцена отхода Чичикова ко сну: «Петрушка принялся снимать с него сапоги и чуть не стащил вместе с ними на пол самого барина. Но наконец сапоги были сняты…». Чичиков засыпает, а его пьяные слуги ложатся спать рядом в комнате, причем Петрушка хоть и лег на кровать, но «совершенно поперек, так что ноги его упирались в пол». Все эти «хтонические» подробности, впрочем, совершенно перекрываются последними строками главы, в которой упоминается о некоем поручике из Рязани – персонаже совершенно мимолетном, вроде того молодого человека в «белых канифасовых панталонах», что появился на первой странице гоголевской поэмы и более уже ни разу в ней не показывался. Так вот, как сообщает Гоголь, «приехавший из Рязани поручик, большой, по-видимому, охотник до сапогов, потому что заказал уже четыре пары и беспрестанно примеривал пятую. Несколько раз он подходил к постели с тем, чтобы их скинуть и лечь, но никак не мог: сапоги, точно, были хорошо сшиты, и долго еще поднимал он ногу и обсматривал бойко и на диво стачанный каблук». Итого: на последние несколько строчек главы – шесть (в том или ином виде) упоминаний о сапогах и еще одно упоминание о ноге. В этом же ряду окажется и концовка эпизода с дамами из девятой главы поэмы: «Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! Это просто, черт побери!.». Само собой, что «ноги» и «сапоги» могут упоминаться и в других местах текста, однако здесь важны концентрация словоупотребления и особенно его стойкая приуроченность к концу повествования.
Финал десятой главы первого тома «Мертвых душ». Здесь в сцене отъезда Чичикова упоминается «белье мытое и немытое» и «сапожные колодки», а затем появляются и сами сапоги: Селифан «спускался с лестницы, отпечатывая своими толстыми сапогами мокрые следы по сходившим вниз избитым[36]36
Здесь важно не только движение вниз по лестнице, сапоги и следы, но и то, что ступени лестницы «избитые», то есть относятся к разряду вещей, которые претерпели деградацию и потеряли исходное «хорошее» качество.
[Закрыть] ступеням». Заключительные слова главы – размышления о русском почесывании в затылке, и завершаются они упоминанием о «дожде и слякоти» и «дорожной невзгоде». Таким образом, в финалах восьми глав поэмы из одиннадцати (я уже не говорю о финалах отдельных эпизодов) мы видим сходные черты, которые в целом, как уже было сказано, могут быть объединены в рубрику «земли», «низа», «грязи», «не-жизни». В разных случаях они представлены по-разному, но общая их направленность – снижение образа человека или вещи, их деградация – сомнений не вызывает.
Похожая картина и в сохранившихся главах второго тома поэмы. Там тоже – «пыль» и «земля». В конце первой главы сказано про дорогу, где «курилась не успевшая улечься пыль». Финал следующей второй главы и вовсе «земляной» или даже «подземный». Генерал Бетрищев отвечает на просьбу Чичикова: «Чтоб отдать тебе мертвых душ? Да за такую выдумку я их тебе с землей, с жильем! Возьми себе все кладбище!». В финале главы четвертой (в том виде, в каком он сохранился) последние слова тоже о земле: «Вам нужна земля, не так ли?».
Теперь, когда мы рассмотрели (пока еще только в самом общем смысле) финалы гоголевских сочинений, самое время обратится к теме, которая напрямую связана с феноменом «сюжета поглощения». В данном случае это будет то, что можно назвать зрением-поглощением.
Зрение-поглощение
Это у Пушкина или Толстого «взглянуть» или «посмотреть» – означает именно «взглянуть» или «посмотреть» и, может быть, иногда что-то сверх того. У Гоголя не так. У Гоголя «взглянуть» или «посмотреть» нередко означает «взять», «присвоить», «съесть» или даже «убить». Описание взгляда идет таким образом, что привычные отношения между тем, кто смотрит и тем, на кого (или на что) смотрят, нарушаются и становятся подвижными и неопределенными. В заметке «Шлецер, Миллер и Гердер» Гоголь восхищается Шлецером, который как будто имел «сто аргусовых глаз» и имел способность «в высшей степени сжимать все в малообъемный фокус и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом обозначить вдруг события и народ»[37]37
Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1937–1952. Т. 7. С. 303.
[Закрыть].
Видеть сразу все, и все это сжимать в оптическую точку глаза, то есть переводить внешнее во внутреннее – отчасти это можно отнести и к тому феномену «зрительной экспансии», который можно наблюдать у гоголевских персонажей.
Способы описания такого рода зрения могут быть разными, но повсюду чувствуется особая активность зрения, общая «присваивающая» тенденция взгляда: человек не просто смотрит, но входит, погружается в предмет рассмотрения, перетягивает его внутрь себя или, наоборот, сам оказывается внутри него. Например, в повести «Майская ночь или утопленница» взгляд Левко описан именно таким образом. Левко смотрит на пруд так, что кажется, он сам «переселился в глубину его». В «Вие», наоборот, взгляд схватывает, втягивает в себя того, на кого он направлен. Старуха-ведьма ловила Хому не столько руками, сколько глазами. Когда он вознамерился бежать, ведьма остановила его взглядом: «старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза».
В «Страшной мести» взгляд, глаза также обладают способностью хватать, удерживать того, на кого они направлены. Екатерина говорит старухе-няне: «Да что же ты так глядишь на меня? Ты страшна, у тебя из глаз вытягиваются железные клещи… ух, какие длинные! и горят, как огонь!»
В начале второй главы неоконченной повести «Страшный кабан» Гоголь дает вариант особого, выскакивающего за пределы своего законного местоположения взгляда: «Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату». Понятно, что речь идет о фигуре речи, однако та настойчивость, с которой Гоголь придает взгляду особые полномочия, делает его чем-то самостоятельным, отдельным от человека, позволяет предположить, что появление такого рода стилистических ходов не является случайным, а выражает какую-то глубинную потребность. К тому же словосочетание «чисто выбеленная хата»[38]38
Ср., напр., в «Майской ночи»: «блестят при месяце толпы хат»; или там же: «при свете месяца блестело лицо».
[Закрыть] на фоне других упоминаний белого цвета, который Гоголь часто снабжает прилагательным «ослепительный», снова выводит нас к связке взгляда и блеска.
В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» в начале первой главы дан взгляд на сверкающую бекешу Ивана Ивановича. Вторая глава повести начинается с того, как Иван Иванович лежит под навесом и перебирает в уме свои богатства (коморы, сараи, живность и пр.). «Чего ж еще нет у меня? Задавши этот глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался; а между тем глаза его отыскали новые предметы, перешагнули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем», а именно рассматриванием предметов, которые один за одним выносила соседская баба. Тут важно слово «невольно», в данном случае, вопреки строю языка, оно должно быть отнесено не к глазам, а, скорее, к самому Ивану Ивановичу. Он вроде бы и не хотел глядеть, но стал глядеть «невольно». Можно сказать, что глаза действуют сами по себе, независимо от воли их хозяина: сначала они сами «отыскали новые предметы», а затем «перешагнули чрез забор» и занялись рассматриванием чужих вещей. Собственно, из-за этой присваивающей особенности взгляда Ивана Ивановича и заварилась вся история: увидеть ружье в данном случае означало иметь его.
Другой смысловой акцент, но в рамках все той же темы «зрения-поглощения» сделан в начале второй части «Портрета». Здесь идет речь об «аукционной продаже» картин и других предметов искусства и о тех, кто хотел бы все это купить: «Длинная зала была наполнена самою пестрою толпою посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное тело». Сравнение как нельзя кстати, поскольку речь идет именно о взгляде, о рассматривании картин, которые посетители желали бы приобрести себе в собственность. Да и в портрете старика именно его «взгляд», «глаза» становятся главным предметом рассматривания. Они приковывают к себе внимание зрителя, заставляют его смотреть именно в глаза портрета. Это то, что можно назвать «экспансией взгляда», его способностью «овеществляться» и переселяться внутрь другого человека. У старухи из «Страшной мести» глаза были как «железные клещи», которые тянулись к тому, на кого она смотрела. В «Портрете» «клещей» нет, но движение глаз, понятое не как метафора, а как реальное вещественное перемещение, показано вполне явно. Рассматривавшие портрет посетители были «поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому во внутрь». В том же в «Портрете» приятель художника оценивает его работу на предмет сходства портрета и портретируемого: «Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез». Здесь же должен быть упомянут и учитель маниловских детей, который, как пишет Гоголь, «хотел вскочить в глаза» к ребенку в тот момент, когда ожидал от него правильного ответа. Наконец, в «Вие» описан взгляд убивающий. От сидевшего в меловом круге Хомы требовалось лишь одно – не смотреть на Вия, в этом было его спасение. Вию тоже нужно было одно – увидеть Хому, поймать его взглядом, и когда ему это удается, его взгляд становится орудием убийства.
Итак, взгляд присваивающий, поглощающий, переводящий внешний мир внутрь смотрящего. Теперь, наверное, самое время вспомнить о названии настоящих заметок, где слово «поглощение» связано со словом «сюжет».
Что понимать под «сюжетом», если брать этот термин в самом расширенном понимании? Скорее всего, описание некоторой последовательности событий, у которой есть начало, середина и конец. Но если «середина» есть нечто длинное и размытое, то завязка истории и ее развязка достаточно конкретны и оформлены. Этим обстоятельством и продиктован наш особый интерес к началу и концу повествования – к точкам, где нечто существенное, решающее в сюжетном плане, дает себя увидеть едва ли не сразу (по сравнению с размытостью «срединного» течения сюжета). Начало гоголевского текста, то есть целого рассказа, главы или эпизода, во многих случаях оказалось связано темами зрительного присвоения. Гоголевский глаз (или глаз гоголевского героя) жадно смотрит на мир и поглощает его. И чаще всего, как это было показано ранее, предметом поглощения оказывается то, что оказывает на глаз наивысшее воздействие, – блеск, сияние, разноцветье. Но что значит «поглощать» или «присваивать», если перевести это на язык телесности, как не «поедать»? Так сама собой в «сюжете поглощения» объявляется тема зрения как поедания[39]39
«Сама собой» – для нашего случая. При ином подходе к делу может объявиться и что-то другое. Например, тема «поглощающего» или «присваивающего» взгляда может быть истолкована в ключе эротическом. См.: Крюков В. М. След птицы-тройки. Другой сюжет «Братьев Карамазовых». М., 2008. С. 20–62.
[Закрыть].