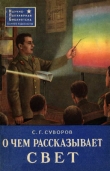Текст книги "Гоголь в тексте"
Автор книги: Леонид Карасев
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Гоголь говорит о своих внутренностях в любом случае – и когда болен, и когда здоров; разница состоит в том, что в одном случае он жалуется на боли, запоры и несварения, в другом, – расписывает обеды и рестораны. «Безумие» желудка держит его под своим контролем, проявляясь, помимо мотивов «середины», «преувеличения» или «переполненного объема» (о самой теме еды или голода я уже не говорю), также и в постоянном сравнении персонажей и различных сюжетных обстоятельств с едой: описывая мир, Гоголь мыслит о нем на языке гастрономии и пищеварения, он, как повар, сам «готовит» текст, и сам же его съедает. Соответствующей случаю оказывается и лексика: в «Мертвых душах», например, метафоры еды проходят через все повествование, начиная с описания бала у губернатора (черные фраки и белые платья – «мухи на сияющем рафинаде») и кончая «гастрономическими» портретами Манилова и Ноздрева.
Да и что говорить о «пищевом» осмыслении обыкновенной жизни, если тема желудка вторгается у Гоголя даже в пределы церковные.
Желудок-храм
Андрий из «Тараса Бульбы» шел по подземному ходу с мешками, набитыми хлебом, и попал – в церковь. Нос майора Ковалева, после того как его извлекли из утреннего хлеба, становится самостоятельным «лицом» и тоже посещает церковь. Связь хлеба и церкви в обоих случаях достаточно очевидна. Если это так, тогда и тема желудка может оказаться где-то здесь же. Вспомним уже упоминавшуюся сцену обеда у помещика Петуха. Чичиков съедает очередной кусок телятины под хозяйскую присказку о городничем, поместившемся в переполненной церкви (не было места, да нашлось).
Церковь и желудок неожиданным образом оказываются рядом друг с другом или даже друг в друге. Впрочем, не так уж неожиданно: еда, прежде всего хлеб и вино, стоят в самом центре христианской обрядности, причем обретаются и вкушаются они именно в церкви. Проскомидия, то есть ритуальное приготовление церковного хлеба (просфор), осуществляется в начале всего храмового действа. В «Размышлениях о Божественной литургии» Гоголь подробно описывает, как готовятся просфоры; слово «середина» здесь продиктовано порядком действий, но смысл его невольно перекликается с «серединой» телесной, столь часто встречающейся в «мирских» сочинениях Гоголя: «…иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом Телом Христовым – средину с печатью…»; и далее – раздача «Святого Хлеба посреди церкви».
Пища и храм, как видим, вполне соединимы; все дело в том оттенке, который приобретает это соединение в прозе Гоголя. М. Вайскопф провел впечатляющее сопоставление гоголевского «Носа» и «Размышлений о Божественной литургии», из которого видно, что действия цирюльника Ивана Яковлевича представляют собой «шокирующую пародию» на церковный обряд приготовления хлеба, вина и воды[26]26
Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 232.
[Закрыть]. Учитывая специфическое отношение «докризисного» Гоголя к церковной обрядности, с подобной интерпретацией трудно не согласиться. Однако в нашем случае, где на первом месте стоят не ценностные установки, не идеология, а телесно-психический состав, соединение тем храма и еды получает иное (не исключающее и названного) истолкование. Гоголь мог позволить носу прийти в церковь, поскольку это не противоречило его собственному внутренне-телесному самоощущению или самочувствию. Если желудок – это «самый благородный» орган тела или даже «храм» (а в русском языке, в отличие, например, от итальянского, слово «храм» синонимично «церкви» и имеет вполне православный оттенок), то объединение церкви и еды уже не покажется случайным. Что же до языческого смысла слова «храм», то здесь работает и он. Если еда – это жертвоприношение, совершать которое есть величайшее удовольствие (вспомним о хлестаковских «цветах удовольствия»), дело, которому вполне стоит отдать себя («… чего бы я желал? чтоб остальные дни мои я повел с тобою вместе, чтоб приносить в одном храме жертвы…»), тогда неосознанное осмысление «середины» тела как храма или церкви вполне объяснимо. Некоторым образом находит свое истолкование и парадоксальное совпадение «сюжета» церковного и «сюжета» телесного. Я имею в виду не пафос происходящего, а некое формально-логическое подобие или сходство: гоголевский сюжет начинается с голода, и дальнейшее действие, если смотреть на него с избранной точки зрения, представляет собой смысловую цепочку, основными звеньями которой станут появление еды и насыщение персонажа. В «Размышлениях о Божественной литургии» мы сталкиваемся с чем-то сходным: сначала голод, затем приготовление пищи и, наконец, – ее вкушение. «Священник, которому предстоит совершить литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом…» Если говорить только о внешнем профиле событий, а не об их содержательном составе, то «трезвление» телом в начале гоголевских сочинений – почти общее место. Это видно и в «Носе», и в «Тарасе Бульбе», и в «Вие», и в «Мертвых душах», и в «Шинели», которая почти вся представляет собой одно сплошное трезвление, за исключением финала, где есть и искус, и пиршество, и кража.
О каком характере подобия можно говорить, сравнивая «Размышления» и «обычные» гоголевские сочинения? Едва ли сюжет художественный и сюжет литургийный сходятся в своих «идейных» основах. Скорее, речь идет о сходстве, продиктованном самой логикой бытия, где голод и насыщение есть составные элементы сюжета, разыгрывающегося всегда и везде, где существует жизнь. Об этом же, но только на языке мистики говорит и сам Гоголь, описывая в своих «Размышлениях» Тело Господне: «Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, и что Сам Господь сказал: Аз есмь хлеб»[27]27
Гоголь Н. Духовная проза. С. 369.
[Закрыть].
Если вернуться к проблеме персональной гоголевской «феноменологии», то понять, что именно в ней первенствовало – власть тела или воля духовная, практически невозможно. Особенность гоголевского восприятия и переживания мира, как я уже говорил, сказывается в равной мере и когда он здоров, и когда болен. Гоголь жалуется, что аппетит не дает ему жить спокойно, отвлекая от «высокого» («Хотел было кинуться с жаром новичка на искусства и бежать деятельно осматривать вновь все чудеса римские, но в желудке сидит какой-то черт, который мешает все видеть в таком виде, как бы хотелось видеть, и напоминает то об обеде, то об завтраке, словом – все греховные побуждения, несмотря на святость мест»[28]28
Цит по: Вересаев В. Гоголь в жизни. С. 223.
[Закрыть]). В других случаях Гоголь жалуется на желудочную болезнь, «деспотически вошедшую» в его состав и «обратившуюся в натуру». Гоголь то «ест за четверых», то жалуется на расстройство пищеварения, и все это происходит примерно в одно и то же время.
Я уже говорил о феномене «пожирающего зрения», о диктате желудка, сказывающемся буквально во всех областях гоголевского мировосприятия. Однако есть тут один важный оттенок, который придает всему сказанному до сих пор особый смысл. Начало очень многих гоголевских повестей отмечено устойчивым присутствием не только темы голода и зрения, но и особого притягивающего взгляд блеска или сияния. В самом начале «Старосветских помещиков» стоит «блестящее сновидение», в начале «Невского проспекта» – «блеск» шикарной улицы. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» открывается описанием бекеши («Взгляните! Бархат, серебро, огонь!»), «Сорочинская ярмарка» – полднем, что «блещет в тишине», «Рим» – «молнией» и «потопом блеска», «Майская ночь» – «блеском чистого вечера», «Ночь перед Рождеством» – картиной «ясной ночи» со звездами и месяцем. Даже в «Вие» в начале истории о Хоме Бруте упоминается «остаток алого сияния» на небе. Блеск и сияние завораживают Гоголя, он втягивает глазами блистающий мир, погружая его внутрь своего существа. Это похоже на съедение блеска. На уровне сюжета или, вернее, сюжетной динамики это сказывается в том, что почти сразу вслед за картинкой сверкающего мира идет упоминание о голоде или о еде: это может быть пространное описание ярмарки, вечеринки, обеда или проще и лаконичнее – одно, два слова, передающие суть дела, как в случае с бекешей, которую хочется съесть.
Съедение, поглощение блеска – погружение его во мрак утробы – дает картину, очень напряженную в смысловом отношении. В случае с чертом («Ночь перед Рождеством»), прячущим месяц в мешок (метафора съедения), все выглядит достаточно легко и комично. Однако стоящая за этим и многими другими случаями общая воля к поглощению красоты (т. е. блеска и сияния), к превращению ее в пищу, которая может и должна быть проглочена, уже не кажется легкой и безобидной.
Дело в том, что если придерживаться логики естества, то есть реальной жизни тела, то к означенной цепочке «голод – насыщение» должно быть прибавлено третье, завершающее звено. Проглоченная и переваренная в желудке пища с необходимостью должна быть извержена организмом. Когда мы говорим об этом, оставаясь в рамках нормальной телесности, то есть имеем в виду просто «пищу» и просто «тело», тогда особых вопросов, кроме разве что деликатности обсуждаемого процесса, не возникает. Проблема, и причем проблема неразрешимая, вырастает, когда «пищей» оказывается красота мира, его блеск и сияние, а «насыщением» – ее фактическое уничтожение-переваривание во мраке утробы, в «середине» тела, с последующим превращением в нечто совершенно непотребное и постыдное. Иначе говоря, с виду безобидный смысловой перенос (мир как пища) оказывается чреватым самыми серьезными последствиями, причем вся катастрофичность положения состоит в том, что иного финала подобный «пищеварительный сюжет», или, иначе, «сюжет поглощения», предложить не в состоянии.
На уровне повествовательных характеристик эта мрачная перспектива сказалась в отверженном или изверженном жизнью чиновнике из «Шинели». Я имею в виду не только фекальную топику имени «Акакий Акакиевич», но и «геморроидальный» цвет лица, и обливание помоями, и, наконец, его костюм, который был не зеленого, как положено вицмундиру, а «какого-то рыжевато-мучного цвета». Для сравнения, у Ивана Яковлевича из «Носа» – персонажа, во многих отношениях близкого Акакию Акакиевичу, – в одежде угадывается тот же подозрительный оттенок: фрак его «был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках». В «Заколдованном месте» герой в символическом смысле «проглочен», «переварен» в найденном им котле и «извергнут» нечистью: после всех мытарств он возвращается домой, облитый помоями и обвешанный арбузными и дынными корками. Наконец, нечто в этом же роде можно обнаружить и в обстоятельствах жизни Плюшкина; здесь эквивалентом «заповедной» темы нечистот станут пыль, паутина, гниющие продукты и, возможно, сама фамилия, несущая в себе не только съедобный, но и фекальный смысл («плюшка», «лепешка»). В этом отношении сам Плюшкин может быть понят как «продукт», переваренный и извергнутый жизнью. «Выбросок» или «остаток» сюжета насыщения.
Кроме того, на уровне самой организации текста, помимо иных возможных истолкований, интересующая нас тема могла сказаться и в феномене отъезда или бегства, приуроченного к финалу многих гоголевских сочинений. В более широком плане «бегство из текста» может быть связано с различными причинами, в том числе и с нежеланием автора заканчивать повествование или же с нежеланием заканчиваться, идущим от самого повествования (финал как «смерть» текста). В чеховских пьесах мы сталкиваемся с чем-то сходным, однако сходство это чисто внешнее: у Чехова из пьесы убегают совсем не те персонажи, что у Гоголя. «Главные» люди всегда остаются у Чехова на месте, более того, они буквально приговорены к тому, чтобы остаться и прожить еще «долгий ряд дней». С бегством же гоголевского героя текст заканчивается сам собой, поскольку из него вынута самая его сердцевина. Как раз такой тип финала и может быть вписан в интересующий нас телесный контекст. Бегство-отъезд Хлестакова, Подколесина или Чичикова – как итоговый акт той «перистальтики» сюжета, о которой шла речь на протяжении всех этих заметок. В этом смысле знаменитое бегство носа в Ригу может быть понято не только как возвращение «в хлеб» (о чем говорилось ранее), но и как символическое описание тошноты («ехать в Ригу» – на языке иносказания означает «тошнить»), то есть – обратного хода пищи, ее «бегства» из желудка. В сказанном нет желания свести все к одному основанию ради «целостности» общей картины. На самом деле все это не более чем следствие, к которому нас привела тема поглощающего зрения и логика анализа.
Вместе с тем все, о чем шла речь, перестает быть проблемой только лишь тела (хотя и это уже очень много), но вырастает в проблему личности, если под последней понимать целокупное соединение начала духовного и телесного. Для того чтобы избежать той катастрофы, к которой неминуемо ведет логика «пищеварительного сюжета», необходимо убрать, смягчить последнее звено, каким-то образом «забыть» о нем. Если предположить, что Гоголь прочувствовал, понял, может быть интуитивно, смысл этой логики, те разрушительные последствия, которые она несет, то он не мог не искать выхода из сложившегося положения. Нужно было как-то пригасить власть желудка (а вместе с ним и поглощающего мир зрения), ослабить их силу, заменив чем-то другим – обнадеживающим и спасительным: для того чтобы спасти мир, надо было перестать его проглатывать.
То, как Гоголь решил эту задачу в финале своей жизни, не требует дополнительных изъяснений: из чревоугодника он превратился в аскета, уморил себя голодом. А в тексте? Переустройство телесного самоощущения, смена бытийных приоритетов (или предвосхищение этой смены) не могли не отразиться на принципах гоголевской поэтики. Причем речь идет не столько об очевидной перемене в тематике и жанре в «Избранных местах из переписки с друзьями» или «Размышлениях о Божественной литургии», сколько об изменениях в построении собственно «художественных» сочинений, их структуры и повествовательных подробностей.
Если «насыщение» оказалось проблемой или, вернее, было осознано таковой, тогда в финале повествования (наряду с уже упоминавшимся «бегством из текста») должны быть задействованы какие-то особые охранительные, в прямом смысле слова «разгрузочные» меры. Иначе говоря, теме насыщения в финале должна быть противопоставлена (в явном или неявном виде) тема трезвления и воздержания. Так и есть: во многих гоголевских сюжетах тема еды и пиршества, столь явно и щедро присутствовавшая в начале и на протяжении всего повествования, к финалу как-то стихает, съеживается или исчезает вовсе. Даже в «Старосветских помещиках», где почти все держится на еде (Д. Мережковский), по мере приближения финала настроение меняется; причем предел себе кладет сама еда: после того как упоминается любимое кушанье его покойной жены, Афанасий Иванович заливается слезами и уже не может больше есть (а затем следует рассказ о его смерти). Я говорю о сочинениях, написанных еще «прежним» Гоголем. Настоящий духовный переворот в нем еще не свершился, однако его предварения уже ощущаются. В «Старосветских помещиках» или первом томе «Мертвых душ», где говорится об общем похудении чиновников города N, это еще только намек, предчувствие. Во втором томе (я имею в виду его финал) ситуация меняется: желудок теряет ту всепоглощающую власть, которую он имел в первой части задуманной трилогии. Чичиков – это еще не «новый» человек, но уже и не тот, что прежде. Еда и трезвление телом борются друг с другом с переменным успехом. Только что он обещал своему спасителю Муразову позабыть «городские объядения и пиршества», и вот мы уже видим его в тюремной камере за «довольно порядочным обедом» из «какой-то весьма порядочной кухни». Однако общий том финала второго тома вполне определен: желудок уходит с первых ролей, Чичиков почти забывает о пище. Другое дело, если говорить о философии изменения, простым исключением еды и гастрономической темы здесь обойтись не удается. Желудок и пища занимали так много места в прежнем чичиковском мире, что теперь, после их ухода, осталась смысловая (да и фактическая) пустота, которую необходимо заполнить чем-то не менее сильным и значимым.
Чем же? Прежде желудок был «центром», «серединой», теперь же центр смещается и обретает себя в органе, который имеет такие же (если не большие) права на наименование «срединного» и самого «благородного». Речь – о человеческом сердце.
Сердце
Собственно, смысл центра содержится уже в самом его названии: «сердце» (середина, сердцевина). Упоминания о сердце появляются уже в финале первого тома «Мертвых душ», однако пока это еще только «проба» темы, ее опережающее отражение. Гоголевская мечта о Руси – «сверкающей», «чудной», незнакомой земле дали – пропитана пафосом мистики, что уже сближает ее с «романтикой сердца». Гоголь говорит о песне, что «зовет, и рыдает, и хватает за сердце», о вьющихся вокруг сердца звуках. И – почти сразу после этого мистический полет превращается в обычную дорожную езду с ее желудочной «прозой». «Блещущий мир» вновь соединяется с едой: «золотая бледная полоса» на небе, «ясный пруд, сияющий, как медное дно под солнцем», блестящий, как звезда, «крест сельской церкви; болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке… Боже!». Желудок, как видим, опять в центре, как раз посередине между Святым Именем и крестом Божьего храма.
У Гоголя, как уже говорилось ранее, желудок и храм – слова не чуждые друг другу. Однако, когда в общий разговор вступает сердце, символизирующее мир святости и правды, общий смысловой рисунок становится довольно сложным. Единственное, что в нем различимо вполне явно, это соперничество или сосуществование сразу двух телесных и соответственно смысловых середин, двух начал – животного и человеческого. «Быстро все превращается в человеке: не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе все жизненные соки». Помимо общего дидактического смысла, в этой метафоре из финала первого тома есть и кое-что имеющее прямое отношение к нашей теме: место, где взрос сей «страшный червь», скорее всего, утроба, т. е. область желудка или пищевода; отсюда, собственно, идет и упоминание о поглощении «жизненных соков», и сама идея съедения-поглощения, (ср. со сходной по смыслу гоголевской ремаркой из главы о Плюшкине: «скупость» «имеет волчий голод и пожирает человеческие чувства»).
Мистический «червь» превращается в обычного солитера вроде того, что упоминался в «Коляске». Тема разворачивается в две противоположные стороны: Чичиков говорил, что не хочет «пропасть червем» на этой земле, и в то же время не заметил, как вырастил червя внутри себя самого и в конечном счете превратился в нечто червеобразное. В финале второго тома «Мертвых душ» Чичиков, позабыв о достоинстве, ползает и извивается перед губернатором, как червь, как «безобразнейшее насекомое» (попутно замечу, что и червеподобный цвет чичиковского фрака, в отличие от «фекальных» тонов одежды Акакия Акакиевича и Ивана Яковлевича, тоже весьма характерен – он коричнево-красноватый и с искрою).
Однако теперь это уже не тот Чичиков, что прежде. В терминах символической медицины происходящая в нем перемена может быть описана как схватка желудка и сердца, как попытка агрессивного реванша плоти. Желудок и живущий в нем «страшный червь» не отдают своих прав просто так; Чичиков страдает: «безнадежная грусть плотоядным червем обвилась около его сердца. С возрастающей быстротой стала точить она это сердце, ничем не защищенное». Здесь все представлено предельно точно и символически, и физиологически. Червь – как символ пожирания, плотоядия в противоположность символике сердца, то есть доброте и святости. Проступает здесь и греховная, дьявольская природа, связанная прежде всего с мотивом богопротивного уныния и тоски («безнадежная грусть»). Чичиков, потрясенный превратностями судьбы, постепенно преображается; сердце начинает брать верх над желудком. С этого момента упоминания о сердце нарастают и идут с небывалой прежде частотой. Начинается своего рода «новелла сердца». Чичиков прижимает к груди руку Муразова: он надеется на него, как на последнюю возможность (не случайно профессия Муразова – «откупщик»; он откупает или выкупает Чичикова и в символическом смысле, и в практическом). А затем, не в силах удержать подступившей к сердцу грусти, Чичиков рыдает вновь и вновь. И каждый раз Гоголь не забывает упомянуть о сердце: «Он не договорил, зарыдал громко от нестерпимой боли сердца». И далее: Чичиков рвет на себе волосы, чтобы «заглушить ничем не угасимую боль сердца».
Сердце против желудка. Смена «храмов». Мечта о высшем – против реальности низкого. Таков «антропологический проект» Гоголя. Телесные и идеологические акценты меняются, и, следовательно, мы вправе ожидать изменения доминанты гоголевского мироощущения (и соответственно самоощущения его героев). Я имею в виду пересмотр темы пожирающего мир зрения, самой связки глаза и желудка: если желудок отступает, слабеет и его место занимает сердце, это должно как-то сказаться и на «технологии» мировосприятия (А. Белый понял это как смену зрительных интенций: от взгляда вбирающего к взгляду невидящему). Желудок был связан со зрением, втягивавшим мир и переводившим его в «малообъемный фокус» («фокус» – это опять-таки «середина», оптический эквивалент середины «желудочной»). О последствиях я уже говорил. Поэтому если менять стратегию, то сердцу надо подбирать какого-то другого проводника, не скомпрометировавшего себя, подобно зрению, ненасытной алчностью.
Этим спутником или проводником у Гоголя становится слух или, шире, стихия слова, звучания и соответственно понимания, идущего в прямом смысле слова «от сердца». В конце второго тома «Мертвых душ» эта замена описывается как переход от исходной окаменелости и бесчувствия к новому состоянию, в котором личность начинает открывать в себе «неведомые дотоле, незнакомые чувства». И вместе с этим обозначается четкий переход от зрения к некоему обобщенному «чувству» и конкретно к слуху: «Начинаю чувствовать, слышу, что не так, не так иду…». Тема крепнет и осознает себя. Чичиков повторяет эту же самую мысль, но более развернуто: Чичиков «полупробужденными силами души, казалось, что-то осязал. Казалось, природа его темным чутьем стала слышать, что есть какой-то долг, который нужно исполнять человеку на земле…». Наконец, та же связь сердца и слуха видна и в «финальной» сцене второго тома, где сила зрения почти нарочито ослаблена («Все стояло, потупив глаза в землю»). Генерал-губернатор обращается со своим «кличем» к тем, у кого «еще есть в груди русское сердце и которым понятно сколько-нибудь слово благородство». Здесь значимо буквально все – и «грудь», и «сердце», и «клич» (слово), и само «слово». Неслучайно и то, что «благородство» поставлено в один ряд с «сердцем» (вспомним о прежней гоголевской телесной иерархии с ее самым «благородным» из органов).
Сердце окончательно одержало верх над желудком? Едва ли. Даже второй том не написался, как было задумано, не говоря уже о несбывшемся третьем. Можно сколько угодно часто употреблять слова «сердце» или «человек», но при этом не добиться задуманного, поскольку дело не в статистическом «давлении» ключевого слова, а в реальном переустройстве сюжета, поэтики, их содержательного и структурного состава. В этом отношении во втором томе ничего нового по сравнению с первым почти не произошло. Наиболее удачные места его связаны не с дидактикой или образами «правильных» людей вроде Муразова или Костанжогло, а со все теми же описаниями пиршеств или просто с картинами жизни, картинами по природе своей опять-таки сугубо зрительными.
* * *
По словам кн. Репниной, Гоголь мыслил первый том своей поэмы как «грязный двор», ведущий к «изящному строению» второго и третьего томов. Однако вышло так, что «двор» вышел на славу, ибо был выстроен в полном соответствии с пиршественным, зрительным мироощущением Гоголя, тогда как «изящное строение», требовавшее от него других возможностей восприятия и чувствования, так и осталось недостроенным. Задуманная триада – «души» сначала мертвые, затем спящие и, наконец, пробудившиеся (воскресшие) – оказалась непосильной для Гоголя не потому, что была неверной или необоснованной, а потому, что расходилась с самой природой гоголевского таланта. По «плану» Гоголя (как его теперь можно предположительно помыслить), триада «Мертвых душ» должна была соответствовать триаде мистической. Сначала – сама смерть, затем – тайна загробного существования и, наконец, воскрешение из мертвых. Умиранию здесь соответствовала стихия «поедания», загробному небытию (сну смерти) – трансформация пищи внутри тела, Воскресению – (…)
То, что соответствовало Воскресению, если придерживаться аналогии с пищей, на чудесный финал никак не походило. Хуже того, об этом последнем звене пищеварительной триады лучше было вообще не упоминать.
Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь делает оригинальную попытку исправить положение, однако существа дела это не меняет. Я имею в виду ход неосознанный, интуитивный, но при этом логически оправданный и очень знаменательный. Гоголя беспокоила таинственная метаморфоза умершего в земле зерна, о которой говорил Христос: что происходит «там» – за дверью гроба, что позволяет человеку в Последний день восстать, воскреснуть во всем своем целокупном составе, каким образом умершее, разложившееся превращается в живое и нетленное? Во втором томе «Мертвых душ» эта тема оказывается связанной с именем Костан-жогло. Преобразователь хозяйства, он вместе с тем оказывается и преобразователем в более широком смысле. Предшественники Костанжогло выбрасывали отходы производства за ненадобностью. Он же поступил иначе: из рыбьей шелухи, которую промышленники сбрасывали на берег, Костанжогло начал варить клей, «да сорок тысяч и взял». Построил множество фабрик по переработке того, что другие почитали за мусор: всякий год – новое предприятие «смотря по тому, от чего накопилось остатков и выбросков. Всякая дрянь дает доход…». «Остатки» – вот в чем дело…
Похоже, здесь задето что-то очень важное, глубоко интимное. Чичиков: «Это изумительно. Изумительнее же всего то, что всякая дрянь дает доход». Когда Костанжогло в своих рассуждениях касается других предметов, например «просвещения», Чичиков вновь возвращает его к теме «дряни» и получающегося из нее дохода. Если придерживаться интересующего нас смыслового горизонта, становится понятным, почему именно то обстоятельство, что «отбросы», «остатки» превращаются, как говорит Костанжогло, в «реки золота», кажется Чичикову наиболее важным. А. Белый связывал этот гоголевский мотив с алхимической традицией, однако, если взглянуть на дело иначе, мотив «обратного превращения» дряни в золото может найти еще одно объяснение (вспомним о ситуации в «Заколдованном месте», где все идет «нормальным» чередом: герой искал золото, а получил помои).
Иначе говоря, во втором томе «Мертвых душ» под видом разговоров о преумножении богатства путем правильного, «благоразумного» управления обсуждается вопрос о возможности каким-то образом изменить естественный порядок вещей, заведенный в человеческом организме. Делается метафорическая попытка переделать тело или, если это невозможно, вовсе отказаться от его «услуг»… На языке Костанжогло это звучит как призыв к отказу от «середины» в деле накопления миллионов: начинать нужно не с тысячи, а с копейки, то есть с «начала». На языке же Чичикова, как мы помним, «середина» не что иное, как эмблема благополучия, телесным эквивалентом или «синонимом» которого выступает желудок. Соответствующий оттенок приобретает в этой ситуации и сама фамилия переустроителя природы Костанжогло. Она может обозначать не только идею Востока («огло» как искаженное «оглы»)[29]29
Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 475.
[Закрыть], но и анаграмму слова, выражающего крайнюю степень бережливости и аккуратности в еде: «(ж) огло» как вариант «глодать» или «гложу». В сочетании с первой половиной фамилии («костан» – «кость») смысл «глодания» отбросов, остатков (или останков?) становится еще более явным.
И все же реальной смены «середин» не происходит. «Правильные» рассуждения Костанжогло и раскаянье Чичикова не обладают той силой убедительности, которой в полной мере были насыщены прежние описания Чичикова-миропожирателя. Гоголевская мечта или даже уверенность в креативной мощи собственного таланта, в его способности влиять на ход земных дел не выдержали столкновения не столько с «правдой» социальной жизни, сколько с реальностью тела, с его принципиальной неспособностью стать таким, каким его хотел видеть Гоголь. Поначалу это не было проблемой, затем – с возрастом – превратилось в проблему неразрешимую: чаемый порядок вещей оказался неосуществимым.
Не свершив как будто никаких преступлений, Гоголь в конце жизни почитал себя страшным грешником, вина которого превосходит все мыслимые ожидания. Что он имел в виду, кроме него и, может быть, о. Матфея, не знал и уже не узнает никто. Однако если предположить, что в какой-то момент Гоголь осознал и осудил сам способ своего восприятия мира, тогда гоголевское беспрецедентное самоосуждение и слова о. Матфея («В нем была внутренняя нечистота») становятся хотя бы до некоторой степени понятны, приобретая помимо смысла метафорического и смысл конкретно-телесный. «Страшное дело», свершенное Гоголем в русской литературе, его «негативная антропология» (С. Бочаров)[30]30
Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 159.
[Закрыть], поставленные в общий смысловой ряд с гоголевской интуицией переустройства человека, таким образом, находят соответствие и в слое телесно-чувственном. Отделить одно от другого здесь просто невозможно, что – каждый по-своему – понимали и Гоголь, и его духовный наставник. Другое дело, что запретительные меры, предписанные Гоголю о. Матфеем, были несоизмеримы с тяжестью его творческого «греха», с верой в то, что он своим писательством способен произвести новый мир и нового человека. В этом отношении «диагноз» Мережковского, увязывающий смерть Гоголя с его эстетическим и одновременно онтологическим кредо (не писать – значит не жить), представляется наиболее точным. У Гоголя был выбор, однако авторитет духовника пересилил его интуицию, поставив перед фактической необходимостью самоубийства: «Сознание говорило ему: умертви свое тело», поскольку «жить в Боге значит уже жить вне самого тела»[31]31
Мережковский Д. С. Гоголь. Творчество, жизнь и религия. СПб.,1909. С. 169.
[Закрыть]. Или, иными словами, не жить физически.
Я не стану приводить подробности последних дней Гоголя, они хорошо известны и подробно изложены в брошюре д-ра А. Тарасенкова и в «Материалах» В. Шенрока. Если же говорить о том общем, что проступает в этих подробностях, так это настойчивый отказ Гоголя от пищи. Фактически за неделю до смерти Гоголь не ел и не пил ничего, кроме воды, разбавленной красным вином (литургийный смысл воды и вина достаточно очевиден). В последний момент Гоголь борется с тем, что прежде составляло его главный жизненный интерес. Он борется с тем порядком функционирования тела, на который раньше всецело полагался, а теперь пытается искоренить или, во всяком случае, как-то приостановить: ведь если пища перестанет поступать внутрь тела, то отпадет вопрос о ее последующих внутри утробных превращениях. Последнее очень важно, поскольку из сохранившихся свидетельств становится ясно, что врачи не только насильственно кормили Гоголя, но и столь же насильственно добивались восстановления отправных функций его организма.