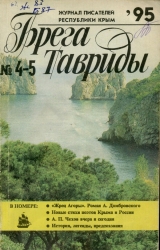
Текст книги "Не плачь, Охотник"
Автор книги: Леонид Панасенко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
НЕ ПЛАЧЬ, ОХОТНИК!
Я много сплю вовсе не потому, что так уж люблю спать.
Когда родные мне люди уходят, когда я остаюсь совершенно один в доме, мне становится так одиноко, что остается или спать (тогда они быстрее возвращаются), или ждать – под входной дверью, или посреди комнаты, куда стекаются все запахи, или на перилах балкона.
Если я когда и умру, то от одиночества.
Я вовсе не умею думать – только чувствую. Из слов, которые меня окружают, я отчетливо выделяю свои имена (их почему‑то очень много) и еще «кушать», «гулять», «рыба». Эти слова я понимаю. Другие только воспринимаю – на слух. Последнее время я еще научился связывать звуки, которыми обмениваются родные мне люди, с некоторыми вещами в доме или с тем, что с ними происходит. Если, например, говорят «холодильник», то это белый ящик, в котором хранится моя рыба и другая еда. Словом «голубь» люди называют нахальных, толстых и, очевидно, очень вкусных существ. Обычно они сидят на деревьях, но часто прилетают на мой балкон. Какая наглость! Знать, что здесь живет огромный пушистый красавец–кот и позволять себе расхаживать по перилам, ворковать?! Конечно, я их немилосердно гоняю. Это непросто. Противную птицу, порой, надо полдня караулить, сидеть в засаде за старым чемоданом. Пока я не поймал ни одного из этих нахалов, но мириться с таким соседством не собираюсь.
С людьми я разговариваю редко. Они какие‑то бестолковые – совершенно не понимают моего языка, и я каждый раз вынужден по десять раз повторять одно и то же или показывать, что я хочу.
Например, я говорю: «Нау». «Хочешь кушать?» – спрашивает Папа. «Нау» – отвечаю я, и это означает «нет». «Хочешь гулять?» – «Нау!» уже сержусь я, и это тоже означает «нет». Наконец Папа поднимается с кресла и говорит: «Ну ладно. Веди, показывай, что тебе надо». Я бегу впереди него, царапаю лапой дверь, которая обычно бывает приоткрытой, а сейчас почему‑то заперта. Там стоит миска, в которую я писяю. Что ж тут непонятного?
Однако пора, наверное, представиться.
Когда я был совсем маленьким, меня называли Мишель. Папа по этому поводу сказал как‑то гостям непонятную мне фразу: «Это Максим придумал. Он учит в школе французский и окрестил его на французский манер». Потом меня стали называть – Мишук, Мишка, Мишуня. А еще Шуня, Шук, Щуданя и Шукан. В те времена я, наверное, не все умел делать, как надо. Была еще одна непонятная фраза: «Смотрите, какие у него голубые глаза и пушистые прописяные «штанки», после чего меня называли то Скунсяным, то Тхориком и все смеялись. Позже у меня появилось еще много других имен: Зайчик, Серый, Джудик, Котячий сынок, Кусюный, Чук, Теплый живкан, Серенький волчок, а также Драный кот и Паразит – это на случай, если я сделаю что‑нибудь плохое.
Кроме меня в доме живут Папа, Мама и Человеческий сынок. Они совсем другой породы, чем я. Огромные, двуногие и совершенно голые – шерсть у них растет только на голове. Они любят меня – потому и голоса у них теплые, ласковые. Они часто гладят меня, берут на руки. Иногда они заняты чем‑то своим и не обращают на меня внимания. Тогда я начинаю качаться на полу, или кладу голову в одну сторону, а живот и задние лапы поворачиваю в другую, перебираю ими. В таких случаях кто‑нибудь обязательно говорит: «Ну, посмотрите на нашу балерину!» Я не понимаю смысла этих слов, но они лучатся таким теплом, что я закрываю глаза и снова качаюсь, вытягиваюсь, ползу на спине.
Голоса родных мне людей и тех, кто изредка приходят в наш дом бывают разными. Чаще всего и приятней всего – теплыми и ласковыми. Как тепло небесного огненного шара, который согревает мои любимые места – на подоконнике и в кресле. Как прикосновения рук, родных людей, когда они гладят мне голову, шейку, живот. Бывают жаркими. Это когда и слов, и ласк чересчур много. Иногда я не выдерживаю их обжигающей любви: слегка кусаю руку, гладящую меня, и удираю. А еще голоса бывают прохладными. Чаще всего это голоса чужих людей. Я запоминаю их и никогда не иду к ним на руки, не открываю им свой пушистый живот. Холодным голосам нет веры. Я уже не говорю о ледяных. Такой бывает, например, у Мамы, когда я что‑нибудь случайно переворачиваю или когда я несколько раз с возмущением обнаруживал на вещах «метки» других котов и тут же перемечивал их. Запах Мамы только появляется возле дома, как что‑то в таких случаях подсказывает мне: прячься! Мама входит и с порога спрашивает: «Где ты, Паразит?! Я тебя сейчас убью». После этого меня находят, тыкают носом в «метку» и лупят то ли газетой, то ли журналом – в зависимости от степени вины. Так вот. Я никогда не боялся самого наказания. Но голоса Мамы или Папы… Они в этих случаях становятся такими ледяными, что сердце мое обмирает от страха, я готов сбежать на край света, сдохнуть —лишь бы не мучиться, не терзаться виной, вернуть им былое тепло.
Сегодня день тихий, спокойный. В доме один Папа. Он водит палочкой по бумаге и на ней появляются черные значки. Я смотрю на это его странное занятие с подоконника. Ему тоже грустно и одиноко. Я перехожу на стол, ложусь на бумагу, обнимаю лапами руку Папы и кусаю палочку. Папа говорит что‑то ласковое, гладит меня. Видно, я ему таки помог. Но тут он освобождает руку, снова начинает рисовать значки. Я ловлю его палочку, пробую ее грызть – твердую и невкусную.
– Иди гулять, Шуган, – говорит Папа и опускает меня на пол.
Голос у него еще теплый, но в нем появляются холодные сквозняки. Ладно. Я не хочу спорить. Гулять так гулять. Главное, что Папа в доме.
Я иду в большую комнату, становлюсь на задние лапы и нюхаю в вазе цветы. Они невкусные. Есть другие – белые и красные, на суставчатых птичьих лапках. Те цветы будят во мне охотника. Я знаю, что за это обязательно будут бить, но все равно, когда они появляются в доме, улучаю момент и обязательно перегрызаю одну из «птичьих лапок». Сейчас я только решаю попить из вазы – вода здесь всегда вкуснее, чем из‑под крана.
Гулять так гулять.
Я иду к приоткрытой двери, ныряю под колышущуюся занавеску. Это огражденное пространство, это большущее гнездо моих хозяев называют «балконом». Здесь солнечно и жарко. Но есть здесь и тень, и укромные уголки. Кроме того, – запахи… Их здесь так много, сильных и разных, что прогуливаясь по перилам можно свалиться вниз. Впрочем, со мной такого еще не бывало – какие бы запахи не кружили голову.
Но что это?!
Воздух надо мной приходит в движение. Бело–серая тень опускается на перила. Солнце бьет мне прямо в глаза, не дает рассмотреть добычу, но я всем нутром чувствую – это она. Огромная птица, у которой вкусно все – запах, голос, перья, которые иногда попадают на балкон. Я сжимаюсь, прицеливаюсь. Бросок! Вот она! Я держу ее когтями, впиваюсь зубами в перья!
В следующий миг птица оглушительно бьет крыльями, вырывается. Я падаю на деревянную решетку, а в воздухе кружится пух и сладко пахнет кровью.
На шум прибегает Папа. Я кричу ему:
«Вот! Я только что держал ее в лапах. Ты видел, видел? Я ее поймал! Где она?!. Куда она девалась?!»
Папа, конечно, не понимает моего языка, но догадывается, что произошло. Он берет меня на руки, несет в комнату. Он гладит меня и приговаривает:
– Не плачь, Охотник мой, не плачь. Ну, не поймал ты этого жирного голубя – и ладно. Не плачь.
Человеческий сынок восклицает:
– Смотрите, у Шукана вся морданя в перьях. Он их жует! Мама тоже что‑то говорит. Наверное, о том, что я все‑таки зверь и хищные инстинкты заложены во мне от природы. Смысла ее слов я не понимаю, но звучание фразы знакомо. Как и многих других, которые повторяются. Вот и сейчас появляется много слов, знакомых цепочек слов. Они особенно часто звучали прошлой жарой – еще перед белым и холодным и даже перед танцами листвы. Эти цепочки слов мне неприятны, потому что я вновь вспоминаю пережитое тогда. Страшное и непонятное. Жуткое.
Помню: посреди жары меня посадили в сумку и куда‑то понесли. Сначала я подумал: мы едем гулять в рычащей желтой коробке, которая так быстро катится и так трясется, что меня всегда укачивает.
Однако меня донесли до полосы, по которой бегают рычащие коробки и понесли дальше. Эти места я тоже знал – иногда меня приносили сюда побегать среди кустов и пожевать травки. Но и тут Папа меня не отпустил. Я оглядывался, высунув голову из сумки, а Мама и Человеческий сынок говорили мне что‑то теплое–теплое.
Мы вошли в огромный дом, который был в два раза выше нашего, и вскоре оказались в чужой квартире. Впрочем, запах там мой был, но очень слабый, тающий. Значит, я был здесь когда‑то, но не запомнил. Не запомнил я и двух людей, которых мои родные называли Бабушкой и Дедушкой.
Меня опустили на пол. Я прошелся по квартире, потыкался во все углы, и вернулся к Папе.
– Мы вечером уезжаем, – сказала Мама. – Пусть Мишель побудет пару недель у вас.
И они, мои родные, ушли. Я лег спать, чтобы они поскорее вернулись и забрали меня. Вечером я съел кусок рыбы, попил молока и уселся возле входной двери. Я знал – дома все собираются вечером. Время шло, но ни Паны, ни Мамы, ни Человеческого сынка не было.
Бабушка и Дедушка смотрели в ящик, где двигались и разговаривали люди только маленькие. Такой же ящик есть и в нашем доме, и яего по–своему люблю. Пока он говорит, можно к кому угодно забраться на колени и подремать, чувствуя как ласковая рука перебирает тебе шерсть на животе или на спине.
Родных людей все не было, и я несколько раз мяукнул под входной дверью. На меня накричали – не зло, но голос Бабушки был прохладным. Вскоре длит погас. Погас и яркий свет. Я забрался в кресло и решил спать – родные иногда задерживаются, что мне делать, как не спать.
Так сменилось несколько периодов света и тьмы. Я могу ждать долго, я научился быть одиноким (за это потом всегда такие жаркие ласки!). Но запахи… Здесь все было чужим! Я стал метить дом – кресло, диван, углы. От этого он, увы, не стал роднее. Кроме того, каждый раз я был бит – не смертельно, но с пожеланием «чтоб ты сдох», смысл которого не известен мне до сих пор.
А с балкона приходили другие запахи. Земля и деревья здесь были раза в три дальше, чем у меня дома. Они даже пугали своей глубиной. Но именно оттуда изредка прилетали тихие неуловимые запахи – следов Папы н Мамы, Человеческого сынка. Все это было там – внизу.
Где‑то там, за этими запахами, угадывался настоящий дом. Где все родное, где Папа, Мама, Человеческий сынок, которые почему‑то все не идут и не идут.
Я не мог уже спать. Мне хотелось умереть от холода, который в этом доме исходил от всех вещей, от голосов чужих мне людей. Но зачем умирать, когда есть родные запахи, когда они указывают дорогу?!
Я много раз пытался выскочить во входную дверь, но ее крепко стерегли. Я много раз ходил по перилам балкона (тут он был огромный), даже захаживал к соседям. Никакого пути вниз не было. Не за что зацепиться, некуда перепрыгнуть, не по чему нельзя спуститься. Около балкона летали птицы. Я запомнил: Дедушка и Бабушка называли их ласточками. Я посматривал на них. Так уж я устроен, что все, что движется и летает, привлекает мое внимание. Дома, например, я мог гоняться по всей квартире за ночной бабочкой, взлетая за ней по ковру под потолок и запрыгивая на стенку. Но это вовсе не значит, что я только и думаю об охоте. Я думаю о родных мне людях, которые девались неизвестно куда, о своем доме. Я знаю, чувствую: он рядом, он никуда не девался, там везде следы моих лап, моя серая шерстка, которую я постоянно теряю. Там прекрасные запахи монх жен – Анфисы и несравненной Моти.
Днем я обычно сплю. А по вечерам, когда меркнет этот противный свет, когда приходит прохлада, начинаю жить и… тосковать. Вечером и ночью я отчетливо вижу все, что днем расплывается, колеблется, сверкает. Я сижу тихонько на перилах балкона и в который раз всматриваюсь в кусты и деревья, что растут внизу. Там гуляют мои родичи. Они охотятся и дерутся, они заводят любовные песни – мне так хочется к ним, мне так одиноко.
То, что случилось прошлым теплом, тогда, у Дедушки с Бабушкой, я помню и сейчас, хотя обычно все напрочь забываю.
Да, я снова сидел на перилах балкона. Светлая пора только начиналась, и над головой носились и попискивали птицы. Я не обращал на них внимания – надоели. Вдруг внизу, во дворе, появился светловолосый мальчик. Я вскочил. Человеческий сынок! Мальчик уходил. Я примерился и… прыгнул в зеленую крону самого высокого дерева. Вспарывая лапами листья, ломая мелкие ветки, я летел вниз, пытаясь уцепиться за что‑нибудь когтями. Удар! Я, конечно, спружинил лапами, но удар был настолько сильным, что на какое‑то время я перестал видеть и слышать.
Очнулся я на толстой ветке. Мальчик уходил. У него был чужой запах и я понял: это Человеческий сынок, но другой, не мой. В следующий миг на меня набросились ужас (как я мог прыгнуть с такой высоты?!) и боль в животе и грудке – я все же сильно ударился о ветку. Когти мои так глубоко вонзились в кору дерева, что я не сразу их освободил. Земля теперь была близко, но ужас и боль не давали мне двинуться, и я застонал. Помню несколько фраз, значение которых я не понял, но которые, очевидно, относились ко мне:
– Чей это кот орет?
– Упал с пятого этажа. Повезло – на дерево попал.
Затем голос Бабушки:
– Это он за ласточками полетел.
Потом меня сняли с дерева и отнесли обратно в чужой дом.
Сегодня вечером, как я уже упоминал, в разговорах родных мне людей мое имя звучит особенно часто.
– Я не верю, что он прошлым летом прыгнул за ласточками – говорит Папа. – Тосковал, гадил, а затем собрался домой. У котов, кстати, есть особое чутье. Похожее на телепатию. Я читал где‑то об одном английском докторе из графства Кент. Он приехал с котом по имени Битл в Лондон и… потерял там своего любимца. А через полгода Битл вернулся домой. Семьдесят пять миль проплутал бедный кот. Представляете?! Перебрался через Темзу, через парк Мидуэй… В сравнении с одиссеей Битла, нашему Мишуку домой добраться – раз плюнуть. Через дорогу перебежал – и дома.
– А другой кот добирался домой пятьсот миль, – перебивает Папу Человеческий сынок. – Из Глазго в Корнуэлл. А кошка Принс во время первой мировой войны, чтобы найти хозяина, пересекла Ла–Манш. А еще...
– Вы случайно не завели досье о котячих подвигах? – спрашивает Мама и вздыхает: – Так что все‑таки будем делать с Мишуком?
– Что тут придумаешь, – Папа тоже вздыхает. – Отпуск есть отпуск. Потерпит. Не так уж ему там плохо. А заскучает – пусть сюда принесут.
Я сижу на ковре и поочередно смотрю на родных мне людей. И что они обо мне говорят? Вот бы научиться понимать.
Мне давно хочется спать. Я зеваю, встаю, потягиваюсь. Затем подхожу к Маме и трусь об ее ноги – я привык спать у нее в ногах.
– Смотрите, – смеется Человеческий сынок. – Он Маму спать зовет.
Не подозревая ни о чем дурном, я иду на кухню. Вот моя рыба, никуда не делась. Ладно, съем ее утром, а сейчас и баиньки пора.
Утром… Меня берет Папа, поднимает над кроватью. Я даже не открываю глаз, так как привык – родные люди таскают меня и перекладывают, как им заблагорассудится. Меня запихивают в сумку. Это я тоже переношу спокойно, так как люблю всякие укромные уголки (я всегда забираюсь во все коробки, которые появляются в доме, во все шкафы, которые умею открыть).
Мы выходим из дому. Прогулка? Что может быть прекрасней! Я много раз просился на улицу и даже дважды сбегал, прошмыгнув во входную дверь, чтобы побродить в палисаднике перед домом.
Но мы идем дальше. Переходим через полосу, по которой бегают рычащие коробки, проходим мимо кустов и клумб, и тут я с ужасом понимаю: меня снова несут туда! В чужой дом. Из которого я, якобы, улетел за ласточками.
Я начинаю вырываться из сумки. Папа говорит мне что‑то ласковое, гладит по голове но я отчаянно цепляюсь когтями за сумку, пытаюсь выскочить из нее. Тогда Папа запихивает меня во внутрь и застегивает сумку. Я затихаю. Я понимаю: происходит нечто ужасное. Но как, как я могу воспротивиться, как мне сказать родным людям, что без них, без своего дома я умру?!
Я даже не замечаю, что меня выгружают из сумки в квартире Бабушки и Дедушки. Я само спокойствие – от меня все равно ничего в этом мире не зависит. Кто поймет и кому нужны чувства и переживания двухкилограммового куска живой плоти, клубка серой шерсти?! Безъязыкого и беспомощного. Папа прощается со мной, уходит.
Что ж. Я попробую снова ждать.
И я жду. День, другой, третий. Я много сплю, дожидаясь, что родные мне люди придут и заберут меня домой. Но их нет и нет.
Еще раз кончается в мире свет.
Я сижу на перилах балкона и поглядываю на глупых ласточек, которые суетятся чуть ли не над моей головой. Конечно, Папа прав – в душе я Охотник. Будь это дома, я бы показал этим безмозглым птицам, что котов, особенно сибирских, надо уважать. Но сейчас… Тонкие ароматы цветов, мрачный дух асфальта и специфический запах разогретых за день рычащих коробок, которые стоят внизу перед домом, не в силах заглушить папин След. Он идет вдоль дома, поворачивает за угол. Я знаю дорогу и без папиного Следа. Я знаю теперь, как надо прыгнуть на дерево, чтобы не разбиться, и во мне давно нет того ужаса высоты, который прошлый раз намертво вогнал мои когти в кору дерева.
Уже темно. Пора! Я встаю, медленно иду по перилам. Ласточки, наверное, улетели на небо, за ушедшим солнцем – высоко–высоко видны серебристые блестки. Я тщательно выбираю место для прыжка. На мгновение ветерок страха касается моей шерсти, но тут же улетает прочь. Пора!
Серой бесшумной тенью я бросаюсь вниз. Листья, ветки… Вот. Даже не успел испугаться. И не ударился. Теперь вниз – на землю. Ощущение немеряного пространства вокруг заставляет меня быть на улице осторожным. Это очень неуютное ощущение. Очевидно, я привык, что меня всегда защищают от возможных опасностей стены. Здесь стен, увы, нет… Надо надеяться только на самого себя.
Папин След передо мной. Прижимаясь к кустам палисадника, бегу туда, куда уводит родной запах. За домом деревья, кусты, клумбы. Здесь я гулял – и не раз. Здесь есть и мои метки.
Дальше папин След выводит на дорожку, которая идет вдоль огромного–огромного дома, не похожего на остальные. Мама, кажется, называла его «дворцом».
След вдруг теряется.
Я поднимаю голову. Передо мной темная полоса, по которой днем бегают рычащие коробки, а за ней… Вон мой дом! Мой балкон, мои укромные места, где все знакомо и приятно. Там Мама, Папа, Человеческий сынок. Там их теплые голоса.
Я бету по направлению к дому.
На пустой и темной полосе вдруг вспыхивают два огромных слепящих глаза. Я слышу звук рычащей коробки. Он приближается. Приближаются и огромные страшные глаза. Другой край темной полосы уже близок. Я знаю – за ним этот свирепый зверь оставит меня в покое, он там не охотится. Я бегу так стремительно, что асфальт обжигает мне лапы. Зверь рядом. Что будет в следующий миг – не знаю. Знаю только, что я вернулся. Вот я. Вот мой дом. Там родные мне люди тоскуют обо мне, дожидаются меня. Как они обрадуются! «Шукан наш! Вернулся, прибежал!». Они вспомнят все мои имена. Я упаду на спину, буду урчать и кататься на полу. Теперь я если и умру, то не от одиночества, а от ласки, которая ожидает меня дома.
Свет и грохот рядом.
Где вы, мои родные?! Вот же я, вот. Ваш Мишук.








