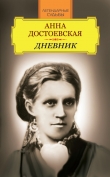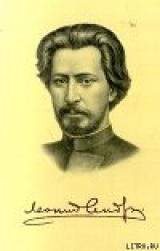
Текст книги "Сашка Жегулёв"
Автор книги: Леонид Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
4. Дети растут
Года три жила Елена Петровна спокойно и радостно и уже перестала находить в Саше то особенное и страшное; и когда первою в чреде великих событий, потрясших Россию, вспыхнула японская война, то не поняла предвестия и только подумала: «Вот и хорошо, что я взяла Сашу из корпуса». И многие матери в ту минуту подумали не больше этого, а то и меньше.
Но уже близилось страшное для матерей. Когда появились первые подробные известия о гибели «Варяга», прочла и Елена Петровна и заплакала: нельзя было читать без слез, как возвышенно и красиво умирали люди, и как сторонние зрители, французы, рукоплескали им и русским гимном провожали их на смерть; и эти герои были наши, русские. «Прочту Саше, пусть и он узнает», – подумала мать наставительно и спрятала листок. Но Саша и сам прочел.
– Отчего ты такой бледный, Сашенька? Устал в гимназии?
– Устал.
– Тебе не хочется говорить? А я думала прочесть тебе про «Варяга».
– Мы уже читали.
Она не расслышала слова «мы» и видела только хмурую бледность, вдруг заметила, что обвод глаз стал словно чернее и сами глаза глубже. И не успела еще осмыслить замеченного, как поднял Саша эти самые свои пугающие глаза и строго сказал:
– Ты не имела права. Зачем ты взяла меня из корпуса? Ты не имела права. Отец не позволил бы брать, если бы не умер.
Она чуть не закричала, но сдержалась и сухо, избегая взгляда, сказала:
– Тебе четырнадцать лет! Этого слишком еще мало, чтобы судить о поступках матери. И ты сам никогда не хотел военной службы.
– Ты не имела права. Люди там умирают, а ты меня бережешь. Ты не имеешь права меня беречь.
– Саша!
Но он не стал говорить и ушел в сад, на узенькую дорожку в снегу, которую прочистил сам; и ходил до самых синих сумерек раннего зимнего заката. Если бы он заплакал, знала бы, как поступить, чтобы утишить детское горе, но страдание молчаливое и сдержанное делало ее бессильною и пугало: слишком много чувствовалось в нем непонятной мужской силы. «Говорит такое, а сам и не волнуется как будто», – подумала Елена Петровна про Сашины жуткие глаза. Но когда подошла к зеркалу, чтобы оправиться, как по женской своей привычке делала после каждого сильного волнения, то увидела, что и она по внешности совсем спокойна и даже незачем оправляться. Долго смотрела Елена Петровна на свое отражение и многое успела передумать: о муже, которого она до сих пор не простила, о вечном страхе за Сашу и о том, что будет завтра; но, о чем бы ни думала она и как бы ни колотилось сердце, строгое лицо оставалось спокойным, как глубокая вода в предвечерний сумрак. Отходя, она провела рукой по гладким волосам и решила: «Это у нас характер такой… что ж, я очень рада».
Тяжелый и опасный разговор не возобновлялся по тайному соглашению матери и сына, а вскоре Елена Петровна и совсем позабыла о холодной и странной вспышке. К тому времени с Дальнего Востока потянуло первым холодом настоящих поражений, и стало неприятно думать о войне, в которой нет ни ясного смысла, ни радости побед, и с лёгкостью бессознательного предательства городок вернулся к прежнему миру и сладкой тишине. Успокоились и городские дети, и хотя по-прежнему играли в войну, но охотнее именовали себя японцами; но увлекались японцами и взрослые, ставили в пример их отношение к смерти и даже маленький рост.
Как-то вечером, уже в первых числах марта, разразилась последняя свирепая метель, и голый сад загудел напряженно и страстно; казалось, будто весь он поднялся на воздух и летит стремительно, звеня крылами и тяжело вздыхая обнаженной грудью. Мамы не было дома, она ушла еще после обеда куда-то в гости, и Линочка рисовала, когда в тихую комнатку ее тихо вошел Саша и сел у стола, в зеленой тени абажура. Та же зеленая тень крыла и Линочкино лицо, делая его худее и воздушней; а короткие пальчики, ярко освещенные и одни как будто живые, проворно и ловко работали карандашом и резинкой. На Сашу она не взглянула, так как привыкла к таким посещениям, и только через минуту сказала, не поднимая глаз от рисунка:
– Теперь в лесу волки.
– Что-то не хочется читать, – сказал Саша. – У тебя в комнате теплее, а у меня снег бьет прямо в окна.
– Ну и сиди, грейся.
Замолчали. Саша слушал, как в звоне и гуле улетает сад; и странно было, что сквозь его мощный рев пробивается тихое, уютное поскрипывание карандаша по бумаге – странно и приятно.
– Лина!
– Ну?
– Ты любишь называть меня греченочком. Пожалуйста, не называй меня так, я не хочу быть похожим на грека.
– Да родной же мой Сашечка…
Крепко потерла резинкой и продолжала:
– Да родной же мой Сашечка! – отчего не называть? Греки бывают разные. Ты думаешь, только такие, которые небритые и с кораллами… а Мильтиад, например? Это очень хорошо, я сам, я сама хотела бы быть похожей на Мильтиада.
– Нет, я не хочу. Я хочу быть похожим на русского.
– Ну как хочешь! Русский так русский.
Снова помолчали. Саша сказал:
– Байрон был великий поэт. Он умер, сражаясь за свободу греков.
– Я знаю, – ответила Линочка, хотя в первый раз услыхала, что Байрон умер за свободу. – Не мешай, Сашечка, а то навру.
– А она похожа на гречанку.
– Мама?
Вопрос был нов и интересен, и Линочка положила карандаш. Оба, нахмурившись, смотрели друг на друга, вспоминая, что видели греческого, но только и могли вспомнить, что гимназическую гипсовую Минерву с крутым подбородком и толстыми губами.
– Нет, не похожа! – решила Линочка, вздыхая от натуги.
Саша улыбнулся в своей зеленой тени:
– А я знаю, на кого она похожа. Сказать? Она похожа на одну бабу с базара, которая продает селедки, такая закутанная в платок.
– Ну вот глупости, нашел с кем сравнить! Мама такая… – Линочка искала слова, но не нашла, – такая… барыня.
– Нет, правда. Я не могу тебе объяснить, но она ужасно, ужасно похожа! Особенно, когда никто не покупает и она сидит так, сложив руки, и совсем не шевелится, а из-под платка такие ужасно огромные глаза. Ты не думай, я ее уважаю.
– Погоди, не мешай, я припоминаю.
Линочка совсем спрятала глаза в брови и полураскрыла рот; и вдруг задохнулась и зловещим шепотом сказала:
– Сашенька! Я нашла!
И все более таинственным шепотом, округлив глаза, шептала:
– В нашей церкви… знаешь? – есть на левой стороне картина… знаешь? – и там нарисована одна святая, и ну вот! Она похожа на икону!
– Правда? – поверил Саша.
– Нет, ты подумай, как это страшно: на икону!
Оба испугались. Мама, обыкновенная мама, такой живой человек, которого только сейчас нет дома, но вот-вот он придет, – и вдруг похожа на икону! Что же это значит? И вдруг она совсем и не придет: заблудится ночью, потеряет дом, пропадет в этом ужасном снегу и будет одна звать: – Саша! Линочка! Дети!..
– Куда ты, Саша?
– Встречать маму.
– Иди, иди! Какой ветер!
– Она сказала, что зайдет к Добровым.
– А калоши?
– Я без калош.
В прихожей не было огня, и в окно смотрела вечно чуждая людям, вечно страшная ночь.
– Где моя тужурка?
– Вот. Я держу. Иди, иди!
После этого страшного вечера, закончившегося, однако, совсем благополучно: Елена Петровна уже подъезжала к дому на извозчике и встретила Сашу у самой калитки, – связь между детьми и матерью как будто еще окрепла, а в обращении Саши появлялась особая мягкость, сдержанная нежность и какое-то своеобразное джентльменство. Словно в этот именно вечер, сознав себя взрослым, Саша по-мужски услуживал матери, провожал ее по вечерам и уже пробовал, насилуя свой рост, вести ее под руку. Но делал он это с таким достоинством, что не пришло в голову улыбнуться ни Линочке, ничего неестественного не заметившей, ни самой Елене Петровне. Ходил Саша тайно от Линочки и в церковь, где была картина, и нашел, что сестра права: какое-то сходство существовало; но он не долго думал над этим, порешив с прямолинейностью чистого ребенка: «Все матери святые». Но то, что всегда знала мать: боязнь утраты – почувствовал и Саша, узнал муку любви, томительность безысходного ожидания, всю крепость кровных уз… Ибо суждено ему было теми, кто жил до него, поднять на свои молодые плечи все человеческое, глубиною страдания осветить жестокую тьму. Только те жертвы принимает жизнь, что идут от сердца чистого и печального, плодоносно взрыхленного тяжелым плугом страдания.
Так жили они, трое, по виду спокойно и радостно, и сами верили в свою радость; к детям ходило много молодого народу, и все любили квартиру с ее красотою. Некоторые, кажется, только потому и ходили, что очень красиво – какие-то скучные, угреватые подростки, весь вечер молча сидевшие в углу. За это над ними подсмеивался и Саша, хотя в разговоре с матерью уверял, что это очень умные и в своем месте даже разговорчивые ребята.
– Чего же они тогда молчат? – негодовала Елена Петровна, имевшая, как и Линочка, среди гимназистов своих врагов и друзей.
– Не знаю, боятся, что ли! Ты не сердись на них, мама. Они говорят, что только у нас и видят настоящую жизнь.
– Врут! – определяла Линочка, – Тимохин даже танцевать не умеет, я ему предложила, а он смотрит на меня, как бык с рогами.
– Тимохин один у нас во всем классе сам учится английскому языку, почти уже выучился, – сказал Саша.
– Какой англичанин!
Но Елена Петровна уже примиряла:
– Конечно, это хорошо, но только как же он с произношением?.. И совсем не надо всем танцевать, а ведь можно же спорить, как другие… Впрочем, не знаю, ты их лучше знаешь, Сашенька!
И в следующий раз усиленно любезничала с нелюбимцами, а те от этого крепче замолкали, и она снова негодовала и жаловалась. Но это были пустяки, а, в общем, все дети были так хороши, что хотелось только глядеть на них из уголка и радоваться. И тем особенно были они хороши, что не было ни одного лучше Саши: пусть и поют и поражают остроумием, а Саша молчит; а как только заспорят, сейчас же каждый тянет Сашу на свою сторону: ты согласен со мною, Погодин? И с кем Погодин согласился, тот считает спор оконченным и только фыркает – точно за Сашиным тихим голосом звучат еще тысячи незримых голосов и утверждают истину.
Но этому свойству Сашиного голоса удивлялась и не одна Елена Петровна; и только сам он, кажется, ничего не подозревал.
5. Сны
…Но откуда эта тайная тоска, когда все так хорошо и жизнь прекрасна! Не радуется ли утро дню и день вечеру? – и не всегда ли плывут облака, и не всегда ли светит солнце и плещется вода? Вдруг среди веселой игры, беспричинного смеха, живого движения светлых мыслей – тяжелый вздох, смертельная усталость души. Тело молодо и юношески крепко, а душа скорбит, душа устала, душа молит об отдыхе, еще не отведав работы. Чьим же трудом она потрудилась? Чьею усталостью она утомилась? Томительные зовы, нежные призывы звучат непрестанно; зовет глубина и ширь, открыла вещие глаза свои пустыня и молит: Саша! Линочка! Дети! Или спит Саша крепко, и этот ночной гул мощных дерев навевает ему сны о вечной усталости, о вечной жизни и беспредельной широте?
Открывает глаза и видит в светлеющее окно: машут ветви, и это они гонят в комнату тьму, и от самой постели тьма и от самой постели Россия.
Но зачем так ярки сны? Видит Елена Петровна, будто ночью забеспокоилась она о Саше и в темноте, босая, пошла к нему в комнату и увидела, что смятая постель пуста и уже охолодала. Подогнулись ноги, села на постель и тихо позвала:
– Саша!
И откуда-то издалека Саша ответил:
– Мама!
Позвала еще:
– Иди сюда, ко мне… Саша!
Но уже не было ответа на этот зов.
Проснулась Елена Петровна и видит, что это был сон и что она у себя на постели, а в светлеющее окно машут ветви, нагоняют тьму. В беспокойстве, однако, поднялась и действительно пошла к Саше, но от двери уже услыхала его тихое дыхание и вернулась. А во все окна, мимо которых она проходила, босая, машут ветви и словно нагоняют тьму! «Нет, в городе лучше», – подумала про свой дом Елена Петровна.
6. Трудное время
Но уже наступило страшное для матерей, пришло незаметно, стало тихо, оперлось крепко о землю своими чугунными ногами. Кто думает, отрывая ежедневно листки календаря, что время идет? Красная кровь уже хлынула с Востока на Россию, вернулась к родным местам, малыми потоками разлилась по полям и городам, оросила родную землю для жатвы грядущего. Было спокойно, и вдруг стало беспокойно; и кто из живущих мог бы назвать тот день, тот час, ту минуту, когда кончилось одно и наступило другое? Когда пришла кровь? Что было раньше, а что было позже? И было ли?
Когда это было, что Саша вернулся домой в четыре часа ночи и перепугал Елену Петровну своим видом – до убийства министра или после? И в этот ли именно раз напугал ее своим видом, или в другой, похожий, или совсем непохожий? Нет, в этот. Нет, в другой. Это было уже тогда, когда начались казни… а когда начались казни? До именин Линочки, когда пили почему-то шампанское, и Елена Петровна пила, и все пели, и было так весело, что и вспомнить трудно, – или после? Нет, конечно, раньше, тогда, когда к ним еще все ходили, и дети по вечерам бывали дома, и Саша вслух читал «Видение Валтасара»:
Падут твердыни Вавилона,
Неотразим судьбы удар…
Но дома ли читал Саша байроновские стихи или же на вечеринке? Да, кажется, на какой-то вечеринке или вообще в гостях; и ему еще много аплодировали.
А когда к ним перестали ходить, – когда был этот ужасный вечер, эта несчастная суббота, в которую никто не явился? Выскочивший из связи времен – как ярко помнится этот вечер со всеми его маленькими подробностями, вплоть до лампы, которая чуть-чуть не начала коптить.
Уже пробило девять, а никто не являлся, хотя обычно гимназисты собирались к восьми, а то и раньше, и Саша сидел в своей комнате, и Линочка… где была Линочка? – да где-то тут же. Уже и самовар подали во второй раз, и все за тем же пустым столом кипел он, когда Елена Петровна пошла в комнату к сыну и удивленно спросила:
– Что же это значит, Саша? Никого еще нет.
Саша положил брошюрку – да, это была брошюрка в красной обложке! – и как будто совсем равнодушно ответил:
– Они, вероятно, и не придут.
– Вероятно?
– Нет, наверное. Сегодня собрание у Тимохина.
– А почему же не у нас? Я ничего не понимаю… и ты меня даже не предупредил!
И вдруг у нее мелькнула тяжелая и обидная догадка, и сухо она спросила:
– Может быть, впрочем, я вам мешаю? Тогда мне все понятно. Но почему же ты не идешь к Тимохину? Иди, еще не поздно.
– Не огорчайся, мама. И не то, чтобы ты так уже мешала, это пустяки, но они говорят, что у нас слишком уж красиво.
– Нельзя окурки на пол бросать?
И Саша строго, – да, именно строго, – ответил:
– Да. Нельзя окурки на пол бросать.
– Тимохин же все равно бросает на пол!
Саша неприятно улыбнулся и, ничего не ответив, заложил руки в карманы и стал ходить по комнате, то пропадая в тени, то весь выходя на свет; и серая куртка была у него наверху расстегнута, открывая кусочек белой рубашки – вольность, которой раньше он не позволял себе даже один. Елена Петровна и сама понимала, что говорит глупости, но уж очень ей обидно было за второй самовар; подобралась и, проведя рукой по гладким волосам, спокойно села на Сашин стул.
– Я говорю глупости, – сказала она и даже улыбнулась. – В чем же дело? Объясни мне, Саша!
– Ты не знаешь, я не умею говорить, но приблизительно так они, то есть я думаю. Это твоя красота, – он повел плечом в сторону тех комнат, – она очень хороша, и я очень уважаю в тебе эти стремления; да мне и самому прежде нравилось, но она хороша только пока, до настоящего дела, до настоящей жизни… Понимаешь? Теперь же она неприятна и даже мешает. Мне, конечно, ничего, я привык, а им трудно.
– Красота никогда не может помешать.
– Да, может быть, какая-нибудь другая красота и не помешает, но эта… Я не хочу тебя обидеть, мамочка, но мне все это кажется лишним, – ну вот зачем у меня на столе вот этот нож с необыкновенной ручкой, когда можно разрезать самым простым ножом. И даже удобнее: этот цепляется. Или эта твоя чистота – я уж давно хотел поговорить с тобою, это что-то ужасное, сколько она берет времени! Ты подумай…
Но Елена Петровна даже уж и не удивилась, когда в свою очередь попала и чистота; только смотрела, как краснеет у Саши лицо, и некстати подумала: «А начинают-таки виться волосы, я всегда ждала этого».
– Нет, ты только подумай! Проснувшись, я прежде всего чищу зубы, уже привык, не могу без этого…
– Зато у тебя прекрасные зубы и нет ни одного порченого!
– Когда-нибудь все равно вывалятся! Считай: три, а то и пять минут.
– Да зачем тебе так нужно время?
– Нет, погоди! Потом я занимаюсь гимнастикой – как же, привык! – вот тебе еще пятнадцать – двадцать минут. Потом я обмываюсь холодной водой и докрасна – непременно докрасна! – растираю свое благородное тело. Потом…
И выходило так по его словам, что весь день он только и делает, что чистит себя. Но тут пришла Линочка, и разговор пошел уже втроем, и Линочка тоже на что-то жаловалась, кажется, на свои таланты, которые отнимают у нее много времени.
– Да на что вам время? – все изумлялась Елена Петровна, а те двое говорили свое, а потом пошли вместе пить чай, и был очень веселый вечер втроем, так как Елена Петровна неожиданно для себя уступила красоту, а те ей немного пожертвовали чистотой. И то, что она так легко рассталась с красотой, о которой мечтала, которой служила, которую считала первым законом жизни, было, пожалуй, самое удивительное во весь этот веселый вечер. И в этот же вечер, а может быть, и в другой такой же веселый и легко разрушительный вечер, она позволила Линочке бросить зачем-то уроки рисования, не то музыки… Когда была брошена музыка?
Когда перестали дети ходить в церковь?
Когда было раньше, а когда было позже? Выскакивают дни без связи, а порядок утерян – точно рассыпал кто-то интересную книгу по листам и страничкам, и то с конца читаешь, то с середины. Когда это было, что они с Сашей смотрели, как по базару гонят бородатых запасных и ревут бабы с детьми, и Елена Петровна плакала и куда-то рвалась, а Саша дергал ее за руку и говорил плачущим голосом: мамочка, не надо! Что не надо? Конечно, это было еще до манифеста, а вместе с тем совершенно рядом с этим днем, как продолжение его, выскакивает вечер у того самого угреватого Тимохина, англичанина, жаркая комнатка, окурки на полу и подоконниках, и сама она не то в качестве почетной гостьи, не то татарина. Но одно несомненно, что времени между этими двумя случаями не меньше двух, или даже трех лет, а вспоминается и чувствуется рядом.
Вообще, когда она стала ходить, как девочка, по митингам и собраниям, и ее любезно проводили в первые ряды? Даже в газету раз попала, и репортер придавал ее появлению на митинге очень большое значение, одобрял ее и называл «генеральша Н.». Тогда же по поводу заметки очень смеялись над нею дети.
Однажды звал к себе директор гимназии и заявил, что Саша исключен за какие-то беспорядки, а потом оказалось, что Саша не исключен и оставался в гимназии до самого своего добровольного ухода, – когда это было? Или это не директор звал, а начальница женской гимназии, и речь шла о Линочке, – во всяком случае, и к начальнице она ездила объясняться, это она помнила наверное.
И когда в ихнем городе появились на улицах казаки? И когда произошел первый террористический акт: был убит жандармский ротмистр? Нет, еще раньше был убит городовой, а еще, кажется, раньше околоточный надзиратель, и на торжественных похоронах его черная сотня избила на полусмерть двух гимназистов, и Елена Петровна думала, что один из изувеченных – Саша. И когда она начала бояться этой черной сотни – до ужаса, до неистовых ночных кошмаров?
Когда приделан железный засов к двери?
7. Отец
Но вот это, к сожалению, Елена Петровна помнит ясно, знает даже день: четвертое декабря, за шесть месяцев до ухода Саши.
Утром за чаем – они еще пили чай! – Саша прочел в газете фамилию нового губернатора, который только недавно к ним был назначен и уже повесил трех человек, и Елене Петровне вдруг что-то вспомнилось:
– Телепнев… Телепнев… Постой, Саша, я что-то припоминаю. Ну-ка, а как инициалы? П. С.? Ну да: Петр Семенович, папин товарищ! Ты подумай, Сашенька, этот Телепнев, наш губернатор, был лучший папин товарищ, вместе учились…
– Да?
– Да как же! А я и забыла – стареется твоя мать, Саша. Как же это я забыла: ведь друзья были!
Задумчиво, с тем выражением, которое бывает у припоминающих далекое, она смотрит на Сашу, но Саша молчит и читает газету. Обе руки его на газете, и в одной руке папироса, которую он медленными и редкими движениями подносит ко рту, как настоящий взрослый человек, который курит. Но плохо еще умеет он курить: пепла не стряхивает и газету и скатерть около руки засыпал… или задумался и не замечает?
Осторожным движением, чтобы не помешать, Елена Петровна пододвигает пепельницу и, забыв о Телепневе, вдруг поражается тем, что Саша задумался, как поражается всем, что свидетельствует об его особой от нее, самостоятельной, человеческой, взрослой жизни. Иногда это смешит ее самое: вдруг поразится, что Саша читает, или что он, как мужчина, поднял одной рукой тяжелое кресло и переставил, или что он подойдет к плевательнице в углу и плюнет, или что к нему обращаются с отчеством: Александр Николаевич, и он отвечает, нисколько не удивляясь, потому что и сам считает себя Александром Николаевичем.
Александр Николаевич!..
Но теперь к обычному удивлению матери, не могущей привыкнуть к отделению и самостоятельности ее плода, примешивается нечто новое, очень интересное и важное: как будто до сих пор она рассматривала его по частям, а теперь увидела сразу всего: Боже ты мой, да он ли это, – где же прежний Саша?
Этому скоро исполнится девятнадцать лет, он высок, – это видно, даже когда он сидит, – правда, немного худ и юношески узковата грудь, но смуглое лицо крепко и свежо; и в четко и красиво изогнутых губах, твердом подбородке чувствуется сила и даже властность: эка, даже властность! Все так же жутко обведены глаза и даже на газету опущенные смотрят строго, но как это непохоже на прежнюю усталость взгляда, где-то в себе самом черпавшего вечную тревогу! Как будто давно не видала Саши: припоминает Елена Петровна его теперешний взгляд – да, этот смотрит смело и красиво, и разве только чуть-чуть тяжело, когда надолго остановится, забудет перевести глаза.
И как приятно, что нет усов и не скоро будут: так противны мальчишки с усами, вроде того гимназиста, кажется, Кузьмичева, Сашиного товарища, который ростом всего в аршин, а усы как у французского капрала! Пусть бы и всегда не было усов, а только эта жаркая смуглота над губами, чуть-чуть погуще, чем на остальном лице.
«Не надо говорить ему, что он красив», – думает Елена Петровна и поспешно опускает глаза. Недолгое молчание – и точно силою заставляет их вновь подняться холодный и хмурый вопрос:
– А он у нас и в доме бывал?
Елена Петровна уже догадывается о значении вопроса, и сердце у нее падает; но оттого, что сердце пало, строгое лицо. становится еще строже и спокойнее, и в темных, почти без блеска, обведенных византийских глазах появляется выражение гордости. Она спокойно проводит рукой по гладким волосам и говорит коротко, без той бабьей чистосердечной болтливости, с которой только что разговаривала:
– Да, бывал. Он часто бывал у папы.
– И вы были ему рады?
– Генерал любил его. Хочешь еще чаю?
– Спасибо, – говорит Саша и еще раз повторяет: – Спасибо! Ну, а скажи, как ты думаешь, ты хорошо знала генерала… – Губы Саши кривятся в веселую, не к случаю, улыбку. – Ведь наш генерал-то был бы теперь, пожалуй, губернатором и тоже бы вешал… Как ты думаешь, мама?
Прошел длинный, мучительный день, а ночью Елена Петровна пришла в кофточке к Саше, разбудила его и рассказала все о своей жизни с генералом – о первом материнстве своем, о горькой обиде, о слезах своих и муке женского бессильного и гордого одиночества, доселе никем еще не разделенного. При первых же ее серьезных словах Саша быстро сел на постели, послушал еще минуту и решительно и ласково сказал:
– Выйди, мамочка, на минуту, я сейчас оденусь.
И помнит же она эти несколько минут! За дверью, в щель которой вдруг пробилась острая полоска света, – скрипела постель, стукнула уроненная ботинка, звякала чашка умывальника: видно было, что Саша торопливо и быстро одевается; а она, готовясь и ожидая, тихо скользила по темной комнате и беззвучно шептала, заламывая руки:
«Пойми меня, Саша! Пойми меня, Саша!» И все ходила и сама не слышала себя, серая в темноте, бесшумная, плененная, – как насмерть испуганная ночная птица.
– Нет, нет! Бога ради, потуши свечку! – взмолилась она, тихо позванная Сашей; и вначале все путала, плакала, пила воду, расплескивая ее в темноте, а когда Саша опять зажег-таки свечу, Елена Петровна подобралась, пригладила волосы и совсем хорошо, твердо, ничего не пропуская, по порядку рассказала сыну все то, чего он до сих пор не знал. И когда Саша, слушавший очень внимательно, подошел к ней в середине рассказа и горячей рукой несколько раз быстро и решительно провел по гладким, еще черным волосам, она сделала вид, что не понимает этой ласки, для которой еще не наступило время, отстранила руку и, улыбнувшись, спросила: «Что, растрепалась?» И сделала вид, будто сама поправляет не нуждающиеся в этом волосы. Но, кончив рассказ, перед страшным выводом из него: что до сих пор она не простила мужа и не может простить, – запнулась, глотнула воздух и выжидательно, в страхе, замолчала.
Молчал и Саша, обдумывая. Поразил его рассказ матери; и то, что мать, всегда так строго и даже чопорно одетая, была теперь в беленькой, скромной ночной кофточке, придавало рассказу особый смысл и значительность – о самой настоящей жизни шло дело. Провел рукой по волосам, расправляя мысли, и сказал:
– Ну что ж, мамочка: так, так так! И не скажу даже, чтобы все это очень меня удивило, что-то такое я чувствовал уже давно. Да, генерал… Лине, пожалуй, пока не говори, потом как-нибудь расскажешь.
– Хорошо. Саша, Сашенька… Ну, а как же отец?
– Генерал? Генерал умер.
– Не называй его так.
– Это правда. Отец? Отец, да… Ты боишься сказать, что не простила его, не можешь простить?
Елена Петровна утвердительно кивнула головой; и в висках стукнули набегающие слезы.
– Я люблю его.
– А простить – нет?
Елена Петровна мотнула головой: нет! Набегали горячие слезы, и она не мигала, не мешала глазам наливаться, пока не наполнились они; и уже перелилось, потекло по щеке, защекотало – и точно просветлела комната, оделась искристым туманом и трогательно заколыхалась. Саша что-то говорил, мелькал в тумане.
Плохо доходили до сознания слова, да и не нужны они были: другого искало измученное сердце – того, что в голосе, а не в словах, в поцелуе, а не в решениях и выводах. И, придавая слову «поцелуй» огромное во всю жизнь значение, смысл и страшный и искупительный, она спросила твердым, как ей казалось, голосом, таким, как нужно:
– Можно поцеловать тебя, Сашенька?
И в ожидании, полном страха, закрыла мокрые от слез глаза. Что было потом?
То, о чем надо всегда плакать, вспоминая. Царь, награждающий царствами и думающий, что он только улыбнулся; блаженное существо, светлейший властелин, думающий, что он только поцеловал, а вместо того дающий бессмертную радость, – о, глупый Саша! Каждый день готова я терпеть муки рождения, чтобы только видеть, как ты вот ходишь и говоришь что-то невыносимо-серьезное, а я не слушаю! Не слушаю!
– Говори, говори, Сашечка!
– Да ты не слушаешь, мама? Я тебя спрашиваю, а ты…
– Говори, говори, Сашечка!
Ну и пусть довел до комнаты, как пьяную: да и пьяна же я материнской радостью моею!
Вот еще чего не знала о той ночи Елена Петровна.
Когда мать уснула, Саша вернулся в комнату и разделся, чтобы спать, но не мог забыться даже на минуту и все курил и думал. Ему казалось, что он теперь разгадал что-то в своей судьбе, но он никак не мог точно и ясно определить угаданное и только твердил: «Ну, конечно, ну, конечно, так! Теперь все ясно». И образ покойного отца, точно с умыслом во всей неприкосновенности сбереженный памятью до этого дня, впервые предстал его сознанию и поразил его своею как бы чуждостью, а вместе чем-то и своим. Увидел ясно в каждом волоске его четырехугольную широкую бороду и плешину среди русых и мягких волос, крутые, туго обтянутые плечи; почувствовал жесткое прикосновение погона, не то ласковое, не то угрожающее – и вдруг только теперь осознал ту тяжесть, что, начинаясь от детства, всю жизнь давила его мысли.
Да, это он, отец – этот важный, порою ласковый, порою холодно-угрюмый, мрачно-свирепый человек, занимающий так много места на земле, называемый «генерал Погодин» и имеющий высокую грудь, всю в орденах. И такие же высокие в орденах груди у его друзей или подчиненных: кланяются, звякая шпорами, блестят золотом шитья, точно поднимают потолки в комнатах и раздвигают стены, – в мрачном великолепии и важности застыла холодная пустота. Гулки, как во сне, шаги отца: за много комнат слышно, как он идет, приближается, грузно давит скользкий, сухо поскрипывающий паркет; далеко слышен и голос его – громкий без натуги, сипловатый от водки, бухающий бас: будто не слова, а кирпичи роняет на землю. Это отец, да.
А у денщика Тимошки рожа испитая и часто в синяках; и такие же рожи у других, постоянно меняющихся денщиков – почему рожи, а не лица? Нет, это нельзя назвать лицом, и это не слезы – то, что с любовью и странным удовольствием размазывает Тимошка по скуластым щекам своим. И память ли обманывает, или так это и было: однажды сам Саша своим тогдашним маленьким кулаком ударил Тимошку по лицу, и что-то страшно любопытное, теперь забытое, было в этом ударе и ожидании: что будет потом? А старый облезлый кот, повешенный денщиками за сараем? А лошадь, которая боится отца, и косит на него глазом, и широко расставляет ноги, как раздавленная, когда отец, пошатнув ее, становится в стремя, а потом грузно опускается в седло? Сильна мать, что так долго боролась с отцом и победила его, но почему же и она и дети замолкают, когда издалека послышатся гулкие приближающиеся шаги и вдруг, точно от предчувствия идущей тяжести, тихонько скрипнет паркет в этой комнате? И этот жест Елены Петровны: торопливое и ненужное приглаживание волос, начался как раз оттуда, от этих минут ожидания, когда уже заранее поскрипывал паркет.
И она сказала, что любит его – не прощает и любит. И это возможно? И как, какими словами назвать то чувство к отцу, которое сейчас испытывает сын его, Саша Погодин, – любовь? – ненависть и гнев? – запоздалая жажда мести и восстания и кровавого бунта? Ах, если бы теперь встретиться с ним… не может ли Телепнев заменить его, ведь они друзьями были!
Однажды на смотру, на каком-то маленьком, не особенно важном смотру был и Саша с матерью, и генерал, бывший на лошади, посадил Сашу к себе. И когда оторвался он от земли чьими-то руками, а потом увидел перед самыми глазами толстую, вздрагивающую, подвижную шею лошади, а позади себя почувствовал знакомую тяжесть, услыхал хриплое дыхание, поскрипывание ремней и твердого сукна – ему стало так страшно обоих, и отца и лошади, что он закричал и забился. И чем крепче сжимала его рука невидимого человека, тем сильнее он бился, и кто-то снял его. На земле он сразу перестал плакать и увидел выпуклые, серые, орлиные, теперь яростные глаза отца, который, низко свесившись с лошади, кричал на него: