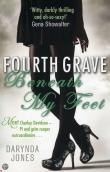Текст книги "Рассказы"
Автор книги: Леонид Нетребо
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
Так я мысленно горько шутил, раздраженно сочиняя социальную тираду, боясь эмоциональным звуком выдать свое индивидуальное бессилие и свою во внешнем мире непопулярную, если только ни в песенном, "блатном" подгитарном жанре, сопливую сентиментальность.
– Русскую музыку люблю, – тихо сказал Джурабай. – Там ансамбль. Гитары. Цветная... как ее? – цветно-музыка. Красиво.
Не вся музыка русская из того, что ты надеялся там услышать, – опять хотел просветить его я. Негритянские бит и рок, английский "Битлз" и японский "Ройолнайтз", – тоже русская музыка в твоем понимании. Впрочем, какая разница!... – я, опять "про себя", махнул рукой.
Джурабай улыбнулся, синяк под зажмуренным в вялый мешочек глазом смешно, фиолетово с ярким отливом, сморщился:
– Я помню. Обещал – говорю. Вот: "Люгру" значит – люгруровщик!... Явно издеваясь, пояснил "для бестолковых": – Милиционер с полосатой палкой. – Улыбка сошла с лица, растаяли шутливые паутинки на смуглой коже, и он закончил тоном, с которого начал, грустным и усталым: – Я же говорил: из Правил. Сокращенно. Эх ты, – умный...
На экзаменах по правилам дорожного движения мы сидели вместе. Я ответил на все вопросы в его билете. Мы оба получили "отлично". Он был благодарен своему спасителю – в правилах ориентировался слабовато. Даже не собственно в правилах, а в билетах, в которых вопросы – на литературном русском языке. Обещал, что никогда меня не забудет. И если, едучи на машине, вдруг увидит пешим – непременно остановится, подвезет.
Через двадцать лет я вновь посетил свою родину, ставшую независимой "не моей" или "от меня"? – страной.
Шел по городу детства, – здороваясь или прощаясь? Наверное, и то, и другое. Вглядываясь в знакомое и близкое до боли: камни старого города, медленные воды Сыр-Дарьи, зелень ветхой акациевой рощи... Тяжело дыша воздухом родины, ставшим... Знойным, душным? Нет, в стране зноя он не был душным – таким не бывает воздух родины. Тогда – каким?...
Визг тормозов, гортанный оклик.
Джурабай выполнил давнее обещание, которое, вдруг, стало, с высоты лет и через призму обстоятельств, похожим на клятву, – остановился почти на перекрестке. Мы обнялись, хоть никогда не были более чем соседи по досаафской парте.
Долго беседовали, прямо в раскаленной кабине его "кормильца"-грузовика. В основном вспоминали молодость, общих знакомых.
– На танцы все так же ходишь? – подколол я его, отца пятерых детей.
– Нет, нет, – весело вспомнил Джурабай. – Танцев уже нет, в парке темно. Как тебе новое время – у вас и у нас? – он показал огромной ручищей на меня, а затем на себя. Опомнившись, остановил ладонь в промежуточном положении, так что ее указывающий смысл относился уже сразу к обоим, быстро поправился: – У нас...
Вопрос, при всей своей обоснованности и тривиальности, оказался неожиданным. Я непроизвольно пожал плечами, куда делось мое красноречие:
– Была страна... А теперь – "люгру"! Помнишь?
Джурабай широко заулыбался – помнил, – уважительно, осторожно приложил ладонь к моему сердцу – ладно, хорошо, не надо слов. И сказал сам:
– Мы с тобой ни в чем не виноваты. Это все там! – он ткнул пальцем вверх, в обшивку кабины.
– Люгруровщики?
Он кивнул. Мы засмеялись, долго смеялись – до слез.
Опубликовано в книге:
НЕТРЕБО Леонид Васильевич. "Черный доктор": рассказы. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2000.
СУРДОПЕРЕВОД
Сергей обнаружил себя перед зеркалом. Впервые за долгие недели – во весь рост. Оценил: только потери... Стал ниже и старее. Попробовал отвести туловище назад, распрямился. Бесполезное притворство. Глаза печально запали и матово, без блеска, высматривали из-под бровей – повисших крыльев больной птицы. Серые щеки казались небритыми, хотя Сергей "надраил" их электробритвой в поезде два часа назад, когда подъезжали к морю. Вместо прежнего румянца два серых пятна – впадины, в которых поселилась тень.
Он вышел из сумрака комнаты на солнечный балкон, ожидая увидеть то, к чему добирался с надеждой несколько дней, – хотя бы узкую, однако свежую синюю полоску. Но кроны эвкалиптов разрешали взгляду только белесое полуденное небо. Вместо шелеста волн – налаженная, почти сонная суета дома отдыха, сезонной середины.
Сосед по номеру прибыл вечером. Сразу и невольно: "Динозаврик". Впечатление, что блестящая, отполированная голова никогда не знала волос. Глаза навыкат. Средняя часть тела массивна, особенно живот, который активно подыгрывал носителю, угодливо подергиваясь при разговоре, смехе. Хозяин не обращал на балласт никакого внимания. Так же как и на четыре своих "беспечных" конечности, которые, похожие пара на пару, поражали тонкостью, но не хилостью, несмотря на желеобразные мешочки в тех местах, где полагается быть мускулам. Казалось, поменяй местами руки и ноги – Динозаврик не сразу это заметит.
Сосед первым делом установил на тумбочке возле кровати фотографию. В бархатной рамке на картонной ножке. Погладил глянец. С карточки улыбалась оставшаяся дома часть семейства – жена и четверо одинаковых динозавриков.
– Неприятности на службе, разгром на личном фронте, в творчестве застой – роли не дают, рукописи сожжены, краски засохли!... Угадал? – тараторил Динозаврик, расхаживая по комнате в трусах, размахивая полотенцем и гремя мыльницей. – Ваш приезд сюда – смена декораций, попытка реанимации загубленного воодушевления!... Угадал? Я со школы в профсоюзе и в самодеятельности... Вижу насквозь. Человек – это картинка. Внутреннее состояние – на лице, в осанке. Знаете, вам необходимо новое увлечение. Толчок извне, знаете. Декорации – статика. А вам нужна динамика, удар!... И значит, – доносилось уже из ванной, – вы правильно сделали: курорт, курорт, курорт!... Буль-буль... Шшшш!...
Утром Сергея разбудили шумы в ванной, те же самые, под которые он вчера неожиданно, не в характере последних месяцев, быстро уснул.
Динозаврик умывался. Фыркал. Громкое шорканье, переходящее в свист, зубная щетка трудилась вовсю.
– Привет, сосед! Подъем! Идем здороваться с морем!... На утренний бриз – мечту и песню дельтапланов!
Освежаясь, Динозаврик наливал из большого флакона полную пригоршню, наклоняя голову, бросал пахучую влагу на розовые пухлые щеки и смачно, с наслаждением, постанывая, шлепал маленькими ладошками по мокрому лицу.
"Бреет, пока хватает топлива", – думал Сергей, лежа на песке и глядя на дельтаплан. Это было не то, что он ожидал увидеть. Так хотелось рукотворного буревестника, который бы парил, мастерством и волей подчиняя энергию стихии. Живой трепет парусиновых крыл, борьба и победа!... Этот же шел медленно по окаемке залива, на одной высоте, ровно жужжа моторчиком.
"Как я?..." – вяло спросил неизвестно у кого Сергей. Не желая больше быть пассивным участником унылого полета, сел.
Откуда взялся этот шезлонг... Покачиваясь, как на качалке, но взглядом и позой – будто с трона, на него взирала пляжная дива. Море и небо стали фоном, солнце деталью. Расплывчатые фигурки дальних купальщиков – для усиления ближнего фокуса. Знойный ветерок, едва дыша, шевелил драгоценные завитки янтарных волос, благоговейно лизал шоколадные, с соленым седым налетом, вывернутые к загарным лучам внутренние поверхности рук и бедер. Чуть вытянутые вперед приоткрытые губы и два изумрудных озера сулили прохладными глубинами утоление всех земных печалей.
Сергей попробовал улыбнуться.
Рядом Динозаврик играл в волейбол. Он уже овладел центром внимания. Смешно комментировал свои и чужие промахи. Под дружный хохот делал бесполезные броски за уходящим мячом, плюхался пузом на песок, издавая звук падающего бурдюка.
...Она прошлась по его телу дважды или трижды, уделив всем частям равное внимание: лицо, плечи, плавки, ноги... и обратно. Ни разу не пустив в заповедные озера печально-удивленный взор. Затем плавно откинулась на спинку шезлонга и грациозным движением опустила на лицо огромные зеркальные очки.
Сергею показалось, что он застонал. Нет, только опустил голову и страдальчески закрыл глаза... Посидев так минуту, встал. Ощутил на спине уколы тысячи песчинок. Испачканный, побрел к воде.
– Ну, как успехи? – спросил Динозаврик вечером, смазывая кефиром ожоги. – Спешите! У нас не так много времени. У вас ведь тоже недельная путевка?...
За четыре дня Сергей устал отдыхать. Звуки и краски не радовали. Разноцветие купальников, панам, зонтов, лодок, летающих змеев – словно рассыпанная, некстати, в будний день конфети. Если бы не сосед...
Динозаврик, как Фигаро, мелькал там и тут. Стучал с мальчишками в бадминтон, внимательно читал объявления, меню в столовой. Катался на роликовых коньках, увлеченно разговаривал с обслуживающим персоналом. На море играл в нырялки, заплывал на катамаранах, прыгал с трамплинов, декламировал стихи одиноким женщинам. Вечером, жестикулируя, размахивая пивной баночкой или куском колбасы, живописал Сергею о дневных приключениях.
После ужина, аккуратным движением убирая семейное фото в тумбочку, Динозаврик несколько смущенно попросил:
– Вы не могли бы... Как бы это сказать? Уступить, вернее – подарить мне сегодня номер на несколько часов. Ну... на вечерок. Вы меня понимаете! – он хохотнул и этим опять вернулся в свое нормальное состояние. – Кстати, вы не были на центральной набережной? Там, знаете, высокие площадки, прямо на берегу. Открытые кафе. Музыка. Закат... Представьте: томное море, кровавый закат. В руке у вас рюмка хорошего, густого коньяку, а слева и справа от вас!... – он игриво скосил глаза, присвистнул. – Ну, договорились – до двадцати четырех часов, до нолика, а?...
Слева за соседним столиком сидели две бледнолицые, худые, с безрельефными торсами, еще молодые дамы-близняшки, одетые вызывающе не по сезону, в белые водолазки. Не удостаивая окружающее вниманием, они, неестественно оттопырив мизинцы, презрительно поглощали дорогой шашлык из осетра, запивали пахучим игристым вином. Изредка, одновременно, бесстрастно взглядывали друг на друга, слизывая с толсто, как пластилином, накрашенных губ жир и помаду.
Справа расположилась мать с великовозрастным сыном. На их столе застыла початая бутылка крепленого вина с одиноким стаканом. Сын ел мороженное. Мать курила, смахивая пепел прямо на стол, то и дело безотчетно поправляла огромную, как наказанье, мешавшую даже при сидении, грудь. Без всякой надежды, поэтому откровенно и почти угрюмо рассматривала Сергея. Едва сын отошел за следующим вафельным стаканчиком, она налила из бутылки, стараясь демонстрировать неторопливость. Быстро выпила.
В затылок ухал набивший оскомину шлягер.
Начинался закат, – Сергей посмотрел вокруг, – на который всем было наплевать.
...Ранние закатные лучи, еще не оранжевые, травили серебром береговую рябь. Дальше, в середине, море оставалось темным, и лишь у горизонта еле зарождалась золотистая полоска. Угасающее солнце медленно катилось, снижаясь, слева. Из-за береговых гор, справа, к тому месту, куда стремилось светило, надвигалась великая лохматая туча, похожая на бульдога с разверзнутой пастью. Солнце спешило. Но собака успела, и медленно, безжалостно съела, слопала уже обессилевший шар – подрезанный линией горизонта апельсин. Еще некоторое время солнце высвечивало оранжевым огнем из собачьих глаз, оскала зубов, дырок в голове. Угасло в брюхе. Быстро темнело.
Сергей опрокинул в себя бокал хорошего, густого коньяка – весь и единственный, который цедил целый вечер. Близняшки брезгливо переглянулись. "Мать" наполнила до краев свой новый стакан.
Салон маршрутного микроавтобуса освещен чрезмерно для этого позднего часа. Сергей никого не хотел видеть. Не хотелось, чтобы видели его. Безумно надоели фальшивые лица вокруг – всегда и везде, – которые постоянно, исподволь или открыто, наблюдают друг за другом. И которые, зная, что сами всегда находятся в положении наблюдаемых, непременно одевают маску непроницаемости, бесстрастности, неприступности. Это при том, что никто никому не нужен, никто ни на кого не посягает... Туши лампочку, "шеф", улица освещена – есть на что пялиться: деревья, дома, фонари... В крайнем случае мы закроем глаза.
По мере отдаления от центра города истуканного вида пассажиры исчезали, растворялись в теплом ночном воздухе курортных окраин. Их монументальные головы и плечи переставали загораживать заоконный мир: деревья, дома, фонари...
Но... Что-то изменилось не в количестве – в качестве.
– Де-ре-во... До-о-ом... Фо-на-ри...
В дальнем углу салона ребенок, мальчик, прильнув к окну, повторял за отцом: "Тро-ту-ар... Мо-о-оре." Изредка поворачивал голову в сторону Сергея, улыбался. Но адресатом тихой эмоции был не Сергей: рядом сидела юная женщина, мать и жена этих мужчин, которая постоянно обращалась к ним, посылая через весь салон нечто большее, чем обычные слова, знаки... Впрочем, слов и не было – Сергей не сразу это понял...
Женщина играла влажными блестящими губами, бровями, ресницами беззвучно смеялась. Жестикулировала. Пальцы одной руки быстро выводили слова, писали мысли. Чувства рисовались на веснушчатом лице – одни исчезали, другие занимали их место. Места было мало, поэтому чувства торопились, мелькали, как клипы. Под выгоревшими ресницами мерцал не отраженный искусственный свет – это было внутреннее, собственное свечение, источник... Сергей не знал языка немых, но, ему казалось, он сейчас понимал то, что беззвучно говорит женщина, чему радуется...
Радуется и говорит – через весь салон, на весь мир. Не боясь быть не понятой, смешной. Ведь – ее услышит только тот, кто хочет, умеет услышать. Поэтому она может, без притворства, открыто радоваться, как награде, всему тому, что у нее есть.
Рядом с Сергеем сидела, в простом ситцевом сарафане, загорелая рыжеволосая радость. Громкоговорящая, кричащая на языке счастья таинственном и недоступном для людей, считающих себя "нормальными"...
– О-ля-ля!...
Сергей проснулся, открыл глаза. Динозаврик, уже одетый, стоял, почти нависая, над его кроватью.
– Я вижу, вы вчера плодотворно провели вечер!...
Динозаврик выдержал паузу, наслаждаясь своей догадливостью. Пояснил:
– Вы, знаете, улыбались во сне... Такого раньше не замечалось. А?... Угадал? Ля фам? Статика перешла в динамику? – Он сделал движение, будто хлопнул по плечу стоящего перед ним невидимого собеседника. – Молодцом! Давно бы так!... Тем более что...
Динозаврик, вспомнив о чем-то, забегал по номеру. Извлекал из разных углов комнаты собственные вещи и укладывал в чемодан. В паузах между болтовней он казался чрезмерно озабоченным и даже слегка печальным.
– Тем более что номер – на целых двое суток! – в вашем распоряжении! Я, знаете, решил пораньше покинуть вас. Страшно соскучился. Домашний человек что вы хотите! Поеду по пути куплю гостинцев и – на вокзал. Так сказать, сюрпризом – к родному очагу. Люблю, знаете, сюрпризы делать. Представляете, вас ждут через пару дней, скучают, а вы – вот он!... Само собой гостинцы и прочее...
Опубликовано в книге:
НЕТРЕБО Леонид Васильевич. "Черный доктор": рассказы. – Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2000.
ЧУБЧИК
Приятель мой и одноклассник Пашка, в отличие от меня, всегда был лысым. В семье у них, кроме Пашки, бегало еще четверо сыновей. И все они, сколько я их помнил, всегда были стриженными налысо. Этим они очень походили друг на друга, их можно было перепутать с затылков. Хотя, все были, разумеется, разного возраста и характера. Я всегда подозревал, что причина их затылочной универсальности в том, что отец Пашки, дядя Володя, родился, как он сам говорил, безволосым. Очевидно, подтверждал мой папа эту версию, дядя Володя не хотел, чтобы наследники хоть в чем-то его опережали, пока он жив, настолько ревниво относился к лидерству в семье. Наверное, думал я, развивая папину шутку, если б было возможно, сосед остриг бы и тетю Галю, Пашкину мать, под ручную машинку – его любимый инструмент, который он прятал от семьи в платяном шкафу под ключ. Но сделать такое – неудобно перед соседями. Хотя вполне приемлемо было иной раз, по пьяной лавочке, громко, на всю улицу – открытым концертом, "погонять" тетю Галю, в результате чего она, бывало, убегала к соседям и пережидала, пока дядя Володя не успокоится и не заснет.
Сосед зорко следил за прическами своих отпрысков. Обычно, периодически, пряча за спиной ручную машинку, он подкрадывался к играющей во дворе ватаге, отлавливал кого-нибудь из своих "ку" (Пашку, Мишку, Ваську...), каждый раз с удовольствием преодолевая неактивное сопротивление взрослеющего пацана. В этом, вероятно, был какой-то охотничий азарт. Ловко выстригал спереди, ото лба к затылку, дорожку. После чего сын, покорной жертвой, шел к табуретке, чтобы очередной раз быть обработанным "под Котовского". Все было со слезами, переходящими в смех, и, как будто, никто по серьезному не страдал.
Мне казалось, что дядя Володя всегда был пьяненький. Меня, соседского мальчишку, непременно с аккуратным гладким чубчиком вполовину лба, в виде равнобедренной трапеции, когда я приходил к Кольке, он встречал неравнодушно: редкозубо улыбался, слегка приседал и, переваливаясь на широко расставленных ногах, подавался навстречу. Одной рукой поглаживал свою большую, чуть приплюснутую лысую голову, а другой, похожей на раковую клешню, совершал хватательные движения, имитируя работу своей адской машинки, и в такт пальцевым жимам напевал: "Чубчик, чубчик, чубчик кучеравый!... Разве можно чубчик не любить!... Ах, ты, кучера-а-авый!" Именно так: через "ра". (Иногда говорил своим пацанам, тыча в меня пальцем: "Демократ с чубчиком!... Куда его папа партейный глядит! Не-е-ет, распустились!..." Из неоправданной высокопарности следовало, что дело не в чубчике: чубчик – знак чего-то, символ.) Я улыбался и отступал. Мне было жутко от мысли оказаться пойманным и обманным путем остриженным наголо. Причем, так: когда сначала на самом видном месте коварно выстригают клок, после чего сопротивление бесполезно, и остается только, снизу вверх, в ужасе наблюдать за творящимся над тобой насилием и мечтать об одном – чтобы все это поскорее закончилось. Про себя я называл дядю Володю "Кучеравым" незримая и наивная месть за вечно оболваненных Пашкиных братьев и тетю Галю, которую было жалко также и за то, что она ежевечерне через всю улицу, горбясь под тяжестью, несла из столовой ведро котлет с гарниром и бидон сметаны, чтобы прокормить маленького, но весьма прожорливого мужа и пятерых, постоянно желающих чего-нибудь погрызть, "ку". "Не в коней корм", – иногда жаловалась она. Соседи называли эту семью "несунами" (дядя Володя, работая плотником, также носил домой, как пчелка: дощечки разных размеров, всякие деревянные поделки: табуретки, рамы, двери... Затем все это сбывал соседям за "пузырьки"). "Завидуют", – говорил про соседей Пашка, оправдывая "пчелиное" поведение родителей.
В нормальных условиях стрижка налысо являлась для меня нереальным актом. Это было невозможно в нашей семье. Отец периодически водил меня стричься "под чубчик" к одному и тому же пожилому парикмахеру корейцу, стригся сам под модный тогда "полубокс".
Для мастера единственной парикмахерской нашего рабочего микрорайона у меня сложился трудно передаваемый зрительно-морфологический синоним: без имени-отчества, но с большой буквы – Парикмахер; широкие плечи в белом халате – заглавная буква "П".
...Кореец работал по большей части молча, могло показаться, что он нелюдим или угрюм. Но с отцом, как и с другими постоянными клиентами, разговаривал, мне представлялось, с удовольствием, впрочем, в основном отвечал на вопросы. Лицо виделось строгим, но не хмурым, а просто неагрессивно серьезным – отношение ко всему окружающему с полным отсутствием легкомыслия. Несмотря на тотальную серьезность, Парикмахер довольно часто улыбался – движения губ были реакцией на шутку, окрашивали фразу, иногда заменяли слово. Но не более того, а именно – улыбка была функциональна: не блуждала по лицу, "на всякий случай", как у угодливых, хитрых или, наоборот, просто добрых людей, не зная к чему приткнуться, что разукрасить. В глазах, обычно устремленных на голову клиента, сверху, поэтому как бы прикрытых плюс к монглоидному разрезу, – скорее, в их уголках, доступных мне, как стороннему наблюдателю, в том числе через зеркало, не находилось блесток высокомерия, кичливости мастерством. Его вид как бы говорил: все что Парикмахер делал, делает и будет делать – правильно, качественно, основательно. Но декларация "звучала" именно так – отстранено, от третьего лица: перечень положительных качеств олицетворял плакатную бесспорность, претендуя только на конкретную деятельность – бритье, стрижка, – и при этом словно отмежевывался от "я": мнилось некое подобие прозрачной, но непреодолимой границы, старательно, больше обычного, отделяющей внутреннюю суть от внешности. В такой интуитивно отчетливой и вместе с тем неуловимой, необъяснимой словами двухмерности мною предполагался корень странной таинственности, внушающей уважение и желание наблюдать за корейцем. Хотелось намазать этот стеклянный, прозрачный барьер чем-то видимым: гуашью или пластилином – строительный материал детского творчества, – чтобы преграда стала осязаема, доступна зрению.
Чем больше я наблюдал, тем сильнее утверждался в своем первичном детском, по преобладанию инстинктивном, мнении, что Парикмахер – носитель секрета, персонаж некоего приключенческого сюжета, какой-то судьбы из неведомой жизни, о которой я еще никогда не читал, не смотрел фильмов, не слышал. Взятие первой логической ступени в расшифровке неясного, но притягательного образа – промежуточный вывод, основанный на скудном багаже личного жизненного опыта: то, чем Парикмахер занимается с утра до вечера в своей маленькой мастерской, обслуживая за день несколько десятков людей, не самое главное в его жизни, оно даже не занимает его мысли... Это при том, что свое дело Парикмахер ладил хорошо. И при том также, что труд, говорили нам в школе, – самое главное для человека. А если не "самое главное", то очень плохо, – это не наш человек. В рассогласовании, которое рождалось из данного правила и личных впечатлений о Парикмахере, было нечто не совсем приятное, как колкие ворсинки за шиворотом после стрижки с "модельным" результатом, отраженном в хмуром обмане старого зеркала с матовыми углами (именно такое висело в этой старенькой цирюльне): положительное боролось с не очень хорошим, ненадежным, сомнительным; ясное – с незримым.
Все остальные мои взрослые знакомые, среди которых много родственников и соседей, были более-менее понятны. Пашкины родители – как на ладони. Мои папа и мама – передовики производства, их огромные фотографии постоянно, до привычности, висели на доске почета, длинно вытянувшейся вдоль стены хлопкового завода, где работал весь микрорайон, по дороге в школу. Или взять другого нашего соседа Освальда Генриховича, инженера конструкторского бюро, который тоже хорошо работал на этом же заводе, но просто не мог висеть на доске почета ввиду того, что был немцем, сосланным к нам в Среднюю Азию из Поволжья в начале войны. Об этом, почему-то понижая голос, как будто нас могли подслушать, говорил мне папа. Все понятно – не повезло Освальду Генриховичу: старайся не старайся, а на "доске" не висеть. Я немножко жалел его, но понимал, что так надо и что данное положение дел совершенно естественно.
Волосы мои на голове отрастали очень быстро ("Оттого, что мозгов больно много", – шутил папа, с явным удовольствием намекая на мою отличную, без напряжения – порой до скуки, учебу в школе), поэтому довольно часто приходилось посещать Парикмахера.
Повторялось одно и то же. Я взгромождался на высокое кожаное кресло. Ерзал, усаживаясь поудобнее. Парикмахер туго повязывал мне салфетку, готовил инструмент. При этом только единожды за весь процесс стрижки я удостаивался его прямого умного взгляда из зеркала, когда он вполголоса спрашивал: "Как?" Я говорил: "Чубчик". Он принимался за мою голову, я разглядывал его, Парикмахера.
Лицо – толстые складки. Волосы абсолютно седые, серебряные, зачесанные назад. Интересно, кто его стрижет, всегда думалось мне. Прокуренные желтые пальцы, которые иногда мягко захватывали остригаемую голову, деликатно придавая ей нужное положение. В мой гудящий от электрической машинки затылок – тяжеловатое (оказывается!), с грудной хрипотцой дыхание, в ноздри характерный запах, смесь одеколона и табака. Только вблизи было понятно, насколько много ему лет.
Вокруг старого зеркала были наклеены несколько пожелтевших вырезок из газет на космическую тему и две черно-белые фотографии цветочных букетов (позже я узнал, что это экибана). Отрывной календарь рядом с полкой, заставленной разнокалиберными флаконами, сообщал о датах, днях недели, фазах солнца и луны. Справа, на глухой стене, висел приемник с понятным названием "Москва" – округлые формы, металлический корпус, обтянутая шелковой материей фальшпанель с темным пятном динамика, – который был всегда включен: гимны сменялись голосом дикторов, вещающих о новостях страны, следом шли прогноз погоды, музыкальные передачи по заявкам и без таковых. Трудно было даже представить саму парикмахерскую, само слово "стрижка" без звучания этого радио. Звук как из пионерского горна – направленный, сконцентрированный: он не отражался от стенок комнаты, не заполнял ее всю, а вел себя "адресно" выходил из одного отверстия – динамика, входил в другое – в мое правое ухо и там оставался. Что с ним происходило дальше внутри меня, я не знал. Наверное, он усваивался особым образом, превращаясь во что-то необходимое для организма. Как воздух, утренняя зарядка, занятия в школе, субботники, первомайские и октябрьские демонстрации... Иногда чудилось, что этот радиоприемник "Москва" и есть самый город Москва, прикинувшийся металлическим ящичком, говорящим и поющим мне в ухо необходимые вещи. Или хотя бы так: приемник – столица, громко и полезно присутствующая в этой комнате своей вполне материальной, видимой частичкой, а не какими-то прозрачными радиоволнами, о которых рассказывал папа. (Отсюда ретроспективно – можно сделать вывод, что все необъяснимое на самом деле жутко меня раздражало, хотелось определенности, а если ее не было, то этот пробел занимали изобретенные мной логические образы.)
С противоположной стороны располагалось маленькое окошко, с открытой в любое время года форточкой, в которую вплывали запахи улицы: мокрого или раскаленного асфальта, пыли хлопкового завода (душное свежее одеяло), бензина и выхлопного дыма; сюда же залетал тополиный пух, мокрые, обессилевшие среднеазиатские снежинки, мухи, которые, постукавшись по стенкам, неизменно прилипали на липкую желтую бумагу-ловушку. С запахами и звуками из окна все было более ясно, чем с приемником, – понятный мир. Хотя самого окна в оригинале мне видно не было – лишь часть его, и то в отражении зеркала: участок дороги, подвижный кусок автомобиля, пестрые дольки прохожих – обращенное, в логическом негативе.
Иногда я заставал в парикмахерской Освальда Генриховича, который бывал здесь, как он сам выражался, пожалуй, дольше меня: не только стригся, но и брился по субботам, а то и чаще. Существовала между Парикмахером и Освальдом какая-то невидимая, но пронзительная связь, в которую, будучи рядом, вступали эти внешне совершенно разные люди, – то, что было вряд ли понятно взрослым, каким-то природным, детским, звериным чутьем было доступно мне.
Освальд, полный и рыхлый, с толстыми очками на остром с горбинкой носу, заходил в парикмахерскую, кивал в сторону зеркала: там отражалась вся комната вместе с Прикмахером и посетителями, – громко говорил "здравствуйте". Кивал в ответ Парикмахер. Натягивались струны, или, используя лексику папы-инженера, между двумя телами появлялись силовые линии. Очередь доходила до Освальда, Парикмахер его "обрабатывал". Они перебрасывались несколькими фразами: о погоде, об урожае хлопка; Освальд шутил на какие-нибудь тривиальные, не запоминающиеся темы, парикмахер "функционально" улыбался – не больше и не меньше, чем с остальными. Пели струны. Освальд вставал, отряхивалась простыня, расплата, сдачи, спасибо. Шел к выходу, затем неизменно останавливался, смотрел на часы, махал рукой: ладно, выкурю папироску, еще время есть. Парикмахер, занятый следующим клиентом, не глядя кивал. Освальд выкуривал папиросу, уже практически не участвуя в разговоре, в коем ведущую роль начинал играть следующий клиент, глядя в окно с особым выражением лица, которое совершенно не вязалось с его предыдущими шутками. В это время мне казалось, что струны начинали громко звенеть – не радостно, а с каким-то трагическим достоинством. Стеклянная пепельница, часто ополаскиваемая Парикмахером в рукомойнике, оттого всегда чистая, стояла на маленьком журнальном столике, который, покорной старой коровкой среди четырех скрипучих козлов, располагался в углу перед сбитыми в две пары стульями. Освальд делал языком мокрое пятнышко в середине своей большой ладони, осторожно, с долгим пошипыванием гасил папиросу, вставал, мял уже мертвый окурок в пепельнице, говорил всем "до свидания". Парикмахер кивал, не поворачивая головы. Или слегка обозначив поворот, бросал короткий взгляд куда-то под ноги Освальду.
Дверной скрип – звяканье рвущейся струны.
Обычно когда я возвращался из школы, парикмахерская была уже открыта. Еще с конца улицы я ставил очередную промежуточную цель – парикмахерская. Это было в моей тогдашней манере, проходить любое расстояние этапами, от объекта к объекту. Тогда весь путь превращался из серой скучной череды в разноцветные динамические отрезки, по своему интересные и, что самое главное, определенным образом подвластные мне. Я шел, изменяя своей волей предметы очередной цели – с разных расстояний они приобретали для меня разные свойства. Экспериментировал: шел быстрее, предметы росли быстрее, медленнее – медленнее. Останавливался – предметы прекращали рост. Дверь парикмахерской летом отрывалась нараспашку. Все, что внутри этого помещения, хорошо фронтально просматривалось с тротуара. Итак, все, что было в парикмахерской, по мере моего приближения, увеличивалось, набирало объемы, цвет, ясность. О том, что внутри, я знал наизусть, но, отгоняя знание, каждый раз "проявлял" эти кадры по– новому, искусственно умножая череду каждодневных открытий: лоснящееся бесформенное пятно – зеркало; белая буква "г" – Парикмахер, могуче довлеющий с вытянутыми вперед руками над черной, рыжей, русой головой, издали похожий на стоячего пианиста. Иногда, если не было посетителей, Парикмахер выходил, облокачивался на косяк двери и курил, глядя куда-то в конец улицы, получалось – в мою сторону, но слишком далеко, мне за спину, сильно подняв подбородок. Я невольно оборачивался – сзади не было ничего необычного, лишь затылки моих предыдущих открытий. Это лишний раз напоминало мне, на будущее, что все мои находки, в том числе и последних минут, имеют обратную сторону. Это прибавляло уважения к Парикмахеру. Но мне никогда не везло в данный момент оказаться вблизи, чтобы "распечатать" этот взгляд, порожденный какой-то невидимой далью.