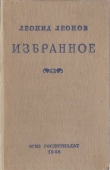Текст книги "Взятие Великошумска"
Автор книги: Леонид Леонов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
Они настигали, он метнулся, угол курса резко изменился... Застылая, накренившаяся жижа блеснула под танками на дне окопа, и в нем, с поднятыми руками, стояли недвижные, как на фотоснимке, какие-то зеленые, – значит не русские люди; иные как будто падали и всё не могли упасть. Теперь уж и собственной стрельбы не слышал экипаж, и верилось: одной силой гнева и взгляда своего роняет их Собольков. Тогда-то, каким-то образом разглядев из своей неудобной щели, Обрядин и доложил лейтенанту, что противотанковая пушка справа, у кустов, тоже настоятельно просит своего пайка. Только он выразил это в одном каком-то неистовом, неповторимом слове, действия стали короче, чем их словесные определения, и приказания отдавала сама мысль.
Они увидели пушку: радист скорее догадался о ней. Это ее снаряд прошумел по башне и огненной вишенкой рикошета ушел в небо; это она била в упор по собольковскому танку. Ее мишень сделалась невыразимо огромной и такой близкой, когда промах следует считать чудом, но живое белое пятно, которое перепуганный заячий бог швырнул из снегопада под ноги орудийному командиру, отвлекло на миг внимание расчета, и это решило его жалкую участь. Собольков крикнул дави, когда сорванный ствол наполовину углубился в землю через живот наводчика под натиском двести третьей, когда Обрядин заряжал пушку для следующей цели. Ни шороха, ни стона не дошло до Литовченки; нет, не такого удовлетворения искал он в ту первую свою, бездомную ночь!.. А уже немецкие танки выходили на огневой рубеж, обтекая поле боя, и наши ускорили свой бег им навстречу. Так началось это грозное соревнование снаряда и брони, техники и воли, начальных скоростей и скрытой энергии взрывчатого вещества, а прежде всего – людей двух миров, расстояние между которыми не измеримо земною мерой.
Тут можно было видеть, как наши пятнистые громадины обминали края немецкого окопа, облегчая подход отставшим из второго эшелона, а по полю, кидаясь дымками, вливалась в прорыв мотопехота; как советский танк, забравшись во вражескую гущу, стоял без башни и дымные космы подымались из страшной дыры, а стальной шишак богатыря валялся рядом, и четыре врага факельно горели по сторонам, как бы почетный эскорт, сопровождающий героя в небытие; как осатанелые люди со звездочками на ушанках вступали в поединок с глыбой крупповской стали, и та никла, дымилась, крутилась на порванной гусенице, как дьявол от магического заклинания. И если только не ветер преждевременной ночи, – значит беззвучные всадники в бурках мелькнули вдалеке, где жарко пылали подожженные стога...
Литовченко заметил на развороте лишь часть этого стройного в своей беспорядочности движенья тел, металла и огня, но и это малое вызвало в нем знакомое по детским снам чувство полета через бездну. Ритм схватки усилился; все ожило, кричало, взрывалось; убивал самый воздух; предельно напрягались скрученные дымовые волокна его мышц, и мертвые уже не попадались на глаза живым, чтобы не ослаблять их броска к победе. То была мускулистая, могучая жизнь битвы; смерть, подобно собаке, тыкалась в ногах у бессмертных, чтобы урвать крохи с их великанского пиршества. И все это представлялось танкисту воздухом для гордой и яростной нации, которая, восстав для великих дел, хочет жить вечно и глядеть на солнце орлиными очами!
Опять события опережали ленивое, неточное слово. Рука, отшибленная при откате казенника, с трудом закладывала очередной снаряд, но Обрядин пока не чувствовал боли. Собольков еще ждал, когда догонят его отставшие танки, а они уже далеко вправо и впереди ломали и мололи вражескую оборону... Там двухметровая гряда, род естественного эскарпа, пересекала поле вдоль реки. На длинную и, казалось, последнюю ступеньку перед славой хлынула теперь тридцать седьмая, чтобы, восстановив утраченный строй, ринуться на штурм Ставища; вкруг него и решалась судьба Великошумска. Село виднелось как на Цитадели, за сбившимся в кучку леском, откуда били тяжелые немецкие батареи. И если туда передвинулось теперь самое главное этого кромешного дня, – значит, неправду утверждал Собольков, будто судьба боя решается там:, где находится двести третья!.. Временно укрытая от обстрела, бригада как бы взрывалась сейчас, распространяясь в обе стороны и давя дзоты, размещенные по скату. Их было там насовано, как ласточкиных гнезд в речном обрыве; звук был такой, точно и впрямь яйца хрустели под тяжелой поступью бригады. Один из них, в особенности хлеставший огнем, достался на долю двести третьей; пулеметы царапали ее триплексы, в предсмертном ожесточении стремясь хотя бы ослепить машину, но она уже вошла в гнездо, как поршень, бельмастая и неотвратимая, и накренилась, вгрызаясь левой гусеницей, и вдруг осела, – и это полуметровое падение также напомнило чем-то Литовченке пробуждение от детского сна. Все обстояло хорошо, если не считать временной слепоты танка да обрядинского ушиба. Рука плохо сгибалась в локте, но какое-то дополнительное злое озорство зарождалось из тупой, неотвязной боли; кстати, Обрядин никогда подолгу не таил в себе обиды.
– Дозвольте обратиться к водителю, товарищ стрелок-радист, перекричал он мотор, пользуясь маленькой остановкой для последующего маневра, и, не дожидаясь позволенья, осведомился у Литовченки, что он испытывает теперь, глубокоуважаемый Вася. – Не укачивает тебя маненько, не беспокоит, не трясет?
– Щекотно будто... – жарко и с придыханьем ответил тот, задним ходом выводя машину из крошева.
Этот дзот был последним. Пользуясь передышкой, водитель выбросил левый триплекс, где ни на сантиметр не оставалось прозрачности. Стало видно, как необыкновенно крупный, ватными клоками, валил снег. Смеркалось, – все же Литовченко разглядел кровь на куске плексигласа. То была его собственная, так что вовсе не от пота прилипала к рукоятке фрикциона его растертая ладонь. Пришлось замотать руку тряпкой, Дыбок впервые выступал в роли санитара, -это также заняло щепотку времени. Обрядин успел, кроме того, дать наставление водителю, чтобы теперь в особенности берег лицо от пулевых брызг, и даже начать рассказ, как угостил однажды того же бессменного товарища Семенова Н. П. зайчатиной, вымоченной в коньяке, чем и ввел свою жертву в глубокое поэтическое ошеломление. Случай пришел о память от неосознанного пока убеждения, что только заяц и спас их от прямого вражеского попадания. Он оборвал повесть на том месте, когда помянутый Семенов лично пожаловал на кухню показать московским гостям этого невероятного художника пищи; он оборвал, чтобы коснуться пальцев лейтенанта, лежавших на штурвале орудия,
– Ты чего... чего замолк, Соболек? – пронзительно, в самую душу заглянул он. – Хочешь, у меня во фляге есть... непочатая. Одна хозяйка домашнего кваску на прощанье налила... понятно? – И он прищелкнул языком для обозначения обжигающих достоинств напитка.
Он и с женщинами не бывал так настойчив и нежен, но ответа ему не последовало. Высунувшись из люка, Собольков сделал вид, что вглядывается в сумеречное поле; оно приходилось на уровне головы. Двести третья оказалась левофланговой. Бригада ушла вправо, по лощине, куда перекинулся и грохот битвы. Прямо перед Собольковым подковкой лежал бугорок, и в неглубокой впадине ее, подобно мотыльку, сновала взад и вперед еще какая-то тридцатьчетверка, в суматохе боя вырвавшаяся наверх. Три больших немецких машины, прикрываясь снегопадом, двигались в обхват этого места, изредка стреляя, в намерении выпугнуть жертву из норы. Загонщики заходили на большом радиусе, ближняя находилась в створе со своей будущей добычей; вступать отсюда во фронтальный поединок с ними было для двести третьей вполне рискованно. Видимо, по неисправности орудия тридцатьчетверка не отвечала на огонь, и ей уже нельзя было бежать, не подставив корму под прицел охотников.
Собольков признал их скорее по калибру грузного лаистого звука, чем по контурам, источенным снежной мигающей мглой.
– "Тигры"! Смотри, ребятки, "тигры"! – твердил он, словно и остальным был доступен такой же круговой обзор, как из командирской башни. – Сволочи, губители... ну, сейчас мазнет... – и, уже не понимая нелепости своего решенья, бессознательно прикидывал, успеет ли добежать туда один, с противотанковой гранатой.
Не было бы ему лютее муки – смотреть из безопасности, как станут расстреливать безоружного товарища; сперва расколют ему железный череп и разорвут бока, потом в три длинных клюва будут долбить костер, пахнущий газолем и горелой кожей. Представлялось неразумным отвлекать огонь на себя, но, как часто случается в бою, доводы разума пересилились стихийным побуждением сердца. Собольков дал выстрел по правому, дальнему "тигру"; он и сам не понял, что произошло... Такой удачей не дарит война даже прославленных танковых асов. То была не меткость – скорее совпадение, стоявшее на грани несбыточного. Так, значит, победить он хотел все-таки больше, чем жить в желанном послевоенном яблоневом саду!.. Он попал в самый ствол "тигра", в черноту его орудийного зрачка; 76 хорошо разместилось в 88; двести третья как бы заткнула ему пасть куском своего железа, и та огненно распалась; короткий обрубок торчал теперь из шароустановки немецкого танка. В эту минуту Собольков и принял решение. Здесь его не остановили бы даже минные поля, слишком возможные в этом подозрительно чистом и девственно нетоптанном снегу, потому что подвиг и есть пренебрежение собой ради величайшей цели. Вдруг какое-то исковерканное несуществующее слово, означавшее даже не полет, а стремглавное орлиное паденье на добычу, вырвалось у него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды.
– А ну, дай копоти, сынок! – гаркнул он Литовченке; хорошо осведомленный, чем кого угощают в разных случаях жизни, он не требовал у командира, чтобы тот заблаговременно заказывал ему артиллерийское меню.
Весь дрожа, на самом малом газочке, Литовченко бережно стронул машину. И время стало маленькое, время молнии, в которое она успевает родиться, ослепить вселенную, ужаснуть живое и погаснуть. На счастье, не пришлось и разворачивать танк: он и без того смотрел пушкой влево – туда, откуда выгодней всего представлялось контрнападение. Литовченко выжал газ почти до конца, так что даже хрустнуло в колене. Двести третья пошла на предельной скорости и с легкостью, порождавшей недоверчивую улыбку. Было что-то живое в том, как свистел мотор и просил еще ходу. Видимость почти пропала: чем быстрей движенье, тем темнее ночь. Вьюга крутилась в танке -шли с открытым люком. Снег залеплял лицо водителя, но гот все забыл, забыл даже, что где-то поблизости находится крутой речной обрыв, забыл боль, самое тело свое забыл, лишь бы не терять из виду скачущей ленты чернобыльника, обозначавшей правый скат эскарпа. Рычаги ему выламывали руки, ветер гонки срывал односложные восклицания с закушенных губ, а лейтенант все давил ему ногой в плечо, словно в водительской воле было вырастить крылья у танка... Обратная дорога домой, на Алтай, кратчайшая и единственная, проходила лишь через победу, и дочурка не упрекнула бы Соболькова, что плохо к ней торопился Собольков!
Поворота вправо не попадалось, гонка становилась бегством от цели. В эти считанные мгновенья и могло произойти убийство наверху. И опять судьба зловеще улыбалась Соболькову, прежде чем отчаянье остановило его лютый бег. Она разрезала лощинку пополам и правый ее рукав под острым углом вывела на поверхность, в заросли густого кустарника, красноватого даже во мгле... Точно секундомер лежал в руке судьбы: охота еще не кончилась, только метания застигнутой тридцатьчетверки стали суматошней и короче, так как сократился сектор ее укрытия. Вовсе не поломкой орудийного механизма объяснялось ее бедствие, а просто, израсходовав боезапас, она сберегала свой заключительный выстрел, последний из ста пяти, чтобы жалить наверняка. Значит, дождалась она своей минутки, и если только не дьявол, длинный и на раскинутых ногах, стоял на правом фланге – и огненные мышцы просвечивались сквозь черные струйчатые сапоги! – так это подбитый ею немец исходил серым смертным дымом. Зато два других, увеличив радиус нападения и, по существу, уже без риска подступали к ней лобовиками вперед, а она вертелась всяко посреди все новых и черных ям. Как змей, вертелась она, лишь бы стать лицом к врагу, лишь бы умереть не спиною к полю боя!.. Слышно было, как задыхался ее мотор, как сипло кричал ее командир, и как ветер выл в пустом стволе, и даже как сердце билось у товарищей – тоже было слышно на двести третьей... Все это не было вполне достоверно, но то, что глазом и ухом не различал Собольков, ему безошибочно подсказывала танкистская душа; именно так, в равных условиях, поступал бы он сам.
9
Маневр получал блистательное оправдание; даже стоило устрашиться в иное время, не слишком ли судьба баловала Соболькова. "Пантера", а вовсе не "тигр", как оказалось, проходила всего в ста метрах, да и ощущение этих ста следовало наполовину отнести за счет метели и потемок; она проходила в профиль, дразня широким, граненым задом вскинутое на подъеме жало двести третьей. Собольков ударил ее еще раньше, чем Литовченко вогнал машину в кусты; он ударил ее дважды – кумулятивным снарядом и тотчас же, не меняя прицела, подкалиберным в живую мякоть у подмышки, над вторым сзади катком, где кожа "пантеры" утончалась до 45 миллиметров. Это было все.
Он испытал слабую ноющую усталость в руке, как если бы лично поразил коротким толстым ножом и повернул его в спине зверя. Двести третья стояла с открытыми люками, вся на виду, и потому экипаж мог в подробностях наблюдать это, недоступное ни на одном полигоне мира... Невыразимый полдень шумно рванулся из щелей "пантеры", неправдоподобных, дырчатых и косых, а плита командирской башни отлетела, чтобы запертое солнце могло выйти наружу. Литовченко сменил место не потому, что ослепительный свет превращал самое двести третью в мишень, а из желания укрыться от огненной измороси, от которой горел даже снег. Сам Дыбок – холодный, рассудительный Дыбок поддался колдовскому очарованию зрелища.
– Хлебни русского кваску!.. Вот он, эликсир жизни, пусть напьется досыта,
– запальчиво шептал он, но какое-то гордое достоинство мешало ему еще и еще бить из пулемета по пламени, хотя и чудилось, враг еще полз на одной гусенице и с вулканом в брюхе, так вихрился оранжевый пар вокруг него, – Выпей русского кваску... пей!
– Культурно сделано, Соболек, – похвалил и Обрядин сквозь зубы, срывающимся голосом, точно заправдашняя малярия трясла его.
Поглядела бы одна из его бабенок на нынешнего Обрядина – он был как мальчишка, пропала вся хваленая его степенность. Высунувшись из люка, он выставлял лицо в этот неистовый свет: душу, ознобленную близостью гибели, ласковей солньттттка греет жар горящего врага.
– Эй... пол-литра с тебя, товарищ! – гаркнул он вослед громадной тени спасенной тридцатьчетверки, шмыгнувшей через самое место их недавней стоянки. – Натерпелись, болезные... – сочувственно проводил он ее, когда как бы рассосалась в снежной тьме самое ее вещество.
– Похоже, мы у них тут целый зверинец разбудили. Смотри, еще один прется, – сказал потом Дыбок, когда остыла первая радость удачи. – Так оно и есть...Не люблю я в ночное время "фердинандов", товарищ лейтенант! – То было тяжелое самоходное орудие, германская новинка того года, прозванная так, по объяснению Дыбка, за сходство с профилем носатого болгарского царя, которого довелось ему видеть в старой "Ниве".
"Фердинандом" оказался тот, что двигался в центре облавы. Он засветил фару; судя по перемещению светового эллипса на снегу, он разворачивал свое неуклюжее тело, идя на сближение. Два звука слились попарно; кроме того, двести третья стреляла еще в промежутке, – были напрасны все пять залпов. В такой непроглядный вьюжный вечер успех решался не тем, кто железней или метче, а удачливей кто. Двести третья пятилась назад, и тогда случилось то, уже совсем невероятное, о чем до поздней старости обожал живописать внучатам ветеран великой кампании, Василий Екимович Литовченко. "Волос на мне дыбочком встал, – рассказывал он, гладя лысину, и ему верили не больше, чем Рудому Паньку, знаменитому его земляку. – Думаю-думаю, как же мне поступить при такой бисовой оказии..." Но если бы это "думаю-думаю" длилось у него в тот раз дольше секунды, никогда бы не узнали про этот случай маленькие, затихшие в страхе украинцы. "Фердинандов" стало два, потом сразу четыре зажженных луча пронизали взвихренную метельную неразбериху, да еще какой-то блудливый, так и не разгаданный огонек добавочно запетлял и заюлил в поле. Верно, они плодились там, ночные твари, вылезая друг из дружки, и действительно, замогильная чертовщинка миргородского пасичника представлялась, в сравненье с этим, поэтической выдумкой, навеянной шелестом вишен в благодатную южную ночь... Пользуясь даровым освещеньем от собрата, пылавшего, как солома, дьяволы разили из всех своих жерл, и двести третья поступила по меньшей мере правильно, заблаговременно и без выстрела спустись назад, в низинку.
Бежать отсюда было хорошо, горящая "пантера" служила достаточным ориентиром, пока не взорвался ее боеприпас. Она исчезла с ловкостью привидения, оставив по себе глухое эхо, дырку в снегу, дождь железных клочьев и вспышку, как от адского магния... Двести третья мчалась, петляя и на бога, потому что любое на свете было лучше прямого полупудового клевка в корму, – мчалась, заведомо углубляясь в расположение противника, мчалась, пока не отстала погоня. Последние выстрелы легли далеко в стороне, все погасло, самое окошко люка потерялось во мраке. Возбуждение успеха охладилось, на смену пришли озноб и голод; Обрядин, кроме того, вспомнил про разбитый локоть... Литовченко промолчал на вопрос лейтенанта, видно ли ему хоть что-нибудь на дороге; промолчал из боязни выдать голосом щемящую тоску, меньше всего происходившую от метельной неизвестности ночи. Следовало убавить ход до самого малого; так и сделали, но было поздно. Центр тяжести вполне ощутимо, шарообразно перевалился вперед, инструменты гремуче двигались по дну тапка. Горный тормоз не остановил скольжения. Все одновременно ощутили, как пучина дохнула на них холодом.
"Вот оно, то самое, двадцать второе число..." – со странной вялостью подумал Собольков, клонясь на пушку. Машина весом сползала вниз, с заметным уклоном влево. Обрушилась левая гусеница, Литовченко вслепую и немедля выправил движение, и стоило отметить выдержку новичка, хотя нигде его не обучали, как падать в реку с наименьшим повреждением. Теперь танк полувисел на месте. И опять опоздало тело; команду стой Собольков подал, когда был включен уже и задний ход. Не жалея ничего, водитель до бешенства разогнал мотор, но оно не могло длиться долго – единоборство хотя бы и пятисот лошадиных сил с законом тяготенья. Земля одолевала, она стаскивала людей с сиденья, и это было пострашней поединка с "фердинандом".
– Спокойствие, лейтенант, спокойствие... – чудовищно ровным голосом крикнул Дыбок в микрофон, точно ему принадлежала власть в танке, точно знал, что, пока сам он здесь, товарищам не грозит несчастье.
В передний люк хлынула вода. Упираясь рукой в американскую картинку, Дыбок включил аварийный свет на плафоне рации; он увидел неподвижное от натуги, откинутое назад и в снежной маске лицо соседа. Шустрая пена, бурля и заполняя щели, вилась вкруг колен. Вдруг свет погас, пора было кричать: Вылезай, топимся, – но все молчали, неживая сила придавила их волю. Дальше пояса вода не поднималась... Кое-как оторвавшись от танка, Обрядил выскочил наружу. Прошла вечность и, может быть, две вечности сряду, когда он появился опять, невредимый, сухой, даже веселый.
– Глуши мотор, Вася... кажется, приехали, – оповестил он сперва собольковским голосом, потому что мотор еще работал, с поминутным кашлем и во весь мах своих двенадцати цилиндров; загляни сюда "тигр", он мог бы спокойной лапой добивать двести третью до последнего пламенного вздоха, целясь на выхлоп. И когда Литовченко стащил с педали онемевшую ногу, Обрядин прибавил уже собственным в раздирающей уши тишине: – Приехали к теще в гости. Эва, на горочке с блинцами стоит. Выгружайтесь, граждане, помаленьку!
В сухом верхнем кармане гимнастерки у Дыбка нашлись спички. Их было семь. Головки с шипением отлетали, норовя в глаз; на коробочной этикетке было напечатано, как вести себя советскому гражданину во время войны. Зажглась четвертая, и, пока не притушил ее хлопок снега, главное успело отпечатлеться в зрачке. Танк держался на скате стандартного немецкого рва, кормой вверх и с перевесом левого борта, – как в ночь разгрузки, когда комкор читал наставление новичку; машина опрокинулась бы на большей скорости. Вода достигала третьего катка; две широкие колеи, прорытые гусеницами, круто уводили в черноту, смолянисто блеснувшую при вспышке. Собольков не успел различить стрелок на часах, – было скорее пять минут девятого, чем без четверти час, но и в первом случае событий явно недоставало на такую уйму протекшего времени. В суматохе дня, видимо, проскочили еще какие-то происшествия, не оставившие в памяти следа. По сходству с собственным их нынешним положением Собольков припомнил только, как они вытаскивали из воронки одну завалившуюся шестидесятку, но эпизод тотчас поблек и как бы тинкой затянулся.
– Я уж думал, нас в подводную лодку за заслуги произвели, – пошутил Дыбок, но все не шибко поверили, что ему веселей, чем прочим.
Так они стояли, трое, молча и бездельно, без мыслей и усталые до степени равнодушия к тому, что случится с ними на рассвете, когда найдет и распорядится их жизнью мимоходный немецкий броневичок. Вдруг, опустившись прямо на снег, Дыбок принялся снимать сапоги; натекшая вода могла повредить его здоровью, необходимому для великих будущих дел.
– Не разберу... морозит или это малость озяб я? – спросил он ни у кого и зевая нарочито громко, словно это могло подбодрить товарищей.
Значит, не все еще кончилось здесь, у жирной итоговой черты в безвестном поле. Собольков поднял голову.
– Вася, – позвал он негромко, потому что теперь стало можно говорить и негромко. – Чего ж тебя неслышно, Вася?.. Ты где, чудак, а? – говорил он, обходя громаду танка.
Снег падал реже, чуть посветлело. Черно было сейчас на земле, и вот, в утешение, выдали ей где-то за бетонными облаками скупой и тонкий ломтик луны. Лейтенант увидел своего механика-водителя. Литовченко стоял с обратной стороны, прижавшись к гусенице, вздыбленной над его головой. Он весь дрожал, когда Собольков коснулся его лица, он так дрожал, что именно это ощутил сначала лейтенант и лишь потом – живую горячую влажность на кончиках своих онемевших пальцев.
– Вася, ты о чем?.. Остыл, что ли? Да нет, погоди, не отворачивайся. Ты толком объясни, в чем дело? – шептал он в самое ухо, заслоняя от товарищей; тем временем подошли и остальные.
– Машину жалко... – всхлипывая, признался Литовченко и ребячливо, мокрой тряпкой, размотавшейся в ладони, тер свои безволосые щеки. – Я же знал, куда мы катимся... вот и запорол!
И вдруг новый приступ горя потряс паренька; сорвав шлем, плача и весь подавшись вперед, он закричал товарищам, что стрелять его надо за это, именно так, как делали немцы с детьми:
– В рот, в рот мне за это надо стрелять!..
На войне нет ничего страшнее плачущего солдата, и не надо его останавливать, пока не выгорит отчаянье до конца. Экипаж молчал: они тоже были однажды новичками, как и этот чумазый хлопец – такой чумазый, что и вековухи отворачивались от него на стоянках. Зато платок любимой девушки можно было уронить на дно трансмиссионного отделения в его танке и, незамаранный, спрятать назад в кармашек. Им нравилась скрытная мальчишеская гордость Литовченки, когда ему доверили шрамистую, прославленную двести третью, и, верно, до его крестьянского сознания достигла ужасная, совершенная в глазах современников целеустремленная красота советской тридцатьчетверки... Кроме того, эти люди понимали, что только настоящий человек может требовать справедливости и подвигу своему, и оплошности.
– Сердечко не выдержало... – сочувственно буркнул Обрядин, толкнув локтем командира и держа наготове бачок для питьевой воды, налитый на этот раз лекарством от малярии. – Нежную душу и снежинка царапает. Знаю, сам имею такую же!
Литовченко приходил в себя. Он поднял голову и виновато усмехнулся, стыдясь товарищеского внимания. Тогда они подошли ближе, заговорили вперебой, и не различить было, кто и что произносил в той жаркой словесной толчее; даже Дыбок испытал ту особую волнительную размягченность чувств, такой опасался больше всех болезней на свете.
– Эх ты, вояка полтавская! А мы тебя женить посля войны собрались. Она ж целая: смотри – ее черт рогом колупал, да скис. Ее до Берлина хватит пока, а там, коли потребуется, еще моторишко попросим... У меня земляк закудышный на заводе имеется, замдиректор, тоже художник своего дела... Только малярия его гложет, вроде меня. А танкисты, брат, особый народ... и не зря им завидует пехотка! – Последнее чуть ироническое замечание принадлежало Дыбку и так откровенно, хоть и не злостно, было направлено в лейтенанта, что Собольков, нащурясь, даже покосился на него.
Полдела было сделано, водитель возвращался в строй; по степени важности теперь оставалась меньшая половина – выйти к сроку из немецкой мышеловки. Обрядин поднял шлем и, отряхнув от снега, надел на голову товарища.
– Посушить бы теперь парнишку, лейтенант, – заметил он при этом.
Дыбок с хозяйской властностью заставил водителя сесть на снег и
повторить все, что проделал сам незадолго перед этим.
– Ладно, теперь другую ножку, – шутил он. – Выжми, выжми ее потуже. Ишь сколько воды набрал... куда ее тебе столько! Теперь лезь наверх, погрей ноги на моторе...
– Не холодно мне, – оборонялся Литовченко и вдруг вспомнил, что и Дыбок рядом с ним принимал ледяную купель. – А сам, сам?!
– Э, мне эта штука нипочем. Я телу моему хозяин строгий, – с жестокостью, исключавшей и тень похвальбы, бросил Дыбок; все же озноб мешал ему выразить мысль короче, чем полагалось по его характеру. – Я от тела моего много требую... а то ведь и расчет дам. Оно меня боится! – пригрозил он вслух, чтобы прониклось его волей продрогшее солдатское тело; Собольков подумал даже, что если убьют его, Соболькова, то именно Андрею Дыбку надлежит стать капитаном двести третьей.
Греться изнутри надо... ну-ка! – осторожно вставил Обрядин, поднося флягу Литовченке. – Та-ак, еще отпей на рупь семьдесят. Хватит! Эх ты, девушка!.. Ей бы пройтись маненько, покружиться теперь в вихре вальса, товарищ Собольков!
– Верно... – как-то поспешно согласился тот; он руководился тем соображением, что после происшедшего следовало поднагрузить паренька каким-нибудь заданием. – Ну-ка, пройдись, посмотри место на ближнем радиусе.
– Нельзя посылать водителя, лейтенант!.. – тихо, под руку, возразил Дыбок.
И оттого, что Дыбок был тысячу раз прав, всегда прав, этот удачник,
Собольков посмотрел на него с каким-то пристальным и ожесточенным интересом, как если бы видел его из последующих суток. Он недобро усмехнулся: вот уже и самая правда становилась на сторону его преемника! Глаза встретились, одна и та же мысль ранила обоих. Дыбок смущенно отвернулся, едва прочел, что содержалось в этом взгляде, и тогда Собольков медлительными словами повторил то, что сказали раньше его глаза:
– Не рано примеряешься, Андрюша? Потерпи, я еще живой. – И подтолкнул Литовченку. – Иди, ничего пока не будет... Я тебе велю. Иди!
Ни на один факт не могла опереться догадка: собственные их следы уже замело, и хоть бы зарево или выстрел в пустоте! Жгла и жалила мучительная надежда, что в это самое время тридцать седьмая вступает в Великошумск. Только одна двести третья засела в трущобинке крайнего левого фланга; ей предоставлялось воевать в одиночку, в меру разумения и солдатской совести.
Прежнее ощущение беспомощности постепенно замещалось решимостью на предстоящий, долгий и тяжкий труд. Нужно было передохнуть, поесть, подкопить сил, а там, глядишь, сами собою прояснятся обстановка и мысли!
Они взобрались на танк. Горячий воздух обильно поднимался сквозь жалюзи мотора. Обрядин слазил за едой. Соскучась в одиночестве, замяукал Кисо, и всем стало немножко веселей от сознания, что количество их умножилось на единицу. Ему также выдали слагающийся рацион, и он довольно усердно занялся его поглощением.
– Давай думать, лейтенант, – сухо и тихо сказал Дыбок.
– Успеем, отдохни... Не торопи войну, Андрюша! Пять минут всего прошло, как сели, – ответил Собольков и снова занялся котенком. – Что, Кисо, хвост-то намок? Ничего, на войне это и есть главное: будни. А сражение – это уж праздничный день, гуляй, душа! Ешь, ешь... Тебе бы щец со свининкой? Я твою натуру знаю. Не хочешь щец? Ну, врешь, хищный зверь, притворяешься. Ладно, вот закопаем Гитлера, поедем с тобой на Алтай. Новая хозяйка у тебя будет, маленькая и добрая. Все глупые – добрые, вот почему и умный у нас Дыбок. Небось злится на меня, памятливый... А ты скажи ему, Кисо, чтоб не серчал, От этого дружба вянет, волос лезет, здоровье портится. Сказал?.. Ну, что он тебе ответил?
Дыбок промолчал на этот шаг к примиренью. И верно, злость в какой-то степени помогала бороться со стужей, ломавшей ему кости. Обильный пар стал подниматься от ног, начавших согреваться, и он хорошо знал, что зато потом будет хуже, но нечто неодолимое, телесное, мешало ему сдвинуть ноги с горячей решетки. Так, злясь на все кругом, он злился в первую очередь на свое затихшее тело... Обрядин пытался сгладить неловкость деликатным посторонним разговором.
– Меню рояль, что означает: королевский харч! – сказал Обрядин, смачно надкусывая какую-то особо прочную колбасу. – Что-то мой товарищ Семенов Н. П. нынче поделывает? В артиллерии был... Нет, друзья, я вам так скажу: лучше зима, чем беда. Лучше беда, чем война, – а тут все три разом навалились!
– Ты прямо рудник, Сергей Тимофеич, – тотчас заметил Дыбок, аккуратно надрезая ножичком ту же колбасу.
Заведомый капкан таился в этом загадочном замечании, но Обрядин безобидно ступил в него, лишь бы облегчить сердце товарища.
– Всем я бывал у тебя, Андрюша, а вот рудником еще ни разу. Откройся, чем же я рудник, глубокоуважаемый товарищ?
– Як тому, что... глыбы на редкость ценной мысли в тебе содержатся. Ты бы записывал, чтоб не забыть. Можешь прославиться, как выдающийся светоч человечества. По Волге будет ходить нефтяная баржа под названием Светоч Обрядин. Как мыслитель ты в особенности для баржи хорош.