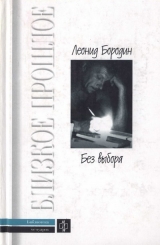
Текст книги "Без выбора: Автобиографическое повествование (с илл.)"
Автор книги: Леонид Бородин
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц)
Философские соблазны
Дневного Норильска почти не помню. Ночь да ночь! И всего три места пребывания – общежитие, рудник, клуб.
Главный в клубе – киномеханик. Официально. Неофициально – наша небольшая компания, обеспечивающая молодежь рудничного поселка, как нынче принято говорить, развлекательными программами. Киномеханик доволен, и его довольством мы откровенно злоупотребляем.
Так сложился небольшой кружок, четыре-пять человек. Цель – проверить товарища Карла Маркса, так ли уж прав сей бородач, положим, относительно классовой борьбы, прибавочной стоимости, преимущества государственного капитализма и, главное – исторического гегемонизма пролетариата. Реального гегемонизма, а не теоретически относительного.
Чего там! Без улыбки не вспоминается. Хотя бы то усердие, с каковым конспектировали страницы «Капитала», как вгрызались в терминологию, как злорадствовали, наткнувшись якобы на противоречие, как пытались на минимуме информации по марксовской схеме просчитать прибавочную стоимость эксплуатации норильских шахт и рудников..
При том мы по-прежнему оставались «комсомольцами» и советскими по духу, ибо главной нашей заботой было «исправление социализма», и, когда б такой путь существовал – я же помню! – жизнь положили бы на то без сожаления соответственно социальному накалу наших душ; он, сей «накал», ей-богу, был первичен по отношению ко всему прочему, чем еще жили души наши. Девушки-девчата, гитары и заполярный самогон, драки с «чужими» – ничто не прошло мимо… Но вторично!
Любящие девушки уважительно считали нас «идейными», равнодушные считали «чокнутыми на политике». И те и другие были по-своему правы. Много позднее я придумал-сочинил объяснение тому странному явлению «выпадания» таких, как мы, из общего тонуса нашего поколения, которому уже и тогда все было «до лампочки». Суть придумки в том, что известны, к примеру, люди с повышенной болевой чувствительностью. Ненормальность. В некотором смысле – уродство. Но попадаются и люди с повышенной социальной чувствительностью – это такие, как я. Из таких формируется разная революционная сволочь, готовая не только сама сгореть в костре политических страстей, но и подпалить все вокруг себя, поскольку утробный девиз худших из таких натур: все или ничего!
Когда же обнаруживается бессилие или выявляется бесплодие усилий, тогда, возможно, и рождаются строки, подобные таким вот: «Как сладостно Отчизну ненавидеть!»{4}
Очень даже может быть, что я не прав, когда на лицах некоторых наших нынешних телечебурашек прочитываю это – почти зоологическое – отвращение к стране пребывания. Кто-то из таковых искренен в своих чувствах, кто-то попросту куплен для исполнения роли… Да и активные политики некоторые, причем разного окраса – так на их рожах и написано: «Либо все будет по-нашему, либо…»
Но то уже проблемы дней смуты теперешней.
А без малого полвека тому назад… Подумать только! Почти полвека прошло! Но тогда, в конце пятидесятых, мы, девятнадцатилетние, добросовестно, хотя и исключительно на уровне интуиции пытались формировать в себе, как нынче принято говорить, исключительно конструктивное отношение к Родине, поскольку были едины, то есть даже не подозревали о возможности рефлектирования на предмет «Я и Родина». Все вокруг было наше, как в доме – все мое, и если в доме неуютно, то кому ж, как не мне, озаботиться да подсуетиться?
Именно тогда, когда копошились в марксизме, когда, обнаружив в поселке под названием Нулевой Пикет букинистическую библиотеку – результат грабежа русской интеллигенции, – бессистемно, взахлеб зачитывались неизвестными до того историками, философами, публицистами, тогда определили в себе настоятельную потребность в системном образовании и летом 1958 года разбежались из Норильска. В отличие от моего друга Владимира Ивойлова я не решился штурмовать питерские вузы. В Иркутск путь мне был заказан, и с грехом пополам пристроился я в Улан-Удэнском пединституте на историко-филологический факультет. Другу же моему отважному опять не повезло, и он ушел в армию, как положено было по возрасту и гражданскому долгу.
Два года побыв в роли «нормального» студента, я заскучал, перешел на заочное и окончил институт на полтора года раньше. Женился, родилась дочь. Работал сначала учителем, а в двадцать пять – уже директором крупной школы. Все мне удавалось и давалось легко. Начальство меня ценило, и педкарьера, по мнению коллег, высвечивалась отчетливо…
А между тем то там, то тут натыкался я на следы «следящих» – история с Иркутским университетом кого-то, зоркосмотрящего, настораживала, и не зря. Потому что в действительности все, чем я жил, так сказать, на виду, было лишь игрой в жизнь.
Кажется, М. Горькому принадлежит открытие «зубной боли в сердце»{5}. Так вот, она, эта боль, окопалась в душе так основательно, что сомнений не было – все настоящее и стоящее еще впереди. Норильск, как обратная сторона бытия, так до конца не раскрытая и потому непонятая… От «зубной боли» я находил отвлечения не только в азарте работы, а уж азартен бывал сверх меры!
Философия как заявка и претензия на сверхмудрость, в нее заныривал, как в сон, в котором все чудно, многозначно и таинственно. Гегельянствовал! «Логику» Гегеля вычитывал, как роман с приключениями. Любимые книги того периода: помимо «Логики», «Лекции по эстетике» опять же Гегеля, «Критика чистого разума» Канта и… «Былое и думы» Герцена. Еще бы!
«Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримом пространстве под горой. Так постояли мы, постояли и вдруг, обнявшись, в виду всей Москвы присягнули пожертвовать всей нашей жизнью на избранную нами борьбу!» (по памяти){6}.
Правда, слово «борьба» я никогда не любил. Казалось оно выспренним и как бы преждевременным, в том смысле, что о борьбе можно говорить только во время борьбы, коль уж так случилось. И до сих пор не люблю этого слова, ни разу не использовал его применительно к себе, потому что нынче, в конце жизни, могу ответственно утверждать, что никогда ни с кем и ни с чем не боролся. Не было ее в моей жизни – борьбы. Было сначала несовпадение, потом противостояние и формально справедливое возмездие – а это иное! Хотя бы потому, что не я боролся, а со мной боролись…
Друг мой между тем, отслужив в армии, поступил-таки в Ленинградский университет на экономический факультет, и эта его бесспорно заслуженная удача фактически определила всю мою дальнейшую жизнь. Первый же наезд в Питер, общение в небольшой компании студентов ЛГУ поначалу на уровне обыкновенного философско-литературного «трепа», а далее с осторожными проговорами социальных проблем – вот и первая трещинка в монолите моей, как до того казалось, пожизненной привязанности к Сибири. Теперь Питер – цель, мечта…
Легко, с блеском сдав кандидатский минимум по курсу истории философии в том же Иркутском университете и тем же преподавателям, что десятью годами ранее изгоняли меня из него, как овцу паршивую, в 1965 году рванул из Сибири, чувствуя себя одновременно и ренегатом, и вольноопределяющимся по самому высокому смыслу жизни. Ведь оказалось – и разве это нормально? – что в мои двадцать семь в мыслях, в планах, в мечтах начисто отсутствует идея карьеры, то есть я никем не хотел быть. Я хотел знать! И кажется, догадывался, что то знание, навстречу которому тащусь из самой середины Бурятии, от станции моего недавнего пребывания под названием Гусиное озеро, в Питер-град, где мысль – ключом, а жизнь – водопадом, знание это чревато непредставимыми последствиями, а готов ли к ним, о том думать не хотелось.
Пока в своей деревне пробавлялся гегельянством, друг мой питерский вышел на тот пласт русской культуры, который писатель Юрий Трифонов по-советски хлестко поименовал «белибердяевщиной». Прибыв в Питер, я в эту «белибердяевщину» занырнул с головой и осенью того же 1965-го уже предложил аспирантуре философского факультета ЛГУ реферат о «кантианских мотивах у раннего Бердяева». Реферат был принят, но аспирантура не состоялась – не признали мой «кандидатский» по спецпредмету, о чем жалел я не очень, поскольку в это время…
Но об этом времени надо говорить особо, поскольку оно того стоит.
* * *
Во-первых, отчего мы с другом так рвались именно в Питер, а не в Москву? Из провинциальной глубинки Москва виделась прежде прочего политической столицей, берлогой марксизма, где полудремотную лукавость вождей, их помощников и помощников помощников охраняют бесчисленные стражники, на одном пространстве с которыми невозможно пребывание и выживание ничего инакового. Еще стоит сказать о том, что в каменном лике своем сохранивший строй и порядок Питер-град, в отличие от растрепанной Москвы, как бы способствовал отстраиванию духовной дисциплины, необходимой для ответственного действия. Еще. В Москве была масса памятников архитектуры. Сохранившийся Питер памятником не осознавался, но – исторической территорией, где надо было всего лишь пустить корни.
Правда, со мной-то лично все было проще. В Москве знакомых не имел, а в Питере уже заканчивал университет друг мой с времен елабужских, круг друзей которого и стал базой нашей первой «нелегалки», сколотившейся еще во времена моих наездов в Питер, в начале 1960-х. «Нелегалка» была типовой, словно срисованной с 60-х XIX века. Бесконечные ночные разговоры-споры, «съемный» домик в Шувалове, шрифт, выкраденный из типографии имени Клары Цеткин, симпатические чернила для переписки и главное – демократические ценности!
Первое, что приходит на ум человеку, догадавшемуся о несовершенстве бытия, – демократия. И даже не в смысле народовластия. Такое понимание демократии достаточно требовательно, оно понуждает к историческому поиску, к осмыслению народного опыта, провоцирует порой продуктивные ассоциации. Иначе говоря, не тормозит сам процесс политического мышления.
Демократия – даешь свободу! – нечто совсем иное. Самодостаточное. Логический принцип такого типа мышления – от противного.
Однопартийность? Даешь многопартийность!
Государственная собственность? Даешь частную!
Бесправность на митингах и собраниях? Хотим базарить!
Цензура? Долой!
Наша группа-компания пребывала на стадии изживания примитивного «демократизма», когда попала в поле зрения вездесущих органов. Срочно самораспустились. Трое непосредственно засветившихся рванули из Питера на Кавказ и какое-то время отсиживались в заброшенном ауле Дагестана. Оголодав, спустились с гор и через некоторое время тихо «просочились» в Питер. Органам было не до них. Вовсю шла разработка ревизионистской организации Хахаева-Ронкина, «зачистка» последствий дела Иосифа Бродского{7}, а тут еще и свержение Хрущева и, соответственно, перетряска самих органов.
Питер же в лице его студенческой и послестуденческой молодежи к середине 1960-х «разбузился» как никогда. «Буза» была с хитрецой. Всяк, выбрав поле крамолы, тщательно обкапывал себя рвом аполитичности. Слова социализм, коммунизм, советская власть – не употреблялись. Говорили – структура!
Образцы: «Меня структура не интересует!» – сверхосторожная позиция. «Я на структуру не работаю!» – позиция сверхдерзкая.
Математики дерзили математической логикой, лингвисты – структуральной лингвистикой, экономисты – проблемой скрытого рынка в безрыночной структуре, философы-позитивисты – кибернетикой… Еще бы! Кибернетика объявляла сущностью вещей их организацию! Формулировки Норберта Винера{8} произносились с придыханием.
Была даже «космическая» ересь, опиравшаяся на теорию академика Козырева, в то время директора Пулковской обсерватории. Опытно обнаружив «четвертое измерение», Козырев будто бы открывал возможность решения единственно сущностной проблемы человечества – иммортализма, то есть бессмертия. Имморталисты жаждали видеть во всем мире одно государство, одну партию, одного вождя, чтобы все экономические и энергетические резервы бросить на космические исследования и посредством эйнштейновского «парадокса времени» достичь бессмертия.
Если это и был бред, то немногим больший прочих, потому что душа не терпит пустоты. Ни на мгновение!
Великий суррогат веры – социализм – истекал из душ по каплям. Капли ничтожных суррогатов немедля восполняли истечение.
Но если социализм и изживался, то не изживалась вдохновенность, с каковой он вошел в мир и в души людские. Потому тогда, в шестидесятых, не наблюдалось того душевного маразма, столь характерного для времен нынешних. Напротив, псевдообновление душевно-духовных объемов сопровождалось ярким всплеском энтузиазма, что, собственно, и получило впоследствии название «шестидесятничества», это о нем, об энтузиазме и не более того, тоска у тех, кому сегодня за шестьдесят. Тоска объяснимая, потому что подлинного обновления не состоялось по причине смертоносности травмы, нанесенной идеологией интернационализма в подлинном, то есть марксистском, значении этого слова.
Но жажда обновления, безусловно, была. «…Захотелось дерзостной новизны на свете. Захотелось врезаться в дело, как ракета. Захотелось дерзости мысли, звука, цвета… Чтобы нас насытили верой и доверием…» (С. Кирсанов – по памяти.)
По причине этой жажды металась молодежь по различным семинарам и симпозиумам, все озвученное там воспринимала, как и положено молодости, критически, раздражая и нервируя профессоров, тоже зараженных крамольным экспериментаторством.
На семинарах Шахновича лягали соцэкономику; у Свидерского под видом разработки теории структур пощипывали наиболее догматические установки диамата; на лекциях гегельянца Кисселя подбрасывали каверзные вопросы по поводу ленинских определений государства; Игорь Кон, впоследствии окончательно свихнувшийся на сексе, остроумно озорничал в социологической сфере…
Один пример по памяти, кажется, из семинара Шахновича. Студент задает вопрос: «Маркс говорил, что воровство предполагает наличие частной собственности. У диких коммунистических племен не было воровства, потому что не было частной собственности. У нас воровство есть. Следовательно?..»
Мои новые друзья-питерцы, отупев в итоге от двусмысленности отечественной политической мысли, обратили свой алчущий истины взор на достижения западного ума, на те его хилые ручейки, что просачивались «низом» из-под «железного занавеса».
От природы будучи нормальными, физически здоровыми особями, брезгливо отшатнулись от фрейдизма. Но зато хоть один сезон да погуляли с высоко поднятыми головами в вызывающих одеждах ницшеанства. Другой сезон озорно резвились в волнах экзистенциализма, большей частью у берегов Хайдеггера и Кьеркегора, над Гуссерлем скучали, от Сартра подташнивало. Зато Габриель Марсель, или Ортега-и-Гасет, или Флюэллинг для некоторых остались памятными вехами на путях духоискания{9}.
Но при том, увлекаясь кумирами Запада или отвлекаясь от них, мы интуитивно чувствовали их «объемное» несоответствие марксизму, каковой будто бы и отвергали принципиально, но только волей, а не умом. Тотальность марксизма, а точнее, социалистической идеи как таковой подталкивала на поиски «равнообъемной» идеи, и когда в середине шестидесятых наткнулись на русскую философию рубежа веков, произошло наше радостное возвращение домой. В Россию.
Что бы сегодня ни говорили обо всех этих «бердяевых», сколь справедливо ни критиковали бы их – для нас «веховцы» послужили маяком на утерянном в тумане философских соблазнов родном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы получили поначалу пусть только «информацию» (мы – позавчерашние комсомольцы-атеисты) о подлинной земле обетованной – о вере, о христианстве, о Православии и о России-Руси.
Но должен оговориться. Это случилось только с теми, кому повезло в самом раннем детстве в той или иной форме получить весомый заряд национального чувства. В этом случае имело место счастливое возвращение.
Однако ж были и другие, кому не повезло. Один из таких несчастных, и, к несчастью, еще и очень даже талантливый и по сей день знай себе смердит на радио «Свобода». Духовно обрезанный, давится он, бедный, собственным отвращением к бывшей Родине, будто сводит счеты с ней, не открывшейся ему своей сутью. Злобствует неистово, чаще всего по пустякам, ибо только сущие пустяки подсудны фрейдизму, на котором заклинился бывший питерский интеллектуал, по-настоящему образованный человек и блестящий эссеист…
Тысячи русских душ измордовал марксизм – величайшая утопия, вылупившаяся из хилиастической ереси{10} раннего христианства. И только в наши дни на фоне безответственного разгула экспериментаторства в политике, в экономике, в культуре в полной мере постигаем мы степень смертоносной травмы, нанесенной и душевному складу, и духовному состоянию народа, – ведь как ни изощряйся в отчуждении, от принадлежности к народу не отлучить ни наших нынешних очарованных Западом странников, ни «новых русских», ни тысячи сбежавших в поисках лучшей доли, ни тысячи оставшихся исключительно для участия в предчумном пиру.
На историю оглядываешься, прошлые беды видишь понятными. В будущее вглядываешься – робеешь…
А вот сорок лет назад я себя помню оптимистом. И не только молодость тому причина. Их, как ни странно, много было тогда – причин для оптимизма, главная из которых сегодня способна вызвать лишь недоумение: мы не верили в возможность принципиально бездуховного бытия в русском исполнении.
И потому казалось, что достаточно только своевременно поменять полюса. Процесс «смены полюсов» виделся как естественный процесс внутри общества, а вовсе не как итог инициативы некоего активного меньшинства, внедряющего или, хуже того, навязывающего обществу иные духовные ориентиры.
Возвращаясь к шестидесятым, следует сказать, что эти годы действительно имели своих «шестидесятников», но не тех, кто нынче, что ни день, объявляют себя таковыми. От настоящих «шестидесятников» практически ничего не осталось. Даже памяти о них. Ее узурпировали те самые фрондировавшие «официалы», которые и нынче обустроены лучше прочих, и тогда не бедствовали во всех отношениях. Рассказы об их страданиях, о гонениях и преследованиях… слышать не могу, до того противно.
Но именно в те годы росли как грибы или как грибковая плесень в затхлом колодце общественного двоемыслия и кривостояния подпольные группки, группы и организации, члены и участники которых, не увидев в социалистической практике соответствия существующего должному или обещанно-завещанному, сделав торопливые выводы на сей предмет, немедля приступали к агитации в пользу своих скоропалительных мнений, либо, замкнувшись группой-кланом, углублялись в дебри марксистской софистики, отыскивая «главные ошибки», допущенные советскими вождями и теоретиками в реализации «вековой мечты человечества».
Уместно заметить здесь, что если социалисты сегодняшнего дня во всех бедах винят Горбачева, то социалисты шестидесятых считали, что роковые ошибки уже совершены и нас ожидает длительный и болезненный процесс гниения идеи, если… не принять чрезвычайных мер немедленно. Разница в том, что «чрезвычайные меры» по нынешнему пониманию – это тот или иной способ ужесточения ситуации, а «шестидесятники-социалисты» видели спасение в немедленной демократизации социалистической системы с непременным сохранением всех важнейших принципов социализма. Ни о каких видах национальных самоопределений тогда никто не помышлял. О националистических настроениях и движениях того времени речь не идет.
В целом, однако же, я вовсе не претендую на сколько-нибудь подробный обзор и анализ инакомыслия времен 1960-х. Мое «болтание» по Питеру было краткосрочным. Уже в ноябре 1968 года я работал директором сельской школы в Лужском районе, а еще с октября членствовал в организации Игоря Вячеславовича Огурцова, и питерские «идеологические шорохи» в сравнении с программой организации, в которую я вступил, виделись не более чем баловством интеллектуалов, утративших осторожность с периода так называемой «оттепели».
О состоянии умов в Москве, где к тому времени уже вполне сформировалось явление, позже названное диссидентством, информации у меня вообще не было. О «деле писателей»{11} узнали одновременно с получением некоторых их публикаций на Западе. Особого впечатления они не произвели. Осуждение их восприняли как наказание за нарушение «правил игры» – несанкционированное выступление в западной прессе, да еще и под псевдонимами.
А вот кампанию в защиту их, Ю. Даниэля и А. Синявского, попросту просмотрели, увлеченные собственными делами. Событие же это стоило того, чтобы к нему присмотреться, поскольку именно оно послужило толчком и поводом к консолидации некоторой части московской интеллигенции, уже тогда (пока еще, правда, на уровне интуиции) ориентированной на «западные ценности». Сегодня эта «ориентация» научно обоснована, финансово обеспечена и политически выстроена таким образом, что кто бы во главе государства ни оказался, он автоматически становится заложником до него сложившейся расстановки сил. Это как если бы кто-то включился в шахматную партию, когда до него уже избран и разыгран дебют.
Но речь пока о годах шестидесятых, когда по причине фактической смены формы (только формы) власти, условно скажем, с авторитарной (сталинизм) на тоталитарную, интеллигенция получила кратковременную паузу на полусвободный вдох-выдох. То, что она успела выдохнуть, опасности для власти не представляло, но лишь при том условии, если бы она, власть, сама имела «творческий» потенциал к самосохранению. Такового не оказалось, постепенно властные структуры превратились в соучастников процесса распада, а затем, перехватив инициативу, возглавили его. Но только на последнем этапе! И это существенно.
* * *
Облегченная трактовка нынешней смуты – рыба, дескать, гниет с головы. Голова здесь в роли предателя хвоста и туловища. Почти дословно, к примеру, у Станислава Куняева – «партийные вожди предали многомиллионную партийную массу». Относительно рыбы подмечено верно, не учитывается только при этом одна существенная деталь: гнить с головы начинает уже мертвая рыба!
Процесс умирания веры в социалистическую идею был подобен рыбьему умиранию – тих и почти незаметен…
«Мама, рыбка уже уснула, да?» – «Еще нет, сыночек. Видишь, она ротик открывает? Это она так зевает. И хвостиком шевелит…»
«Хвостовые судороги» и отчаянное «разевание ртов» применительно к состоянию общества к концу шестидесятых и далее, до начала восьмидесятых, и получили чуть позже название «диссидентство».
Только что партия коммунистов торжественно провозгласила: «Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» И неважно, что никто, решительно никто не верил в провозглашенное. Важно другое: то самое «нынешнее поколение людей» освоило способ жизни без веры во что-либо «торжественно провозглашаемое». Такое освоение свершалось на уровне элементарного инстинкта выживания. Оно же, выживание, диктовало (опять же на уровне инстинкта) искреннее отталкивание от всякого формулирования этого самого всеобщего неверия.
Свершилось! На одной шестой части суши сформировался «новый советский человек» – будущий могильщик коммунистического режима.
Тщетно А. И. Солженицын призывал жить не по лжи. Поздно. Люди научились жить по «не вере». Причем все – от колхозника до члена Политбюро. Именно – по «не вере», а не по лжи, что, как оказалось, вовсе не одно и то же.
На фоне многомиллионного «нового советского народа» мы и нам подобные были выродки, уроды. Потому что нормальный советский человек по поводу своего неверия не рефлексирует. В том его особенность и неповторимость. В том же таился громадный разрушительный потенциал, каковой и выявился исключительно специфически, когда пришло время ему выявляться.
Банально мыслящие люди грезили великими потрясениями, народными бунтами, революциями и контрреволюциями. Но все свершилось фактически «втихую». Тихо жили по-советски, так же тихо от этой жизни отреклись.
Потом, позднее, когда оказалось, что «не так» жить еще хуже, частично сохранившие «пассионарность»{12} торопливо, а порою и истерично закрутили шеями и возжелали назад, в то прошлое бытие, где при минимуме духовного напряжения можно было более-менее сносно жить. Но история свершается не по произволу богов, но по их попущению…
В шестидесятых была популярна песенка-шутка:
Мы проснулись нынче. Здрасьте!
Больше нет советской власти!
Сочинивший эту песенку и ее исполнявшие подшофе и вообразить себе не могли, что все именно так и произойдет.
Наука проживания без веры, но с обязательным исполнением хотя бы критического минимума обрядов лояльности в последние десятилетия коммунистического режима достигла подлинного совершенства. Ведь даже столь знаменитое: «Возьмемся за руки, друзья…» – один из рецептов лукавого душевного равновесия. А в молитве-то нашей как? «Но Избави нас от лукавого…»
И не лукавость ли стала определяющим стереотипом поведения советских людей последних советских десятилетий?
Двуипостасен дьявол. Однажды он – Люцифер, богоборец, по-человечески красив он ослепляющей идейностью пафоса… Но, как кто-то верно сказал, пафос обратим в припадок. Долго жить в состоянии пафоса народ не может. И тогда Люцифер обращается в Аримана – в «Лукавого»… И, по главной христианской молитве судя, лукавость – самое пагубное состояние человеческой души.
Лукаво жили…
Иногда, правда, прорывался из кухонного окна отчаянный крик:
Я не люблю, когда мне лезут в душу!
Тем более когда в нее плюют!
Но не любить и не позволять – все же разные вещи. Всякий отмеряет по себе. Разочарования, предательства – как без того… Но плевки в душу… Нет. Не помню… Хотя бы потому, что не подпускал к себе на расстояние плевка никого, способного на плевок.
* * *
Говоря здесь или далее о диссидентстве и диссидентах, я буду иметь в виду исключительно людей искреннего порыва и вне зависимости от моего личного отношения и моих личных взаимоотношений и с явлением в целом, и с конкретными его представителями.
На всю жизнь хрестоматийным стало для меня стихотворное откровение первокурсницы филфака Иркутского университета, написанное в 1956 году.
«Люблю свою страну. Это не фраза. Но как же совместить любовь мою с неверием, которое не сразу, но прочно заняло всю жизнь мою… Я с каждым днем угрюмее и злее. С каждым днем мое неверие становится прочнее моей любви. Я задыхаюсь в нем!»
Открывая рот, рыбка не зевала вовсе. Она задыхалась от безверия, заполняющего душу. А вот разнообразие хвостовых судорог уже впрямую зависело от родовых характеристик.
Далее предлагаемая классификация личностей, в силу тех или иных причин оказавшихся в конфликте с умирающей структурой, безусловно, небесспорна, однако ж я рискну говорить на эту тему хотя бы по той причине, что тема диссидентства и по сей день отчего-то волнует некоторых теперешних толкователей смуты, соблазняя их той легкостью, с которой, оперируя уже ушедшим в историю явлением, можно выдать простенькую и всем понятную схему столь многопричинного и многопоследственного события, как «развал Великой державы»…
Итак – типы.
Если замыслом о себе был велик, а натурой слаб – чувствовал себя обиженным, притесненным.
Если слабым не был – осознавал себя сопротивляющимся.
Если был честолюбив и в меру смел – объявлял себя борцом.
Первых было большинство. Сегодня то один из таковых, то другой вещает по СМИ о том, как тупые, злобные и коварные власти ущемляли его права и таланты. Но они все выжили и ныне устроены.
Вторые часто гибли. Кто морально, но многие и физически. Из них сегодня мы никого не найдем даже на дальних подходах к власти. На тусовках культурных элит их тоже не видать.
Зато на элитных тусовках мы постоянно видим еще один тип, в вышеперечисленные не попавший. В те давние времена я называл их «проказниками». Сегодня они охотно, часто с азартом делятся с телезрителем или читателем подробностями своего непременно утонченного фрондерства: как хитроумно боролись с церберами-цензорами и часто побеждали последних; сколь стратегически выверенными бывали их действия и поступки по реализации своих недюжинных способностей в разных областях культуры, строжайше контролируемой; как умело находили покровителей в самых «заоблачных властных высях» исключительно по причине бесспорности своих талантов…
Таланты многих из них я признавал, признаю и теперь, но тип этих людей мне, мягко говоря, неприятен. Они и внешне мне чаще всего неприятны, словно на лицах их некая особая печать. Нет, не каинова и не иудина. Сказал бы – нечто сальеристское, каким запомнился Сальери в исполнении Смоктуновского, но при некотором моем личном довоображении: допустим, Сальери и в уме не имел кого-либо травить, но слушок был – дескать, чего ради у аптеки толкался, старикан ты этакий? Сальери (Смоктуновский) щурится хитро и многозначительно: «У аптеки, говорите? Право же, не припомню… Но не исключено, весьма даже не исключено!»
«Проказники», как уже говорил, страсть как любят ныне повествовать о своих шалостях. Но ни разу не слышал и не читал (если ошибаюсь, пусть меня поправят), чтобы хоть кто-нибудь из таковых поведал, чем обычно заканчивались их шалости. А заканчивались они всегда одинаково – «собеседованием», после которого вчерашний «проказник» писал откровенно заказной роман… или поэму, или статью, или холст, или пьесу, или на время вообще «умолкал в тряпочку». О последнем варианте нынче повествуется с особо трагическими интонациями. Противно.
Этому, мне (необъективно) противному, типу советских интеллектуалов я уделил столько места, отчасти чтобы желчь излить – вредная, говорят, для организма вещь.
Отчасти же потому, что именно эта часть советской интеллигенции морально санкционировала самые дурные, самые злопоследственные события последнего десятилетия ушедшего века.
Сегодня они в активной обороне. Обороняют завоеванные позиции. За их спиной «все прогрессивное человечество», потому что это и его позиции тоже…
Но возвращаясь к предложенной, разумеется, весьма условной классификации людей, в силу обстоятельств «выпавших» из пространства советского бытия, напомню о третьей категории – категории «борцов», коим, как уже сказано, присущи были и смелость, и честолюбие, и соответствующие способности, наконец.
С ними просто: уехали, погибли, поумирали. Как это ни парадоксально прозвучит, но те, кого именую борцами, менее всего причастны к реальным событиям, потрясшим страну и государство.
Представьте себе болезнетворный кишечный микроб, не способный спровоцировать даже обыкновенного поноса у огромного животного, умирающего от общего размягчения костей.
Сегодня, спустя два десятилетия, именно «борцы» видятся наибольшими неудачниками, но, разумеется, не в плане личных реализаций. Многие из уехавших (возвратившихся или невозвратившихся, что абсолютно не в счет) там так или иначе состоялись, а некоторые из погибших и умерших почитаемы, хотя и весьма скромным кругом почитателей, что также значимо, ибо свидетельствует о фатальном несовпадении векторов распавшегося по признаку пристрастия к разным и зачастую взаимоисключающим мифоидеологемам общественного сознания с еще более социально-политически рыхлыми амбициями бывших борцов с режимом.








