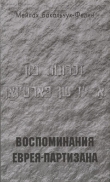Текст книги "Воспоминания еврея-красноармейца"
Автор книги: Леонид Котляр
Соавторы: Павел Полян
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Сначала – о самой комнате в бараке, состоящем из трех блоков, по две комнаты в каждом. Комната почти квадратная; два окна со ставнями со стороны крыльца и одно – с противоположной стороны посредине стены. Перпендикулярно двум другим стенам, отделяющим соседние комнаты, стоят двухэтажные койки, между которыми прикреплена к стене полочка – на двоих, где могли бы лежать, кроме прочего, зубные щетки, которых ни у кого из нас не было. Между двумя рядами полок – длинный стол, занимающий примерно треть длины комнаты. На одной линии со столом в центре комнаты – чугунная печурка с поддувалом, герметичной дверцей и цилиндрической жестяной трубой дымохода, уходящего через крышу-потолок наружу. Еще один стол – двойник первого, расположенный возле стены с двумя окнами. Кроме столов – табуретки, по числу жильцов. Весь блок развернут крыльцом в сторону лагеря, а противоположной стеной – в сторону ограды (поначалу у нас ее не было). Печка предназначалась только для обогрева помещения, но мы умудрялись печь на ней нарезанную ломтиками брюкву и даже варить картошку. Замечу, что в таких же блоках и с такой же мебелью жили и другие иностранцы, привезенные в Германию на работу, но вместо полочек у них перед каждой двухэтажной койкой был шкафчик с дверцами на два отделения, отчего в жилище было потесней.
Вряд ли мне удастся перечислить всех жильцов нашей комнаты, но я попытаюсь.
Саша Алексеев (настоящая фамилия Ткачев) – политработник невысокого ранга. Решительный, прямой, угловатый, душа-человек и надежный друг.
Петя Горшков – брат Сашиной жены (совершенно неожиданная случайная встреча). Мой ровесник. Призван в армию, как и я, по окончании десяти классов. Петя попал в плен осенью 1941 года в составе безоружного взвода – бойцам не выдали оружие из-за отсутствия такового и приказали добыть оружие в бою; подразделение отбивалось от немцев, выдергивая из земли буряки – сахарную свеклу – и швыряя ими в противника. Уравновешенный, рассудительный, интеллигентный, никогда не теряющий чувства юмора – даже в рассказе о свекольной битве с немцами.
Петя Рожков. Мой ровесник, тоже со средним образованием. Открытая душа, любитель выпить и шалопай.
Коля Медведев. Мой ровесник, воронежец. Глуповатый, жадный, нечестный. Однажды съел картошку, оставленную на утро его другом Васей-сибиряком, работавшем в ночную смену в самом вредном цеху с оловянными ваннами.
Вася-сибиряк. Мой ровесник. Полная противоположность своему другу Медведеву, воплощение выдержки и мужества. Но морду Коле за картошку все-таки намылил.
Вася из Чувашии. Добрый, скромный.
Павел Бриллиант. Мой ровесник. Стал моим приятелем, подарил на память фото. Рослый, красивый, интеллигентный. Работал на кухне, где готовили пищу для нас и военнопленных французов, двое из которых трудились вместе с ним и стали его друзьями.
Михаил Виноградов.
Минорин.
Штепа (Шолохов) – политработник высокого ранга.
Все трое – москвичи, попали в плен в Смоленске, но лагеря избежали, были привезены на фирму вместе со смолянами. О них речь впереди.
Саша Козаренко. Мой ровесник. Побывал в плену. Был привезен из дому (город Вознесенск), захватил с собой баян, которым владел изрядно. Заядлый рыбак; ему очень шла капитанская фуражка с «крабом», вошедшая в моду после фильма «Аристократы» – в ней ходил герой фильма Костя-капитан. Саше досталась очень тяжелая работа на Верк-II: на массивных железных плитах точными ударами кувалды выравнивать после сварки металлические каркасы рам для больших радиаторов. На первых порах его обучал этому делавший ту же работу немец – бывший врач и коммунист, который сидел в концлагере, письменно отрекся там от своей партии, после чего был отпущен, но лишен врачебных прав и помещен на исправительные работы молотобойца без права сменить занятие. Саша получал на заводе дополнительный паек – молоко и маргарин.
Игнат и Егорка – земляки из средней полосы России. Егорка – мой ровесник, Игнат лет на десять старше. Добрые, общительные, верные и надежные.
Грузин (или осетин?) Псикалов.
Леня по прозвищу Моряк (и в морской форме). Очень порядочный человек. Замкнутый.
Федя Цыганков. Столяр и плотник – профессионал, лет более тридцати, из Курской области. Небольшой, худющий, горбоносый, на вид – стопроцентный еврей, его так и называли: Федя-жидок.
Петр Селивестров и Григорий Атаманчук – донские казаки. Селивестров – балагур, высокий худой; Атаманчук – полная ему противоположность. Оба – не разлей вода, как мы с Иваном.
Еще один Вася – начальник почты, отсидевший срок за преступление по службе.
Его приятель Иван. Мой ровесник. Молчун. Неглупый, рослый, хорошо сложенный красавчик, потенциальный ловелас.
Андрей Михайлец. Лет сорока. После раскулачивания стал жителем Средней Азии (город Чарджоу). Отец двух дочерей на выданье, только о них и думал, и говорил, а больше помалкивал. Койка его была рядом с моей, только внизу.
Киевлянин Женя. Авиамеханик. Скромный, добродушный, интеллигентный. Море симпатии.
Щербина. Мой ровесник. Дезертир, пересидевший призыв и войну в кукурузе. Приехал из дому. Голодал до посинения, даже слегка опух, но купил себе за 90 марок костюм у поляков в лагере через дорогу от нашего; костюм был бутылочного цвета, не новый, но вполне приличный.
И еще деревенский мальчишка семнадцати лет (имени не помню). Приехал добровольно, очень об этом пожалел, но другу домой на Украину писал, что в Германии хорошо, и советовал приехать, а нам говорил: «Пусть тоже попробует, не мне же одному мучиться!»
Кажется, я все-таки перечислил всех: двухэтажных коек в комнате было тринадцать.
Самыми образованными из нас были инженеры Виноградов и Минерин и политработник Штепа (оказавшийся впоследствии Шолоховым) – троица, привезенная в Германию со Смоленщины раньше нас. Они жили маленькой сплоченной коммуной, пользовались у нас непререкаемым авторитетом, хорошо играли на струнных музыкальных инструментах и составляли довольно слаженное трио: гитара, мандолина, балалайка. Лучше всего им удавался жанр городского романса. Получались у них и народные песни. Особенно нравился мне в их исполнении романс «Умер бедняга в больнице военной». Раньше я его никогда не слышал, и запомнился он мне, видимо, потому, что как нельзя лучше соответствовал моему тогдашнему настроению.
Знатоком немецкого языка в нашей комнате был Виноградов. Он свободно читал немецкие газеты и часто приносил в барак «Штутгартер цайтунг» или «Фолькишер беобахтер». Если делать поправку на трюки пропаганды, из этих газет можно было получить приблизительное представление о том, что происходит на фронтах.
Получали мы в лагере (бесплатно) раз в неделю газетку на русском языке. В ней с большим опозданием тоже помещались краткие сообщения с фронтов, много антисемитских публикаций, а также антисоветских и антикоммунистических. Мне запомнилось, как эта газетка отреагировала на введение в Красной Армии погонов. На карикатуре был изображен генерал в мундире с генеральскими погонами и с ярко выраженной еврейской внешностью, любующийся своим отражением в зеркале. Надпись гласила: «Циперович в новых погонах». Сталинские репрессии давали, к сожалению, весьма обширный, а главное, правдивый материал для этой газеты. Невозможно было не верить приводившимся фактам, поражавшим своей жестокостью и бессмысленной несправедливостью. Смысл таких публикаций сводился к тому, что уж кому-кому, а советским военнопленным и остарбайтерам незачем желать победы Красной Армии, если они не хотят остаток жизни гнить в советском ГУЛАГе или быть замученными в застенках НКВД. Но все равно я с нетерпением ждал победы над нацистами. Хоть краем глаза хотелось увидеть день расплаты за их злодеяния.
Особенно усилилась антисоветская тема в газетке после разгрома немцев на Курской дуге. Тогда же усилилась вербовка во Власовскую армию, называемую РОА (Российская освободительная армия). А мы во власовцы не шли (хотя власовцев хорошо кормили) и старались выжить в тяжелых условиях немецкого рабства.
Вторая волна вербовки в РОА советских военнопленных и остарбайтеров началась летом 1944 года. Одну из таких вербовок я наблюдал в одно из воскресений в нашем лагере. Вербовщиков было трое: майор-летчик, капитан и старший сержант. Все они были в соответствующей форме воинов Красной Армии (видимо, в обмундировании, в котором попали в плен), при боевых наградах, которые они успели заслужить еще до плена, в надраенных до блеска сапогах, свежевыстиранных и отглаженных гимнастерках и шароварах.
Они ходили по комнатам, беседовали с нами, сидя на наших табуретах, рассказывали, почему решили служить в армии генерала Власова (излагали «политическую» сторону вопроса), не забывали сказать, что обеспечивают их всем необходимым наравне с немецкими солдатами и офицерами.
Затем последовало общее построение всех остарбайтеров мужского пола (по большей части бывших военнопленных). Нам объяснили, что мы не нарушим присягу, если поступим в армию Власова, так как Сталин давно от нас отказался и объявил предателями. А потом тем, кто решил поступить в РОА, предложили сделать два шага вперед. Из строя вышли только два человека: Николай Медведев из нашей комнаты (нарушивший тем самым присягу) и мальчишка лет семнадцати, увезенный немцами из Полтавской области при отступлении. Поступок этот был продиктован желанием избежать существования впроголодь.
Не хватало только шпагиНебольшую возможность давал нам в этом плане овощной ларек, располагавшийся по дороге на Верк-I у железнодорожной насыпи. Ларек открывался рано утром, когда мы шли на завод. Вахман разрешал нам оставлять в ларьке мешочки с привязанной к каждому из них немецкой маркой. У нас в строю был свой переводчик Ваня Ховренков, деревенский девятиклассник из-под Смоленска, хорошо выучивший немецкий язык в школе. Он бегом относил по утрам мешочки, а вечером владельцы мешочков получали заказанные восемь килограммов картошки. Картошку заказывали не часто, не хватало денег.
Кто-то разведал, что по субботам в одном из магазинов в Штутгарт-Фейербах иногда продается без карточек кровяная колбаса (она мало напоминала нашу украинскую кровянку, но все-таки была подобием колбасы). По субботам мы работали до полудня, и если вахман разрешал, два-три человека, покинув строй, отлучались за этой колбасой. А то и наведывались в центр Штутгарта, где иногда тоже удавалось раздобыть что-нибудь из продовольствия. Правда, возвращение в лагерь самостоятельно, вне строя, было делом рискованным, не всегда осуществимым. Но постоянный голод толкал на риск. Оказавшись в городе, можно было, если повезет, раздобыть и «брот-марки» – талончики на хлеб (брот), вырезанные из продуктовых карточек. Каждый талончик был не больше почтовой марки, и по этому талону в хлебном магазине можно было за 33 пфеннига купить полукилограммовую буханку отличного серого хлеба, слегка напоминающего нынешний украинский хлеб в Киеве, но гораздо лучшего качества. Любопытно, что качество хлеба, который по всей Германии выпекался в небольших пекарнях-магазинах и продавался их владельцами, везде было отличное, а буханки похожи одна на другую, как близнецы, без единого изъяна. Брот-марки продавали исподтишка сербы, поляки, болгары и другие иностранные рабочие по цене от пяти до десяти марок. Итак, при наличии денег и некотором везении иногда удавалось в воскресенье полакомиться вареной картошкой с кровяной колбасой и настоящим пшеничным хлебом. Тот, кто отваживался добраться до центра Штутгарта, мог в случае удачи зайти в помещение крытого рынка, единственного в городе, и поесть овощного супу за 20 пфеннигов или купить двухсотграммовый пакетик форшмака из ржавой селедки крутого посола, который тоже был для нас редким и желанным лакомством. Но для поездки в центр на трамвае нужна была мало-мальски сносная гражданская одежда, а не синяя спецовка со знаком «ОСТ», а кроме того, – умение перекинуться несколькими немецкими словами с торговцами на рынке, чтобы сойти за какого-нибудь иностранного рабочего, но не из Советского Союза, поскольку остарбайтерам категорически запрещалось самовольно покидать свои лагеря.
А гражданскую одежду можно было раздобыть на одной из окраин Штутгарта, где полулегально собиралась по воскресеньям толкучка. Там, в тупике под железнодорожным виадуком, толпилась многочисленная и разноязыкая толпа продавцов и покупателей подержанной обуви и одежды. Я посещал этот рынок вместе с Иваном в 1944 году не более двух раз. (Однажды, возвращаясь оттуда, мы даже попали на представление цирка-шапито – зрелище во всех отношениях убогое.)
Изворотливый и предприимчивый человек, не боявшийся рисковать и использовавший периодические послабления лагерного режима, мог извлекать немалую пользу из воскресных посещений центра города и вещевой толкучки. Таким человеком оказался Иван Доронин, за короткое время наживший хромовые сапоги, почти новенький кофейного цвета костюм, демисезонное пальто грубой шерсти, кожаные перчатки, гитару, две простыни и наволочку. Это было колоссальное богатство. Каким образом все эти предметы роскоши достались Ивану, он держал в секрете даже от меня, а я ни о чем не расспрашивал. Под гитару мы иногда пели с ним романсы и блатные песни, а костюм и перчатки запечатлены вместе с Иваном и трогательной надписью, сделанной им, на фотокарточке 9х12 до сих пор хранящейся у меня.
Вскоре и я обзавелся кое-какой одежонкой. Способствовало этому приближение весны, которая в Штутгарте наступает уже в конце февраля. Мы стали очень дешевой рабочей силой для местных жителей, владевших небольшими земельными участками в черте города. Работали мы за кусок хлеба, за тарелку супу. Получить такую работу считалось большой удачей. Мне тоже повезло: я напросился на работу у старого Езефа, работавшего по соседству с нашей слесарной мастерской в смежном помещении за деревянной перегородкой. Он снабжал заводские цеха газом, необходимым для пайки радиаторов и других работ. Газ производился тут же из карбида и подавался по трубам в цеха. Жил Езеф на противоположном конце города и добирался на работу двумя трамваями. В один из весенних субботних дней сразу после работы он повез меня к себе домой. На мне была спецовка со знаком «ОСТ», но в сопровождении немца это не помешало мне пересечь на трамваях весь город. Возвращался я в поношенном, но чистом грубошерстном пиджаке и в светло-серых в елочку широких брюках с манжетами, которые, в общем-то, полагалось застегивать над щиколоткой напуском на носки-гольфы или краги. Я же, за неимением ни того ни другого, надел их, как обычные брюки, застегнув манжеты у самых косточек. Пошел дождик, и Езеф снабдил меня старым прорезиненным плащом-накидкой и широкополой фетровой шляпой. Когда я в таком живописном наряде, благополучно завершив свой путь по вечернему городу и через лагерный забор, предстал перед своими товарищами по комнате, они чуть не лишились дара речи, а затем разразились гомерическим смехом. В моем наряде не хватало только шпаги. И все-таки смех был вызван скорее неожиданностью зрелища, поскольку экстравагантность нашей случайно добытой одежды никого не удивляла. У Езефа меня накормили, и это было достаточной платой за работу. Остальное следовало отнести на счет благотворительности его симпатичной и доброй жены, которая рассказала мне об их единственном сыне – солдате, который был все еще жив только потому, как она полагала, что не попал на Восточный фронт.
Уже зимой 1943 года наш лагерь был обнесен высоким деревянным забором, секции которого состояли из реек, образующих ромбообразные клетки-решетку, облегчавшую его преодоление. Поверх забора была натянута в два ряда проволока, обычная, не колючая, преодоление затруднявшая. Перелезть через забор, хоть и высокий, было сравнительно легко, но сделать это быстро не удавалось, а очень хотелось, потому что охрана держала забор под контролем: могла появиться в любую минуту и выстрелить без предупреждения.
Серые брюки в елочку с манжетами под гольфы я носить не стал, а променял – с доплатой – на туфли, которые носил до самой репатриации, периодически ремонтируя их собственноручно у нас в мастерской (немцы не возражали).
Иногда режим в лагере резко ужесточался безо всякой видимой причины. Тогда свободный вход и выход разрешали только по воскресеньям, а то и вовсе запрещали. А в бараках устраивались бесконечные проверки.
А ослабление режима наступало, как правило, после сильных бомбежек авиацией союзников. На немецкую землю надвигалось возмездие.
ВозмездиеЗначительное ослабление режима наступило после поражения немцев на Курской дуге.
Тогда же Езеф зазвал меня к себе в свои газовые чертоги, тщательно проверил, нет ли кого поблизости, и спросил, будут ли русские, когда придут в Штутгарт, отправлять немцев в Сибирь. Я выразил сомнение в том, что наши войска могут оказаться на юго-западе Германии, но Езеф в этом ни минуты не сомневался, и его волновал лишь вопрос возмездия, которое неминуемо падет на головы всех немцев, а значит, и на его седую голову. Я не считал, что возмездие ожидает всех немцев, и тем более, что все они окажутся в Сибири, и пытался успокоить его на этот счет, но по его глазам видел, что мне это почти не удалось.
Зимой 1943–1944 годов я с удовольствием наблюдал, как теряют душевное равновесие немцы. Линия Восточного фронта была еще где-то там, далеко, а до высадки союзников в Нормандии оставалось еще полгода, но поражение неуклонно приближалось к рубежам Германии. Обещания Геббельса, что русским никогда не одолеть Восточного вала, воздвигаемого немцами вдоль Днепра, не сбылись. Воздушные налеты англичан и американцев участились и становились все более беспощадными. Все чаще завывали по ночам сирены воздушной тревоги и громыхали зенитки. По ночам, разбуженные воем сирен, самые слабонервные вскакивали с постелей и убегали из лагеря. Лагерные власти им препятствий не чинили. Но Штутгарт оставался до времени нетронутым.
Мы с Иваном не покидали своих постелей, хотя и не спали, вслушиваясь в темноту за стенами барака. Когда грохот становился внушительным, кто-нибудь из нас выскакивал на крыльцо поглядеть, что происходит в небе и вокруг. Для нас этот вой и грохот звучал подобно музыке, и я с удовольствием прислушивался к глухому рокоту пролетавших над нами воздушных армад, нетерпеливо ожидая того часа, когда их удары обрушатся на Штутгарт.
Наконец, налет осенней ночью 1943 года [20]20
По всей видимости, имеется в виду налет британской авиации 8.10.1943 г. Начался в первом часу ночи и продолжился в течение 50 минут. Унес 104 жизни.
[Закрыть]поднял-таки с постелей всех. Мы долежались до того, что стали ходуном ходить стены и наши двухэтажные деревянные койки. Когда мы, наскоро одевшись, выбежали из тьмы барака, два соседних блока уже пылали. Великолепными разноцветными фонтанами огня играли зажигательные бомбы, похожие на огромные граненые карандаши. Расчлененный на секции лагерный забор лежал на земле. А совсем недалеко одна за другой, сотрясая воздух, рвались бомбы. «А ты не трус, Леня», – сказал Иван, когда мы углубились в лес, в противоположную от рвущихся бомб сторону. Я рассмеялся в ответ, потому что те же самые слова в адрес Ивана готовы были сорваться и у меня с языка. Я понимал, что Иван подозревал во мне труса, после того как я отказывался от его планов бегства.
В ту осеннюю ночь основательно пострадал Штутгарт-Фейербах. А в начале 1944 года авиация союзников нанесла такой удар по городу, что утром полнеба до самого горизонта было закрыто густым черным дымом. [21]21
Имеется в виду более чем часовой налет на Фейербах и Бад-Канштадт, состоявшийся 21 февраля 1944 и унесший жизни 160 чел. Начался в 3.57 и закончился в 5.09. В налете участвовало около 1000 бомбардировщиков
[Закрыть]На нашем Верк-I как ветром сдуло большой одноэтажный цех, а наш восстановленный после предыдущей бомбежки лагерный забор оказался по ту сторону асфальтовой дороги, у края леса. Но был он отнесен не взрывной волной, а руками остарбайтеров. И много дней никто не принимался за восстановление забора, что было совсем не похоже на немцев.
С этим налетом совпало резкое похолодание. Температура опустилась до -6º, выпал снег. Такого при нас в Штутгарте еще не бывало. Снег с морозом стал дополнительным бедствием в разбомбленном городе.
Когда рассвело, всех, кто был на заводе, заставили разбирать останки искореженного, сметенного взрывной волной цеха. На холодном ветру, под снегопадом работать было неуютно, но душу согревал вид застилающей полнеба завесы дыма над Штутгартом а также горячий эрзац-кофе, которым угощали нас наравне с немцами. Это было нечто невиданное: немка у всех на глазах раздает кофе в бумажных стаканчиках иностранным рабочим и военнопленным французам!
От этой бомбежки больше всего досталось жилым кварталам, хотя пострадали и промышленные предприятия. Излюбленным приемом бомбежек союзников был метод квадратов, или «ковра». Бомбардировщики прилетали мощными армадами, по двести-триста самолетов, и с большой высоты, недосягаемой для зенитного огня, высыпали свои бомбы над определенным квадратом города, так что там практически ничего не оставалось. А чтобы затруднить спасательные и другие работы, сбрасывали десяток-другой бомб замедленного действия, которые взрывались неожиданно, по одной, через несколько часов или несколько суток.
Бомбежки стали подлинным кошмаром Германии. Немецкие газеты называли американских летчиков не иначе как гангстерами, бомбящими не военные объекты, а лишающими жизни и крова мирное, ни в чем не повинное гражданское население. При этом геббельсовская пропаганда, видимо, подразумевала, что массовое уничтожение ни в чем не повинных людей является исключительной привилегией немецкого вермахта и гестаповских людоедов в концлагерях, покрывших густой сетью Германию, Австрию и Польшу.
С весны 44-го года сирены воздушной тревоги завывали днем и ночью, по несколько раз в сутки, предприятия прекращали работу, весь персонал уходил в бомбоубежища. На всех предприятиях дежурили по ночам команды противовоздушной обороны, а у нас, на Верк-I, им в помощь на субботу и воскресенье назначалось по десять остарбайтеров, так как немцев для дежурств просто не хватало. Дежурить нам приходилось примерно раз в месяц. Для нас отвели большую, смежную с заводской проходной комнату. Приятно было ночевать вне лагеря, и просыпаться в понедельник на работу можно было значительно позже.
Раза два, когда наши дежурства совпадали, я встречал там своего «шефа» Глязера. Он являлся на дежурство, как на праздник, в лучшем своем костюме-тройке, темно-сером, в едва заметную полоску. В зубах у него была большая сигара (по будням он курил дешевые сигареты), а на животе поблескивала золотая цепочка карманных часов. У этого рабочего человека с умелыми мозолистами руками, в совершенстве владевшего специальностями слесаря, кровельщика, жестянщика, сантехника, сварщика, кузнеца, человека неглупого, наделенного чувством юмора, была забавная слабость: он любил изобразить из себя этакого богатого господина с дорогими запонками, золотыми часами, пускающего в потолок кольца пахучего сигарного дыма.
После новогоднего налета американцы не бомбили Штутгарт до самого лета. Нам нередко приходилось наблюдать серебрящиеся высоко в небе, словно стаи рыбок в аквариуме, плывущие в недосягаемости зенитных разрывов воздушные армады. И каждый раз новые населенные пункты принимали на себя их уничтожающие удары.
Весной нас перевели в небольшой лагерь, построенный специально для своих остарбайтеров фирмой «Юлиус Фридрих Бер» недалеко от Верк-II. Для нас это было радостное событие, лучше любого праздника; его можно было бы назвать «Избавление» – от клопов (а еще – от издевательств и мордобоя лагерфюрера Майера)! Клопы появились в наших блоках лагеря «Шлетвизе» весной 1943 года. Барак был деревянным, и клопов становилось все больше и больше, они были настоящим кошмаром. Летом администрация провела дезинфекцию, отселив нас на сутки (суббота – воскресенье) на территорию Верк-II, где организовала для нас баню и химическую обработку нашей одежды и всех личных вещей. Блоки барака заполнили густым едким синим дымом, остатки которого еще неделю раздражали наши носоглотки. [22]22
Весьма вероятно, что для дезинфекции использовался газ-инсектицид «Циклон А». Его разновидностью, газом «Циклон Б», умерщвляли людей в газовых камерах Аушвица-Биркенау.
[Закрыть]Дезинфекция помогла, но совсем ненадолго.
В новом лагере бараки были шлакоблочными, чуть поприземистей, без крылечек, оштукатуренные и побеленные изнутри известью. Во всем прочем комнаты ничем не отличались от покинутых нами. Лагерь состоял из трех барачных блоков для рабочих и пищеблока, был компактным, обнесен проволочной сеткой с двумя выходами на разные улицы. Выходы охрана не закрывала. Покидать лагерь запрещалось только с вечера до утра. Рядом с пищеблоком возле забора было устроено подобие летней кухни под открытым небом, где на кирпичном основании с незакрывающимися отверстиями для топок были уложены чугунные плиты с конфорками. Такая печь вполне устраивала тех, у кого изредка появлялась возможность что-либо приготовить для себя сверх скудного ежедневного рациона.
Теперь нам разрешали ходить на работу вне строя. Тем не менее никто не опаздывал, хотя никто и не предупреждал нас и не напоминал об этом.
Вместе с нами в лагере поселили человек около сорока поляков, мужчин и женщин, привезенных в Германию из Варшавы после подавления знаменитого восстания. Поляки возмущались невмешательством Сталина, позволившего немцам утопить в крови и сжечь город, под стенами которого за рекой стояли советские войска.
Неподалеку от лагеря немцы строили новое бомбоубежище, зарываясь в семидесятиметровую горку тремя параллельными штольнями. Горка была сплошь покрыта небольшими садами-виноградниками, обнесенными такими же сетками-заборами, как и наш небольшой лагерь. К концу лета штольни уже соединялись коридором, вдоль которого тянулись длинные деревянные скамейки. Коридор неярко освещался электричеством. Во время ночных налетов нам разрешалось пользоваться этим еще недостроенным бомбоубежищем.
А в одну из июньских ночей произошел последний налет на Штутгарт, самый мощный. [23]23
В июне налетов на Штутгарт не было. По всей видимости, в виду имеется сложносоставной налет на центр города почти 2000 самолетов, состоявшийся 25–29 июля 1944. Число жертв этого налета приближалось к 10000 чел. Бомбардировки Штутгарта продолжались до апреля 1945. ( http://www.von-zeit-zu-zeit.de/index.php?template=bericht&media_id= 1133).
[Закрыть]Все началось с подвешенных самолетами осветительных бомб и пылающих в воздухе разными цветами фосфорных пластинок. Самолеты оказались над городом, когда еще не смолкли сирены воздушной тревоги, а жители не успели укрыться в бомбоубежищах. Особенно сильно досталось центральным районам города, которые превратились в сплошные руины, похоронившие под собой не менее десяти тысяч жителей. Город рушился и полыхал, а с неба градом сыпались все новые и новые бомбы.
Все это ужасающе-грандиозное зрелище я наблюдал с территории нашего лагеря. В районе лагеря взорвалось десятка два бомб, были пробиты и взорваны проходящие под уличной мостовой канализационные тоннели. Земля уходила из-под ног, мне жутковато было стоять на открытом пространстве, озаренном, как днем, среди сотрясающих землю и воздух мощных взрывов. С любой точки зрения то, чем я был занят в этот момент, стоя у лагерных ворот, не делало чести ни моему благоразумию, ни здравому смыслу. В бараках оставались считаные люди, кто хотел, давно уже укрылся в бомбоубежище.
Я весь оказался во власти эмоций: грудь мою распирала волна радости, подавившая все соображения, чувства и страхи. Конечно, с трехкилометрового расстояния я не мог видеть ни рушащихся кварталов в центре города, ни улиц, ни людей. Я мог только догадываться о масштабах разрушений и пожаров по величине и силе зарева, стоявшего над городом, и по мощности сотрясавших землю взрывов. О десяти тысячах погибших я узнал только утром, на заводе.
Я не испытывал тотальной ненависти к немцам, не жаждал их крови или поголовного истребления всех немцев в ответ на гитлеровское «окончательное решение еврейского вопроса». Я не смог бы на полном ходу врезаться на танке в немецкий домик, не мог бы и пальцем тронуть немецкого ребенка, даже из тех, кто бросал в нас камешками, когда наша оскорбляющая эстетическое чувство колонна двигалась по городу после работы. Дети оставались для меня просто детьми, достойными и любви, и жалости.
Но во мне было достаточно ожесточения и ненависти, чтобы пристрелить, не колеблясь, лагерфюрера Майера или эсэсовца Освальда, имевшего на заводе свой кабинет и курировавшего все вопросы, касающиеся военнопленных и восточных рабочих, или некоторых других «сверхчеловеков», которых я уже не мог воспринимать как представителей рода человеческого. А число гибнущих на войне немцев я не воспринимал сердцем, но лишь как положительный показатель статистики.
Почему мою грудь распирало чувство удовлетворения, когда пылали и рушились немецкие города, отчего не сжималось сердце жалостью, когда я узнавал о гибели тысяч жителей этих городов? Видимо, потому, что в первую очередь во мне торжествовало чувство справедливого возмездия. Я полагал, что только так можно выбить из миллионов оболваненных и опьяненных угаром легких побед голов убежденность о правомерности войны, о праве высшей расы на господство в мире людей, о необходимости завоевания жизненного пространства, о жестокости и бесчеловечности по отношению к другим народам. Эти миллионы одурманенных преступной моралью голов должны были испытать на себе весь ужас войны, всю ее трагичность и недопустимость, бессмысленность и бесчеловечность, чтобы раз и навсегда отказаться от мысли о ее полезности или необходимости, от представления, что в ней нет ничего, с чем не могла бы мириться их совесть. Эти ковровые бомбежки как бы говорили каждому немцу: ты хотел войны – так получи ее на свою голову во всем ее великолепии и блеске.
А военных, пользовавшихся тактикой ковра, пожалуй, лишь в последнюю очередь занимали вопросы возмездия. Им важно было с наименьшими для себя потерями поставить немцев на колени, заставить их психологически капитулировать еще до того, как капитулирует военно-политическая система нацистского государства.
Американцев не очень-то волновали соображения справедливости. Мы убедились в этом впоследствии, когда наблюдали, как вела себя их военная администрация на оккупированной территории. В плену оказывались только немецкие солдаты и офицеры (да и то не все), а всевозможные фюреры, ляйтеры, эсэсовцы, гестаповцы, мучившие и убивавшие, душившие и сжигавшие, разгуливали на свободе или прятались где-нибудь в неразбомбленных живописных уголках Германии, убрав подальше от людских глаз свои черные и коричневые мундиры со свастиками на рукавах и человеческими черепами в петлицах и на кокардах. Они боялись попадаться на глаза не чинам военной оккупационной администрации, а своим вчерашним жертвам, хорошо знавшим их подлинное звериное лицо. Они боялись нас, получивших свободу и еще не успевших покинуть Германию, тех, кто жаждал справедливого возмездия, и не «рано или поздно», а сегодня, сейчас!
Наиболее нетерпеливые и горячие головы организовали нечто вроде летучего отряда мстителей, выносивших смертный приговор тому или иному из лагерных эсэсовцев и приводивших его в исполнение. Подобные действия оккупационные власти никак не поощряли, и мстителям надо было проявлять максимум осмотрительности и изобретательности, чтобы себя не обнаружить.