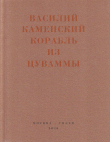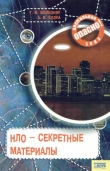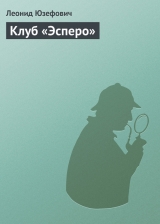
Текст книги "Клуб «Эсперо»"
Автор книги: Леонид Юзефович
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 9 страниц)
10
Дома было пусто, тихо – Петька гонял с ребятами во дворе, сын с невесткой еще не пришли с работы.
Сын родился поздно, через четыре года после свадьбы, и Надя придумала ему звучное иностранное имя, казавшееся тогда чуть ли не революционным – Адольф. Осторожные опасения Вадима Аркадьевича оставлены без внимания. За это имя сын принял в детстве много мучений: и дразнили его, и били, и свастику на ранце рисовали; в конце концов он превратился в Анатолия, успел повоевать два месяца, но так и вырос человеком замкнутым, обиженным раз и на всю жизнь. Вадим Аркадьевич, с юности отлично знавший, что имя – это судьба, всегда чувствовал свою вину перед сыном, и теперь это чувство вины обернулось отчуждением – как-то не о чем и незачем стало разговаривать.
До пяти он еще подремал у себя в комнате, затем решил, что пора идти в гостиницу. Накинул плащ, с раздражением швырнул велюровую шляпу, подаренную на день рождения невесткой, надел свою старую кепку, которую та считала плебейским головным убором, и вышел на улицу. До «Спутника» было четыре остановки на трамвае. Три из них он проехал, а четвертую прошел пешком, чтобы собраться с мыслями, приготовиться к разговору, но все мысли разбежались, осталась одна: как будет объяснять швейцару, зачем ему, Вадиму Аркадьевичу Кабакову, нужно в триста четвертый номер? Вдруг не пропустит? И вдруг, что самое ужасное, Семченко его не вспомнит и не захочет позвонить администратору, чтобы выписали пропуск? Знать не знаю, скажет, никаких Кабаковых… И как быть? Но швейцар ни о чем его не спросил.
В триста четвертом номере дверь была заперта, на стук никто не отозвался; Вадим Аркадьевич спустился на улицу, с полчаса, наверное, постоял у входа, на ветру, затем поехал домой.
Такая была догадка: это Линев затеял опасную игру, подвел Семченко под монастырь, и из редакции Вадим отправился не домой, а на другой конец города, на Заимку – там, неподалеку от вокзала и университета, находилась контора железной дороги, где на какой-то невидной канцелярской должности служил председатель клуба «Эсперо». Определенного плана действий не было, просто хотелось последить за ним. Глядишь, и обнаружится что-нибудь подозрительное.
Ровно в пять часов тот вместе с другими служащими вышел из конторы, но вскоре отделился от них и двинулся в сторону университета. Вадим пристроился у него за спиной, шагах в пятнадцати, миновали главный корпус, обогнали группу студентов, которые с пилами и топорами вразвалочку тянулись к реке – заготовлять, видимо, дрова на берегу.
– Сам пилю, сам колю, сам и печку затоплю! – призывно и громко, с расчетом на прохожих, пел шедший впереди парнишка, не имевший, впрочем, ни пилы, ни топора.
Начальник, подумал Вадим и, проходя мимо, слегка толкнул его плечом.
Возле одного из университетских флигелей, стоял доктор Сикорский. Несмотря на жару, был он в черном, на все пуговицы застегнутом пиджаке, в шляпе, и держался так, словно аршин проглотил – прямой, узколицый, бледный, с большими отечными подглазьями. Они с Линевым пожали друг другу руки и дальше пошли вместе.
Григорий Иосифович Сикорский заведовал в университете анатомическим музеем. Недели три назад по заданию Семченко Вадим ходил туда с экскурсией буртымских кооператоров, чтобы после написать заметку, и самым ярким воспоминанием, которое он вынес из этой экскурсии, был заспиртованный в особый колбе мозг профессора Геркеля, первого декана медицинского факультета. Сикорский подробно рассказывал о научных и административных заслугах профессора, перечислял его титулы и звания, полученные исключительно благодаря серому рубчатому сгустку в колбе, его величине, весу и количеству извилин, однако на Вадима профессорский мозг произвел тягостное впечатление, поскольку наводил на размышления как раз о тщете всех этих заслуг и титулов. Даже в конце концов сделалось дурно, и какая-то сердобольная кооператорша отпаивала его в коридоре водой, приговаривая: «Профессора! Только детей стращать!»
Иногда Сикорский приносил в редакцию заметки на санитарно-гигиенические темы, при чтении которых сразу становилось понятно, почему у него всегда такое скорбно-брезгливое выражение лица.
Возле Ботанического сада сидела на перевернутом ящике торговка квасом. Линев купил у нее два стакана, предложил один Сикорскому, но тот помотал головой. Линев тут же, не отрываясь, выпил его стакан, а со своим, подхватив Сикорского под руку, отошел в тень к деревьям, и там начал пить уже мелкими глоточками. Сикорский, откинув обычную свою чопорность, в чем-то горячо убеждал его; Вадим решил, что про венерические болезни объясняет, велит квасу не пить, но когда подкрался за штакетником ближе, услышал совсем другое, к гигиене отношения не имеющее.
– Посмотрим правде в глаза, – говорил Сикорский, – и честно признаемся хотя бы друг перед другом: эсперанто не выполнил своей миссии. И не выполнит! Уже на его основе появились новые языки, вы же знаете. Федор Чешихин создал «Непо», де Бофрон – «Идо». И мы уже боремся с Чешихиным, с де Бофроном. Война идет не на жизнь, а на смерть. Что же получается, Игнатий Федорович? То, что должно было объединить людей, их разделяет. Пускай по-другому, но разделяет же! И скорее француз договорится с англичанином и русским, чем эсперантист с идистом. И теперь я понимаю, что так и должно быть. Увы, единство невозможно! Как ни горько это сознавать, но единообразие противно человеческой природе, мы бессильны…
– Чешихин! – пустым стаканом отмахнулся Линев. – Де Бофрон! Это отступники, и мы раздавим их не сегодня, так завтра.
– Вот-вот! – закричал Сикорский. – Раздавим! Ведь мы-то с вами остались прежними, хотя и знаем эсперанто. Еретик нам кажется опаснее, чем иноверец, и я этого не потерплю! Слышите, Игнатий Федорович? Не потерплю…
Линев слушал его спокойно, улыбался покровительственно, словно не в первый раз приходилось ему выслушивать похожие речи, и потягивал квасок с таким острым блаженством на лице, какое в подобных случаях редко можно заметить у пожилых людей, только у мальчишек. И тоже захотелось квасу – невыносимо, до головокружения. Линев и Сикорский медленно пошли дальше по улице, а Вадим подскочил к торговке. Способность что-либо соображать вернулась к нему после четвертого стакана, и когда она вернулась, оба эсперантиста уже исчезли из виду. Вадим сунулся в одну сторону, в другую и уныло побрел домой, хотя честно собирался следить за Линевым до вечера и, может быть, даже ночью.
Дома, у калитки, прибит был фанерный почтовый ящик. Почему вдруг захотелось в него заглянуть, Вадим и сам не знал – будто под локоть толкнули. Заглянул и увидел на дне белую полоску. Сразу не по себе стало: кто ему будет писать и зачем? Последний раз письмо пришло год назад, после смерти отца – сестра написала из Казани, что осенью на могилу приедет, да так и не приехала.
Вадим отодвинул планку, посыпалась какая-то труха, и вместе с ней порхнул сложенный вдвое листок без конверта – значит, прямо в ящик и опустили. Письмо отстукано было на машинке, вверху заголовок прописными буквами: «ФЛОРИНО СЧАСТЬЕ».
Ниже:
«Счастье пришло ко мне, и я спешу передать его вам, чтобы не прервалась цепь Счастья. Эта переписка началась в 1900 году ученым философом Флориным. Она должна обойти вокруг света шесть раз, тогда на всей Земле воцарится Счастье. Кто прервет переписку, будет несчастлив. Это пророчество сбывается с тех пор, как началась переписка. Обратите внимание на третий день после получения письма: вас ждет Счастье. Загадайте желание, и оно сбудется через три дня на четвертый. Перепишите это письмо два раза и вместе с ним самим передайте или пошлите трем людям, которым вы всей душой желаете Добра и Счастья».
Вадим перечитал письмо и вспомнил: что-то похожее рассказывал года три назад Генька Ходырев, сосед. Положишь будто в конверт рубль бумажный, отошлешь по секретному адресу, за который Генька требовал уплатить еще целковый, а там тоже человек отошлет куда-то, и вскоре выйдет почему-то, что вместо одного рубля получишь десять. Рубль-то еще может назад вернуться, такую возможность Вадим допускал, но откуда возьмутся остальные деньги?
И от невсамделишного этого письма вдруг охватила тоска по настоящему. Никому он не нужен, никто ему не напишет. Вот и крыша прохудилась, и палисадник зарос травой, лишь алеет у забора сам собой выросший марьин корень – бог весть какая вода на киселе тем цветам, что когда-то сажала мать.
А через улицу, в палисаднике Ходыревых, цвели аккуратными рядами высаженные астры и георгины.
Сжимая в руке письмо, Вадим поднялся на крыльцо и заметил, что дверь открыта. Это уж и вовсе было странно. Пошарил под рогожкой, куда, чтобы не потерять, клал обычно ключ, уходя из дому, – ключа не было. Он осторожно пробрался через сени, потянул дверь в комнату и увидел Семченко – тот лежал на кровати прямо в сапогах, одна нога просунута сквозь прутья спинки, другая на одеяле.
– Николай Семенович! – Вадим тронул его за плечо.
Семченко заскрипел зубами во сне, потом резко приподнялся на локтях:
– А, это ты…
И снова лег.
11
Пока гуляли по городу, Майя Антоновна все допытывалась, как и почему он увлекся эсперанто. Семченко про госпиталь говорил, про доктора Сикорского, про революцию в Венгрии и Баварии, когда казалось, что и мировая-то вот-вот грянет, и душа уже была готова, разрывалась от ожидания, но Майя Антоновна с детской педантичностью требовала от него последней, окончательной ясности.
– И все-таки, – приставала она, – что стояло у вас на первом месте? Международная обстановка или внутреннее побуждение?
И тогда он рассказал про своего отца.
Отец, слесарь паровозного депо, был толстовец: мяса не ел и жене с детишками лишь по праздникам разрешал побаловаться холодцом или пельменями. Сапог не носил. Поскольку сапоги и ботинки шьются из кожи убитых животных, он круглый год ходил в лаптях или в катанках. И это в Кунгуре-то, где каждый второй – сапожник! Иконы из горницы вынесены были в холодную комнату, на божнице вместо них поставлен был портрет Льва Толстого в раме из соснового корья, причем отец, мастер на все руки, рамой этой гордился, как никакой другой из своих многочисленных поделок. И тоже были разговоры о справедливости и братстве народов и людей, и какие-то брошюрки, в которых слово «любовь» писалось всегда с заглавной буквы и под чтение которых мать засыпала. Все это продолжалось года два. Потом накатил пятый год – демонстрации, забастовки, драки с полицией, и отец, безуспешно пытавшийся всех помирить, на очередных переговорах между председателем стачечного комитета и начальником депо, разгневанный неуступчивостью того и другого, сгреб обоих за шиворот, благо лапы были медвежьи, и в бешенстве, не помня себя, с такой силой состукнул их лбами, что те едва не окочурились. Начальство потребовало его немедленного увольнения, комитет охотно уступил, да и свои кунгурские толстовцы осудили за применение насилия. Когда выгнали из депо, отец в первый же вечер напился до безумия, а на другой день последние деньги истратил на роскошные хромовые сапоги. Семченко было тогда лет двенадцать, и на всю жизнь запомнилось, как отец, пьяный и растерзанный, в хромачах этих приплясывал по горнице, кричал: «В сапожники пойду, мать! Осенью кабанчика закоптим!» Приплясывал, охлопывал себя по голенищам, тормошил сестер, а глаза у самого были пустые, страшные.
В юности Семченко отца не понимал. Позднее понимал, пожалуй, но с собственными эсперантистскими опытами никак не связывал и лишь не так давно начал подумывать, что все не просто так, что эта тоска по правильной и справедливой жизни, томившая отца, через много лет отозвалась и в сыне – по-своему, разумеется, потому что время другое. Да и дед, если вспомнить, из того же был теста, молодым добирался до китайской границы, искал земной рай – Беловодское царство. И дед, и отец, и он сам, Семченко – все одного замеса, а вот дочь его уже не в них пошла, в мать. Ну и что? Все равно любишь больше всех на свете.
Казалось, Майя Антоновна ничего не поймет, но она, похоже, поняла, притихла, вопросов не задавала, и сразу раздражение ушло, захотелось еще рассказывать. У гостиничного подъезда простились до завтра; на душе стало спокойно, он думал, что нет, милая все же девушка эта Майя Антоновна, очень милая.
Поднявшись в номер, отворил окно. Поздно было, но еще светло – май, с легким шелестом проносились по улице редкие машины, из гостиничного ресторана долетала музыка, дудели в свои дудки лабухи, нанятые, наверное, Генькой Ходыревым, когда он был здесь директором. Всего год не дожил Генька, а то бы встретились. Интересно, захотел бы он вспоминать прежние встречи или нет? Наяривают лабухи, в бывшей швейцарской бывшего Стефановского училища стоит на тумбочке самовар без крышки, пожертвованный Генькой в школьный музей. Большим человеком стал Генька, с Чкаловым встречался, и самовар его уже не просто самовар, а реликвия. Вот так-то! Семченко подумал, что сам он однажды тоже перекинулся с Чкаловым парой слов – совершенно случайно, и тоже, значит, имел право подарить музею какой-нибудь экспонат. Этот ножик, скажем, которым он сейчас чистит ногти.
Ножик привезен был из Англии и чудом уцелел до сих пор. Когда собирались возвращаться домой, в Россию, жена много чего наготовила – вплоть до белых эмалированных коробочек для соли, сахарного песка и разных круп, но Семченко все велел оставить. Стыдно было везти с собой то, чего у других нет. После двухдневного скандала едва сошлись на люстре, чайном сервизе и этих коробочках – ими жена почему-то особенно дорожила.
В Лондоне она жила замкнуто, воспитывала дочь, даже с женами других работников торгпредства почти не общалась, а в Москве вдруг полюбила гостей: вечно толклись в квартире соседки, портнихи, неведомо откуда вынырнувшие подруги по курсам. Жена рассказывала им про Англию. У нее было несколько накатанных до блеска историй, – например, про няньку дочери: как случайно обнаружилось, эта хитрая нянька в бутылочку с молоком незаметно подбавляла немного виски, чтобы ребенок не плакал и все время спал, а сама целый день читала Библию. Семченко помалкивал, хотя такого случая почему-то не помнил, то есть нянька действительно была, жена ее наняла в его отсутствие, но по приезде он твердо сказал: нет, ни в коем случае, стыдно женщине, которая не работает, еще и держать прислугу.
С той же нянькой жена объяснялась чуть ли не знаками, и в лавках ее плохо понимали, но в Москве она вдруг завела привычку время от времени заговаривать с мужем по-английски – причем всегда на людях, в метро или в магазине; на них начинали оглядываться, он злился, нервничал и не отвечал.
До войны Семченко работал в английском отделе Внешторга, осенью сорок первого ушел в ополчение, был ранен, эвакуирован в Сормово, под Горький, и в Москву вернулся лишь через три года. Жена с дочерью приехали с Урала еще позднее. Их дом снесло бомбой, и долго потом вспоминались те привезенные из Англии белые коробочки – они стали символом довоенной жизни, памятью об уюте, о том времени, которое теперь казалось молодостью.
Сейчас он стоял в номере у окна, и смертельно хотелось курить, хотя последняя затяжка сделана была лет двадцать назад.
Корейцы из табачной артели папиросы набивали хорошо, дым острой осязаемой струей вливался в легкие.
– Ты, Кабаков, извини, что без спросу, – сказал Семченко. – Помнишь, были у тебя с Осиповым? Я заметил, куда ты ключ кладешь.
– Отпустили вас?
– Да нет. Сбежал.
– Врать-то! – ухмыльнулся Кабаков.
– Я у тебя до вечера посижу, ладно?
Кабаков испуганно вылупил глаза:
– Правда, Николай Семенович? Сбежали?
– Давай дуй к Караваеву, – предложил Семченко. – Докладывай чин чинарем: так, мол, и так. Может, именным оружием наградят.
– Вы же не виноваты ни в чем, – жалобно проговорил Кабаков. – Не контра ведь, я точно знаю.
– Знаешь, тогда не ходи. Чаю согрей.
– До вечера посидите, а дальше?
– Не боись, уйду.
– Да вы что? – заорал Кабаков. – Зачем сбежали-то?
– Временно, – объяснил Семченко, слезая с кровати. – Дело есть. Завтра обратно вернусь, не то Караваев подумает, как и ты.
– Об чем это я, по-вашему думаю?
– Сбежал, значит виноват.
– Я так не думаю, – неуверенно отрекся Кабаков и покраснел.
– А не думаешь, так чаю согрей.
Кабаков пошарил под подушкой, повернулся, и Семченко увидел у него в руке сумочку Казарозы. Молча выхватил ее, раскрыл и начал выкладывать на стол вещицы, при взгляде на которые опять заныла душа: пузырек из-под духов, мятные капли, медальон, зеркальце, гребень, где между зубьев запутались волосы, ее волосы – весь этот нищенский, жалкий, слезой пробивающий женский скарб. Господи, разве такое ей пристало!
– Вот еще. – Кабаков показал маленькую гипсовую руку: кисть и запястье. – Тоже в сумочке лежала… Видите один палец отходит? Как на том плакате. Помните? Палец этот.
– И что?
– Может, не случайно? Такое совпадение… Условный знак, может?
Семченко взял слепок. Отвратительно было, что даже эта гипсовая детская ручка, память мертвой о мертвом, способна, оказывается, вызывать какие-то подозрения.
– Сын у нее умер, – сказал он. – Мальчонка двухлетний. Об нем память.
– А на это что скажете? – Многозначительно щурясь, Кабаков протянул вырванный из записной книжки листочек. – Рыжий передал, в темных очках. Иди ст.
Семченко прочел записку, смял ее в кулаке и бросил под кровать:
– Да пропади они пропадом!
Идисты с их происками совершенно сейчас не интересовали.
Со слепком в руке он подошел к окну, выглянул на улицу. Возле дома напротив стояла белая коза с обломанным рогом и громко, обиженно блеяла.
– Билька, – сказал Кабаков. – До чего пакостная тварь!
Семченко смотрел на козу Бильку.
Теперь во многих семьях держали «деревянную скотину»: время голодное, а с ней и молоко есть ребятишкам, и сметанка – щи заправить крапивные. Корову в городе не прокормишь, а козе много ли надо? Сколько же их в городе? Розовоглазые белянки, как эта, чернухи с серебристым ворсом на вымени, пегие, черно-пегие, молодые и старые, бодливые и смирные, чистюли и в свалявшейся шерсти, с репьями под брюхом, иные с нитками на рогах или в чернильных пятнах – меченые, они бродили по улицам, оставляя везде свои катуки, щипали траву на обочинах, забирались в общественные сады, глодали деревья на бульваре, объедали с заборов афиши и листовки.
Недавно в редакцию пришло два письма, авторы которых, не сговариваясь, требовали: коз на улицы не выпускать! Одно из них за подписью «Страж» Семченко напечатал несколько дней назад на четвертой полосе. По этому поводу он даже ходил в губисполком, призывал не либеральничать, не потакать обывателям, а то весь город скоро будет изгажен, и после долгих препирательств решили бродячих коз арестовывать и держать в специальном сарае, при стороже, пока за ними не придут. Всю эту систему пресечения Семченко сам же и придумал. На шею каждой арестованной козе он предложил вешать номерок, а на особом листе под этим номером писать приметы. Потом козу отдавать, если хозяева приметы верно укажут, но взимать штраф пятьсот рублей.
А сейчас он смотрел на козу Бильку и думал, что будь у Казарозы такая вот скотинка, и Чика бы, глядишь, не умер.
Билька стояла у ворот, вскинув голову, и блеяла – дескать, вот я пришла, и сыта, насколько можно быть сытой по нынешним временам, и вымя мое полно молоком. Сознание исполненного долга чудилось в ее блеянии, и Семченко стало стыдно, что с распоряжением этим поторопились. Отменить бы надо козью кутузку, да и со штрафом обождать до следующего лета, когда жизнь наладится.
– Чаю-то согрей, – напомнил он.
Кабаков ушел на двор, в летнюю кухонку, а Семченко взял с подоконника сегодняшний выпуск газеты. Сводка с Западного фронта была хорошая: штурмовали Речицу, выдвигались к Ровно; познанские добровольческие батальоны, не желая сражаться, бросали оружие и уходили к прусской границе. В Венгрии продолжался белый террор, девять тысяч человек томилось в тюрьмах.
Когда попили чаю, Кабаков достал из кармана бумагу с машинописным текстом:
– Гляньте, что мне в ящик подложили.
Семченко прочитал, хмыкнул:
– Чушь собачья… Не догадываешься, кто писал? Наденька твоя. Видишь, у буквы П верхняя перекладина не пропечатана.
– А сами-то вы чего пишете у себя в клубе? – неожиданно оскорбился Кабаков. – Думаете, изменится что от ваших писулек?
Крохотный паучок быстро-быстро спускался по своей нитке прямо в стакан с недопитым чаем. Неопрятно шевелились его лапки, паутинка то выгибалась от дыхания, делаясь невидимой, то вспыхивала мгновенным сине-зеленым пламенем.
Вот лежит листок на столе – машинная пропись, пальчики прыг-скок по круглым клавишам, пустое девичье мечтание о небывалом счастье.
А он-то, Семченко, чем лучше? Прав Кабаков. Неведомый Флорин, философ, которого, может, и не было никогда, и доктор Заменгоф – не из одного ли яйца они вылупились? Великая и благая надежда, пар, облачко над землей. Скитаются по свету послания, написанные на самом простом, самом правильном и доступном из человеческих языков. Предназначенные всем и никому в отдельности, холодные, потому что опять же для всех, выражающие общее мнение членов клуба, перелетают они из города в город, из страны в страну; недремлющим оком следит Линев за чистотой единого эсперанто – исправляет ошибки и вычеркивает русизмы. Женя Багин шлепает свою печать, и возникает на листках одно слово, рассеченное надвое верхним лучом звезды: «эсперо».
Или в этом все и есть? Неважно, кто писал, и о чем письмо, и кому попадет оно в руки. Наугад, наудачу, в пространство. Плывет паутинка по миру, колеблется от дыхания.
И все же, почему именно шесть раз должна обойти вокруг света переписка философа Флорина? Почему в эсперанто восемь грамматических правил? Что за этим? А ничего, наверное. Просто числа придают строгость все той же вечной надежде, что мир станет лучше, что люди научатся понимать и любить друг друга.
Диалог учили: «Камарада, киу эстас виа патро?» – «Миа патро эстас машинисто…» Еще совсем недавно казалось, что путь от этого диалога к мировому братству рабочих короток и не извилист, но вот грянул выстрел в зале Стефановского училища, и все переворотилось в душе.
Зиночка, Зинаида Георгиевна, Казароза, почему так случилось? Философ с цветочной фамилией, киу эстас виа патро?
Да есть ли в эсперанто такие слова, чтобы рассказать кому-то, кто сам не видел, про коз на улицах, про голодных детишек, про беженок с баграми на скользких плотах, про шорника Ходырева и его сына, про гипсовую руку, про того курсанта, наконец, который бился с Колчаком за всемирную справедливость, но хочет говорить об этом теми словами, что были с ним всегда – родными словами. А город? Как расскажешь о нем? Разоренный, живущий надеждой, единственный. На этой земле родились, в эту землю ляжем, хотя сражаемся за весь мир, и нельзя говорить о ней на нейтральном международном языке эсперанто, потому что нет за его словами, из воздуха сотканными в кабинете доктора Заменгофа, ни крови, ни памяти, ни любви. Не той Любви, о которой толкует Линев и которая составляет будто самую суть эсперанто, а настоящей, обыкновенной – к ребенку, женщине, другу, запаху дома и осеннего леса над Камой.
Да, эсперанто – язык вспомогательный. Но если о самом главном сказать нельзя, тогда зачем он? Люди не станут лучше понимать друг друга, только еще больше запутаются. Пусть уж лучше на свой язык переводят, чтобы через себя понять. А он, Семченко, останется, что ли, при своем?
«В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я…» Эти слова будут с ним всю жизнь, и до него были, и после него останутся.
А эти: «Эн вало Дагестана дум вармхоро…»? Как тут быть? Ведь уже и за ними стояли смерть и память, и любовь.
Ночью Семченко долго не мог уснуть – принимал лекарство, пил из графина теплую, отдающую хлоркой воду. Снизу, со второго этажа, наплывало за окном слабое жужжание светящихся букв над подъездом гостиницы; буквы были синие, стекло отсвечивало холодно, по-зимнему, как при луне. Будто снега отражали лунное сияние. Но тепло было. Огромный город никак не засыпал – кое-где горели окна, проходили парочки, тяжелый несмолкающий рокот, днем неслышный, накатывал с заводских окраин.
Никто здесь не помнил о маленькой женщине с пепельными волосами.
Это ее любил комроты Семченко, эсперантист Семченко и тот, другой, в твидовом костюме, с отросшими волосами, медленно идущий по Риджент-парк. Не жену, не медсестру Валечку из Сормовского эвакогоспиталя, а ее, Казарозу. Под Глазовом, со свинцом в груди, и на кухне в Леонтьевском переулке, и в окопах сорок первого, и опять здесь, в этом городе, в гостинице «Спутник», на границе между сном и явью, жизнью и смертью.