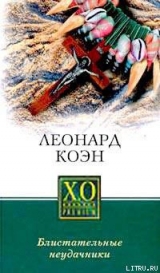
Текст книги "Блистательные неудачники"
Автор книги: Леонард Коэн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
51
Катери Текаквита
зову тебя, зову, зову, даю позывные 987654321 в бедной своей обесточенной голове, криком тебе кричу в безысходности своей, но 123456789 теряются в иглах сосен, я как туша в рефрижераторе хижины падаю на сведенные вместе колени, ищу волосок для антенны, тереблю голубой член Аладдина, все зову тебя, проверяю небесные кабели, тычу в кнопки кровавые, дырявлю пальцами звездное месиво, а зубной врач все сверлит бормашиной лобную кость, будто вбивает мне в череп гвоздь, а я все зову тебя и зову, в ужасе горя, в котором живу, грязь похотливого разума резиновой куклой развязана, вафельного водевиля банановая кожура как ржа разъела черный воздух, дрожа от униженья, нет штепсельной розетки, тока нет движенья под волосами скальпа, проверить надо, проверить в последней пляске до прихода развязки, скорпион сидит на подушке груди, пригоршня молока во врачей летит, я зову тебя, я тебя зову, чтобы ты меня позвала, чтобы ты меня хоть единожды, хоть разок меня б ты спасла, хоть протезами, хоть обманами, хоть пластмассовой берестой, хоть рассказами полупьяными, хоть враньем продажной святой, хоть таблетку дай мне китайскую, хоть парик из пакли надень, расскажи, как в темном зале, где стриптиз нам показали, на подолы шляпки клали, волосато прикрывали то, что сидя возбуждали, утоми меня гаданьем, колдовством и предсказаньем, спиритизмом, заклинаньем, ложным запахом гарема вызволи меня из плена тлена моего сознанья, обесточенного мозга, что своими позывными, предназначенными другу, мечется в квадрате круга, в ужасе кричит в пространство и зовет тебя, и зовет, позывные свои дает 9876543212345678 9, но ответ на них не придет.
52
С разговорником на коленях я всюду прошу Непорочную Деву о милости.
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА В ПРАЧЕЧНОЙ
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
Я тебе принес белье для стирки
мне оно нужно до завтрашнего дня
что вы думаете? вы можете иметь его завтра готовым?
оно абсолютно необходимо для меня
особенно мои рубашки
что касается остального, я должен получить это самое позднее послезавтра
я хочу, чтобы все было вполне новое и чистое
рубашка нужна для меня, носовой платок и пара носков тоже
я хочу иметь их обратно
я хочу иметь этот костюм почищенным
когда я могу его получить?
Также у меня есть платье, пальто, брюки, куртка с длинной бахромой,
блузка, нижнее белье, чулки, тому подобное.
Я вернусь по истечение трех дней получить это
пожалуйста, погладьте это для меня
хорошо, сэр. Приходите все забрать
что вы думаете о брюках?
Они мне нравятся. Это то, что я хочу
когда будет готов мой костюм?
спустя неделю
с ним очень много работы
я сделаю вам прекрасный костюм
я сам приду его забрать
нет, не приходите!
мы сами его вам доставим на дом, сэр
хорошо. Тогда я буду ожидать его в следующую субботу
костюм дорог
костюм дешевый
вы хороший портной
благодарю вас
до свидания
потом я еще один достану
как вам угодно, сэр
мы удовлетворим вас очень сильно
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА В ТАБАЧНОЙ ЛАВКЕ
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
Пожалуйста, вы можете мне сказать, где табачный магазин?
на углу дороги направо, сэр
прямо перед вами, сэр
дайте мне, пожалуйста, коробку сигарет
какого сорта у вас есть сигареты?
У нас отличные сигареты
я хочу немного табака для трубки
я хочу крепкие сигареты
я хочу слабые сигареты
дайте мне также коробку спичек
я хочу портсигар, хорошую зажигалку, сигареты
сколько все они стоят?
двадцать шиллингов, сэр
спасибо. До сведания
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА В ПАРИКМАХЕРСКОЙ
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
парикмахер
волосы
борода
усы
мыло
холодная вода
гребенка
щетка
я хочу себя побрить
пожалуйста, сядьте!
пожалуйста, войдите!
пожалуйста, побрейте меня!
пожалуйста, обрежьте мне волосы очень коротко сзади
не очень коротко
мойте мои волосы!
пожалуйста, расчешите меня
я вернусь назад
я доволен
до какого часа открыта парикмахерская?
до 8 часов вечера
я приду брить себя регулярно
спасибо, до свидания
мы к вам будем относиться так хорошо, как можем, потому что вы наш клиент
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА В ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
где почта, сэр?
мне эта местность неизвестна, простите меня
спросите того сэра
он знает французский, немецкий
он вам поможет
пожалуйста, покажите мне почту
она там, на противоположной стороне
я хочу послать письмо
дайте мне несколько почтовых марок
я хочу что-нибудь послать
я хочу послать телеграмму
я хочу послать посылку
я хочу послать срочное письмо
у вас есть паспорт?
у вас есть карточка личности?
да, сэр
я хочу послать чек
дайте мне почтовую открытку
сколько я заплачу за посылку посылки?
15 шиллингов, сэр
спасибо до свиданья
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА В ТЕЛЕГРАФНОМ ОТДЕЛЕНИИ
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
что вы хотите, сэр?
я хочу послать телеграмму
с оплаченным ответом?
сколько стоит слово?
пятьдесят пенсов за слово
телеграмма для
это дорого, но ничего
телеграмма будет доставлена поздно?
как долго понадобиться ее доставить?
два дня, сэр
это не долгое время
я пошлю телеграмму своим родителям в
я надеюсь, что они получат ее завтра
вот уже много времени, как я не получал никаких новостей от них
я думаю, что они ответят мне телеграфически
возьмите, пожалуйста, деньги за телеграмму
досвидания. Благодарю.
КАТЕРИ ТЕКАКВИТА У КНИГОТОРГОВЦА
(ее слова выделены очаровательным курсивом)
доброеутро, сэр
я могу выбрать какие-либо книги?
с удовольствием. Что вы хотите? Выбирайте!
я хочу купить книгу для путешествия
я хочу знать Англию и Ирландию
Вы хотите что-нибудь еще?
я хочу много книг, но, как я вижу, они дороги
мы сделаем маленький упадок в ценах для вас, если вы возьмете много книг
у нас есть книги всякого типа. Десевые и дорогие вы хотите их обернутыми или не обернутыми?
я хочу обернутые книги
так они не будут поломаны
вот они
Сколько это стоит?
четыре доллара
у вас есть какие-либо словари?
Есть
пожалуйста, оберните их
я возьму их с собой
большое вам спасибо
до свидания!
О Господи, Боже мой, я просил слишком много, я просил всего! В каждом звуке мольбы моей я слышу, как прошу обо всем. В самом жутком кошмаре своем я представить себе не мог, как много мне надо. О Господи, я смолкаю, начиная творить молитву:

Книга вторая. ПРОСТРАННОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ Ф.
Дружок мой дорогой!
Вот и пролетели пять лет, как им было положено. Не знаю, где тебя застанет это письмо. Думаю, ты меня частенько вспоминал. Ты всегда был моим самым любимым мальчишкой-сиротой. Нет, ты значил для меня больше, гораздо больше, но теперь это уже не имеет ровным счетом никакого значения, потому что это – мое последнее письменное послание, и нет смысла тратить его на то, чтобы расшаркиваться перед тобой в любезностях.
Если адвокаты выполнили распоряжения, которые я им оставил, теперь ты стал хозяином всего моего земного достояния – коллекции мыла, фабрики, масонских фартуков, бревенчатого дома. Ты, должно быть, и образ жизни мой перенял. Интересно, куда он тебя приведет. Сейчас, стоя на самом кончике пружинящей доски над краем последней пропасти, куда мне скоро предстоит сигануть, я думаю о том, куда этот образ жизни привел меня самого.
Пишу тебе это последнее письмо в палате трудотерапии. Я всегда шел на поводу у женщин и не жалею об этом. В монастырях, на кухнях, в пропахших духами телефонных будках, на курсах, где занимались поэзией, – я шел за женщинами повсюду. Следовал за ними в парламент, потому что знаю, как они любят власть. Шел за женщинами в постели мужчин из любопытства, хотел узнать, что там можно найти. Даже воздух возбуждается от запаха их духов. Мир покоряется их зазывному смеху, сулящему любовь. Я шел за женщинами в мир, потому что любил его. Всюду следовал за мягкими округлостями бедер и грудей. Когда женщины призывно свистели мне из окон публичных домов, когда они тихонько посвистывали мне из-за спин мужей, круживших их в танце, я шел за ними и с ними тонул, а порой, заслышав их свист, чуял в нем лишь печаль увядания, ссыхающуюся тоску их мягких округлостей.
Отзвук этого свиста вьется вокруг каждой женщины. В моей жизни было лишь одно исключение. Я знал только одну женщину, которая отдавалась, звуча совсем по-иному – может быть, то была музыка, может быть, молчание. Конечно же, я говорю о нашей Эдит. Вот уже пять лет прошло, как меня похоронили. Ты, конечно, знаешь теперь, что Эдит не могла принадлежать тебе одному.
И за молоденькими сестричками в палате трудотерапии я тоже следую по пятам. Их мягкие округлости прикрыты накрахмаленным бельем – сладко манящей броней, которую моя бывалая похоть пробивает с такой легкостью, будто это яичная скорлупа. Я тащусь за их белесыми больничными ногами.
Мужчины тоже издают свои звуки. Знаешь, какой у нас звук, дружок мой дорогой, жизнью потрепанный? Это звук, который слышится, если поднести к уху раковину самца морского моллюска. Угадай, что это за звук. Даю тебе три попытки. Заполни три строчки внизу. Сестричкам нравится смотреть, как я по линейке отчерчиваю линии.

Сестрички любят склоняться над моим плечом и наблюдать за тем, как я орудую красной пластмассовой линейкой. Они насвистывают мне в волосы, от их свиста веет спиртом и сандаловым деревом, а крахмальные одежды похрустывают, как белая папиросная бумага или искусственная солома, в которую кладут пасхальные яйца из сливочного шоколада.
Как же я сегодня счастлив! Я знаю, эти страницы будут полны счастья. Ты ведь, конечно, не думаешь, что я уготовил тебе в дар печаль.
Ну, и что же ты мне ответил? Разве не удивительно, что я продолжаю тебя учить даже через бездну разделяющей нас пропасти?
Он совсем другой, этот звук, который издают мужчины, диаметрально противоположный свисту. Это – шшшш, тот звук, который слышится, когда указательный палец подносят к губам. Шшшш – и буря срывает крыши с домов. Шшшш – и нет лесов, чтобы ветер не трещал ветками. Шшшш – и ракеты с водородными бомбами летят, чтобы заставить смолкнуть инакомыслие и разнообразие. Этот звук не лишен приятности. На самом деле это бойкий мотивчик, как звук пузырьков над моллюском. Шшшш – будьте добры, все послушайте. Звери, не войте, пожалуйста. Брюхо, сделай одолжение, прекрати бурчать. Время, сделай милость, отзови своих сверхзвуковых псов.
Это звук, с которым моя шариковая ручка чертит по красной линейке линии на больничной бумаге. Шшшш, говорит она еще не разлинованной белизне. Шшшш, шепчет она белому хаосу, пора спать укладываться в разлинованную спальню. Шшшш, просит она танцующие молекулы, я люблю танцы, но только не иностранные, я люблю танцы, которые танцуют по правилам, по моим правилам.
А ты, дружок, в линейки укладываешься? Ты в ресторане сидишь или в монастыре, когда я под землей лежу? Ты в линейки уложился? Хотя, ты вовсе не обязан это делать, ты же знаешь. Я снова тебе голову морочу?
Что же это за тишина такая, которой мы так отчаянно стремимся упорядочить беспорядочность? Мы что, работали, пахали, затыкали рты, городили заборы, чтобы до нас трубный глас донесся? От хрена уши. Трубный глас доносится из столпа огненного, но мы уже давным-давно загасили огонь столпа. Запомни: трубный глас доносится из огненного столпа. Совсем немногим и далеко не часто дано вспоминать об этом. Я был одним из тех, кого Господь наделил этим даром?
Я скажу тебе сейчас, почему мы все щели законопатили. Я ведь прирожденный учитель, и не в моей натуре хранить в себе знание. Конечно, пять лет тебя измучили и измотали, подготовив к тому, чтобы теперь ты смог меня понять. Я всегда хотел тебе все рассказать, чтобы мой дар обрел полноту. Как твои запоры, милый?
Думаю, им года двадцать четыре, этим мягким округлостям, что плывут рядом со мной в этот самый момент, этим пасхальным сладостям, обернутым в казенное белье. Двадцать четыре года шли они по жизни, почти четверть века, но для груди это еще юношеский возраст. Они проделали долгий путь, чтобы смущенно глазеть мне через плечо, глядеть, как весело я орудую линейкой, чтобы доказать кому-то, что с психикой у меня все в порядке. Они еще молоды, откровенно молоды, но свистят неистово, пьяня ароматом спирта и сандалового дерева. На ее бесстрастном лице ничего не написано – до блеска надраенное лицо медсестры, черты индивидуальности безжалостно стерты, оно как голубой экран, где показывают кино о том, как нас пожирает болезнь. Сострадательное лицо сфинкса, которому мы свои загадки загадываем, а округлые груди, как врытые в песок лапы, трутся, лаская крахмал казенной одежды. Знакомо тебе это зрелище? Да, ты прав, такое выражение частенько бывало на лице Эдит, нашей замечательной сиделки.
– Ты так здорово проводишь линии.
– Да, мне они тоже нравятся.
Слышишь свист? Бежать надо, жизнь спасать, скоро бомбы рваться начнут.
– Хочешь, я принесу тебе цветные карандаши?
– Если только они не переженятся на наших ластиках.
Остроумие, изобретательность, свист – доходит теперь до тебя, почему мы сделали леса звуконепроницаемыми, огородили первозданную дикость резными скамейками? Чтобы слышать свист, чтобы слышать, как морщины выдавливают упругость, чтобы видеть, как наши миры умирают. Запомни это и забудь. Завяжи себе где-нибудь в мозгу извилину узелком на память, только пусть этот узелок будет совсем маленьким. Я тебе по секрету скажу, что сам сейчас понемногу освобождаюсь от всяких понятий такого рода.
Поиграй со мной, дружок.
Пожми мне руку, духовно протянутую. Ты насквозь пропитан воздухом нашей планеты, крещен огнем, дерьмом, историей, любовью и утратой. Помни это. В этом – объяснение золотого правила.
Вглядись в меня пристально в сей миг моей странной недолгой истории: сестра склонилась над моей работой, член у меня гниет и чернеет – ты видел, как гниет мой мирской член, но попробуй представить себе мой мистический фаллос, закрой глаза и представь мой мистический фаллос, которого у меня нет и никогда не было, но именно он обладал мною, он был мною самим, он нес меня по жизни, как ведьму помело, переносил из одного мира в другой, с одних небес на другие. Ладно, хватит об этом.
Это у меня, как у многих учителей, манера такая: многое из того, чему я учу – просто тяжкое бремя, которое я больше не в силах нести в себе. Я чувствую, что запас всякой чуши, накопившийся в голове, иссякает. Скоро у меня вообще ничего не останется, чтобы с ближним поделиться, только мои истории. Тогда, наверное, мне только и останется, что сплетни разносить, и мои молитвы миру иссякнут.
Эдит занималась организацией оргий и поставкой наркотиков. Однажды у нее завелись вши, дважды – мандавошки. Я написал слово «мандавошки» очень маленькими буквами, потому что всему свое место и время, а молоденькая сестричка стоит у меня за спиной и все пытается сообразить, то ли ее влечет ко мне моя сила, то ли собственное милосердие. Я вроде как всецело поглощен терапевтическими упражнениями, она выполняет должностные обязанности, ухаживая за больным, но слышишь свист и шипение? – звук свистящего пара разносится по отделению трудотерапии, смешивается с солнечным светом и одаряет радужным ореолом каждую склоненную голову – и страждущего, и врача, и сестры, и сиделки. Хорошо бы тебе когда-нибудь взглянуть на эту сестрицу. Когда мои адвокаты тебя найдут и выполнят мою волю, ей исполнится двадцать девять.
В каком-нибудь зеленом коридоре, в большой кладовке среди ведер, швабр и антисептических тампонов Мэри Вулнд из Новой Шотландии скатает с ног белесые чулки, одарит старика свободой коленей, и ничего важнее не будет для нас в целом свете, только уши, чтобы услышать звук шагов приближающегося санитара.
Вся планета пышет паром, облака пушистого пара клубятся над ней, когда молоденькие девчонки сходятся с ребятами в бунте религиозного мятежа, как взопревший сиплый педераст на кладбище, наша маленькая планета тискает хлипкий воздушный шарик собственной судьбы, а каким-то простакам эти звуки слышатся как начало их конца. А кое-кто слышит их совсем не так – тем, кто мастерски умеет летать во сне и наяву, слышится в этих звуках совсем другая мелодия. Отдельные звуки свиста и шипения они пропускают мимо ушей, они слышат сразу всю гамму этого звука звуков, их взор способен проникнуть в ярко мерцающие отсветы, молниями пронзающие цветущий конус огненного столпа.
Я слушаю «Роллинг Стоунз»? Непрерывно.
Хватит с меня боли?
Прошлое мое потасканное, как старая шляпа изношенная, от меня ускользает. Не знаю, сколько времени мне отпущено на ожидание. Я, должно быть, каждый год промахивался, когда монетку кидал в ту реку, вдоль которой мне идти надо было. Зачем я эту фабрику покупал? Кто меня тянул в парламент? Так ли уж хорошо было спать с Эдит? И мой кофейный столик, и маленькая комната, и верные друзья-наркоманы, от которых нечего было ждать, – мне кажется, все это я оставляю почти по ошибке, ради пустых обещаний, ради случайных телефонных звонков. Старая шляпа изношенная, в угол заброшенная, противная красная рожа старая, в зеркало на себя смотреть усталая, рожа неухоженная, удивленная и настороженная, смеющаяся над вечным движением. Где мое прошлое потасканное? Я убеждаю себя, что есть еще время на ожидание. Доказываю себе, что путь мой был правильным. Или логика самого доказательства неверная? Или гордыня мне соблазн шлет намеками на иной образ жизни? Или трусость удерживает меня от испытаний былого? Я говорю себе: подожди. Вслушиваюсь в дождь, в научные отзвуки больничного гомона. Я счастлив множеством мелочей. Засыпаю, не вынимая из ушей наушников от приемника. Даже позор в парламенте меня уже мало волнует. Мое имя все чаще и чаще мелькает в списках имен героев-националистов. Даже то, что я попал в больницу, приписывают козням англичан, которые тем самым хотят заткнуть мне глотку. Ох, боюсь, мне еще придется возглавить правительство, гниющего члена боюсь, много чего боюсь. Слишком уж легко идут за мной люди: это у меня такая способность роковая.
Дружок мой дорогой, не нужен тебе мой образ жизни.
Что-то в твоих глазах, мой любимый, отражало меня таким, каким мне самому хотелось быть. Только вы с Эдит были ко мне великодушны, может быть, только ты один. Ты озадаченно вопил, когда я тебя изводил, ты был прост, как правда, и мне хотелось быть таким же, а когда у меня ничего не получалось, я был готов на все что угодно, лишь бы у меня это вышло. Меня пугал рациональный разум, поэтому мне хотелось слегка свести тебя с ума. Я отчаянно надеялся, что твоя оторопь меня чему-нибудь научит. Ты был той стеной, от которой до меня, как до летучей мыши, эхо доносило отголоски моих собственных криков, и по нему я определял направление этого долгого полета в ночи.
Никак не могу перестать учить. Я научил тебя хоть чему-нибудь?
После такого признания от меня, наверное, меньше смердеть стало, потому что Мэри Вулнд ясно дала мне понять, что готова к сотрудничеству.
– Ты бы не хотел старческой рукой меня погладить под юбкой?
– Ты какую руку имеешь в виду – правую или левую?
– Хочешь вдавить мне указательным пальцем сосок, чтобы он совсем исчез?
– А потом появился снова?
– Если он снова появится, я возненавижу тебя навсегда. И имя твое впишу в Книгу недотеп.
____________________
– Вот так-то лучше.
____________________
____________________
Умммммм.
______ _____ _______
– Я уже вся мокрая.
Теперь ты видишь, почему я не могу кончить учить? Все мои витиеватые изречения годятся для печати. Ты представляешь себе, как я тебя с твоими тривиальными муками ненавидел?
Да, должен признаться, бывали минуты, когда я тебя ненавидел. Прощальная речь ученика в его собственном стиле, сделанная на выпускном вечере, не всегда бывает наградой учителю словесности, особенно если сам он никогда выпускником не был. Временами ты вгонял меня в депрессию: тебя такие муки терзали, а у меня за душой не было ничего, кроме системы.
Работая с евреями (теперь эта фабрика твоя), я иногда замечал, что время от времени левантийское лицо хозяина кривило странное болезненное выражение. Оно возникало у него тогда, когда ему приходилось выпроваживать одного своего жалкого единоверца, заросшего бородой, несчастного, пропахшего дешевой румынской кухней. Тот приходил на фабрику раз в два месяца и назойливо клянчил милостыню для какого-то подозрительного еврейского института физиотерапии. Наш хозяин всегда давал тому типу какую-то мелочь и с неуклюжей торопливостью старался как можно скорее спровадить его с черного хода, как будто присутствие незваного гостя на фабрике могло привести к чему-то гораздо более страшному, чем забастовка. В такие дни я всегда теплее относился к хозяину, потому что он был вроде как не в своей тарелке – становился потерянным и легкоранимым. Мы с ним, бывало, неспешно прохаживались между огромных рулонов кашемира и твида – я никогда его не отталкивал, если видел, что у него возникала потребность побыть немного со мной. (А он, со своей стороны, не ставил мне в упрек мои мускулы, которые я накачал благодаря системе динамического напряжения. Почему же ты мною брезговал?)
– Во что превратилась теперь моя фабрика? В груду тряпок с этикетками, она меня тяготит, отвлекает от главного, душу мне бередит.
– Должно быть, сэр, она стала склепом вашего честолюбия.
– Верно говоришь, парень.
– Она для вас как заноза, сэр, как соринка в глазу.
– Не хочу, чтобы этот бездельник здесь снова появлялся, слышишь меня? В один прекрасный день они все уйдут отсюда за ним. Причем я сам их еще и уводить буду. Этот плюгавый оборванец счастливее, чем все мы вместе взятые.
Конечно, он так ни разу и не отказал тому жалкому нищему, регулярно от этого страдая, как страдает при месячных женщина, сетуя на жизнь, законы которой диктует Луна.
Ты терзал меня, как Луна женщину. Я знал, что ты повязан старыми законами страдания и неопределенности. Меня страшит мудрость калек. Пара костылей и дурацкая хромота могут помешать той прогулке, на которую, чисто выбрившись и что-то себе насвистывая, я выхожу в новеньком костюмчике. Я завидовал тебе за уверенность, которую сам ты и в грош не ставил. Меня томила магия рваного шмотья. Я ревновал к тем мукам, которые сам тебе уготовил, но не мог дрожать от страха перед самим собой. Никогда я не был пьян, как хотел, так нищ, как хотел, так богат, как хотел. И от этого та боль, которой мало не покажется, чтобы молить об утешении. Она заставляет меня протягивать руки в страстном желании стать президентом новой республики. Мне ласкают слух крики вооруженной шпаны, скандирующей мое имя за воротами больницы. Да здравствует революция! Дайте же мне побыть президентом в последние тридцать дней, что мне отпущены.
Где ты бродишь сегодня ночью, дружок мой дорогой? Ты стал вегетарианцем? Стих и смирился, как орудие добродетели? Можешь ты, наконец, заткнуться? Тебя что, одиночество в экстаз приводит?
В акте твоего сосания проявлялось глубокое милосердие. Я ненавидел его, я его проклинал. И вместе с тем, не побоюсь признаться, что ты воплощаешь мои самые сильные заветные желания. Надеюсь, тебе удастся извлечь ту жемчужинку, которая оправдывает убожество уединенного механического возбуждения.
Это письмо написано языком прошлого, мне трудно бывает найти в уме отжившие слова и умершие выражения. Мне надо растягивать извилины разума, чтобы перебраться в прошлое, в те его огороженные колючей проволокой области, из которых я всю жизнь пытался себя вытащить. Но мне не жаль потраченных усилий.
Наша любовь не умрет никогда, обещаю тебе я, послав сквозь года весть эту, змеем бумажным летящую в воздушную страсть твоего настоящего. Мы были вместе рождены, мы поцелуями признавались друг другу в страстном желании возрождения. Мы лежали, обнимая друг друга, и каждый из нас был учителем другого. В неповторимости каждой ночи мы искали лишь ей одной присущее звучание. Мы пытались убрать помехи и страдали от догадки, что помехи эти составляли часть звука той ночи. Я был твоим приключением, а ты – моим. Я был твоим путешествием, а ты – моим, и Эдит вела нас двоих как путеводная звезда. Это письмо – плод нашей любви, искра скрещенных в ударе мечей, звон литавр, осыпающийся водопадом иголочек, влажный след блестящих капель пота, перемешанных в крепком объятии, кружащие в воздухе белые перья петуха, обритого мечом самурая, пронзительный вопль двух капель ртути, неодолимо притягивающих друг друга, тайна, окутывающая близнецов. Я был твоей тайной, а ты – моей, и нас вместе тешила мысль о том, что тайна – наш дом. Наша любовь не может умереть. Я пришел из прошлого сказать тебе об этом. Мы оберегаем друг друга как два мамонта, сцепившиеся бивнями в смертельном поединке над обрывом пропасти надвигающегося ледникового периода. Эта странная любовь сохранит облик нашей мужественности твердым и чистым, чтобы мы не могли возложить на брачное ложе ничего, кроме собственного естества, и наши женщины в полной мере узнали нас такими, какие мы на самом деле.
Наконец Мэри Вулнд допустила мою левую руку к изгибам казенной одежды. Она внимательно следила за тем, как я сочинял этот отрывок, и поэтому я написал его взахлеб и не без доли экстравагантности. Женщины любят в мужчине крайности, потому что они отрывают его от собратьев и делают одиноким. Поэтому все, что женщины знают о мире мужчин, поведано им перебравшими через край и оставшимися одинокими беженцами из этого мира. Доводя таких мужчин, как мы с тобой, до белого каления, они сами не могут устоять перед ними в силу четко выраженной направленности собственного интеллекта.
– Продолжай писать, – свистит она.
Мэри повернулась ко мне задом. Округлости заходятся в свисте, как сирена, возвещающая конец всякой работы. Мэри делает вид, что ее очень интересует сотканный кем-то из пациентов коврик, продолжая отлично играть свою роль в нашей замечательной пьесе. Медленно, как змей-искуситель, я веду тыльной стороной руки вверх по тугому грубому чулку, обтягивающему ей бедро. Полотно юбки прохладно похрустывает, сминаясь под натиском костяшек пальцев, чуть влажное бедро, упруго обтянутое чулком, тепло изгибается буханкой свежего белого хлеба.
– Выше, – свистит она.
Мне спешить некуда. Некуда мне спешить, дружок мой закадычный. Я бы вечность напролет готов был этим делом заниматься. Ее нетерпеливые ягодицы сжимаются как две боксерские перчатки перед началом поединка. Моя рука замирает, чтобы унять дрожь бедра.
– Скорее, – свистит она.
Да, по напряжению натянутого чулка понятно, что я уже почти достиг того его полуострова, который повязан подвязкой. Я неспешно пройдусь по всему полуострову, с двух сторон окруженному пышущим жаром кожи, потом перескочу на сосок подвязкиной застежки. Паутинка чулка натягивается еще сильнее. Туго сжимаю пальцы, чтобы не задеть до времени ничего лишнего. Мэри, покачиваясь, переминается с ноги на ногу в предвкушении удовольствия. Указательный палец, как разведчик, определяет дислокацию подвязки. Она тоже пышет жаром – и маленькая металлическая петелька, и резиновый грибок прогреты насквозь.
– Пожалуйста, ну, пожалуйста, – свистит она.
Как ангелы на кончике иголки, пальцы танцуют на резиновой головке. Куда дальше перескакивать? На внешнюю сторону бедра – напрягшуюся и горячую, как панцирь морской черепахи, распластанной на тропическом берегу? Или в болотное месиво посредине? А может, прилепиться летучей мышью к огромному, мягко нависающему утесу ее правой ягодицы? Под белой крахмальной юбкой очень влажно. Как в самолетном ангаре, где пары выхлопа собираются в тучу, из которой в самом помещении идет дождь. Мэри потряхивает задом как копилкой, жаждущей золотой монеты. Вот-вот хлынет ливень. Выбираю середину.
– Дааааааа.
Жар кисельной влагой обволакивает руку. Вязкий душ обдает запястье. Магнитный дождь проверяет часы на антимагнитную устойчивость. Продолжая покачиваться, она меняет позицию, потом насаживается мне на кулак, будто сбрасывает на него ловчую сеть для гориллы. Я змеей проползаю сквозь мокрые волосы, сжимая их пальцами как сахарную вату. Погружаюсь в артезианское изобилие, сосковые оборочки, бессчетные извилины мозгов, перекачивающие кровь созвездия слизистых сердец. Влажные послания знаками азбуки Морзе ползут мне вверх по руке, западают в голову, их все больше и больше, они будят спящие области темной стороны сознания, избирают счастливых новых властителей на место обезумевших претендентов, лишенных разума. Я – затвор, открывающий путь волнам в безбрежной феерии жидкого электричества, я – вольфрамовый провод, светящийся в море разума, я – творенье утробы Мэри, я – пена ее волны, перила для задницы медсестрички – перила огромной длины, по которым она, маневрируя, катится вниз, поднимается вверх, с наслажденьем массируя розу промежности – похоти грех.
– Хлип-хлюп, хлип-хлюп.
Разве мы не счастливы? Мы делаем, что нам хочется, и никто нас не слышит, но это чудо совсем крошечное в роге изобилия тех чудес, которые нам дарованы, как и радужные ореолы, зависающие над каждым черепом, – чудеса совсем незначительные. Мэри глядит на меня через плечо, хлопая глазами навыкате, белыми, как яичная скорлупка, она раскрыла рот, как золотая рыбка, на губах играет удивленная улыбка. В золотом солнечном сиянии отделения трудотерапии каждый считает себя непризнанным гением, возлагая плетеные корзинки, глиняные пепельницы, кожаные бумажники, перевязанные сыромятными ремешками, на лучезарные алтари замечательного собственного здоровья.
Дружок мой дорогой, можешь теперь преклонить колени, читая дальше мое послание, потому что именно сейчас я подошел к самой сути того, о чем должен тебе сказать. Раньше я не знал, как это выразить, а теперь знаю. Я не знал, о чем тебе возвестить, а теперь уверен в том, что нашел нужные выражения. Все, что я говорил тебе до этого, было лишь вступлением, все предыдущие слова только прочищали мне горло. Признаюсь, что мучил тебя, но только ради того, чтобы привлечь к этому твое внимание. Признаюсь, что предавал тебя, но только для того, чтобы потом дружески похлопать тебя по плечу. Когда мы целовались, дружок мой старинный, когда мы ласкали друг друга, именно это я хотел нашептать тебе на ухо.
Бог живет. Чудеса творит. Бог живет. Чудеса творит. Бог творит. Чудеса живут. Тот, кто жив, творит. Чудеса не мрут. Господь не хворал. Бедный люд много врал. Люд больной тоже врал. Чудеса не слабели. Чудеса не скрывались. Чудеса управляли. Божья власть оставалась. Бог всегда был живым. Бог всегда правил миром, хоть Его убивали, подменяя кумиром. Хоть Его хоронили, набивая мошну, Чудеса толстосумов тянули ко дну. Хоть Его хоронили, Он всегда был живым. Хоть Его извращали, Он собой был самим. Хоть Его искажали, Чудеса продолжались. Хоть о смерти твердили чудаки во всем мире, в сердце люди хранили веру в то, что Бог в силе. Оскорбленья удивляли, раны кровью истекали, но Чудес не колебали. Чудеса все направляли. Много сил ушло на ветер, чтобы Бога опорочить. Много лгали лжепророки. Им внимали толстосумы, предлагали камни Чуду, что без них царило всюду. Перед Богом закрывали сундуки свои с деньгами, но ему вполне хватало. Только им все было мало. Чудеса творят. Бог царит везде. Правит бал живой. Человек в нужде голоден порой. Сильный человек справится с бедой. Пусть он врет, что одинок – да поможет ему Бог. Не пустому болтуну, не такому капитану, что пустил корабль ко дну. Чудеса живут. Хоть смерть его простили повсюду во всем мире, сердца не убедили, что Бога схоронили. Хоть выбили законы на каменных скрижалях, они не защищают человека от беды. Хоть алтари законам воздвигло государство, оно не научилось повелевать людьми. Арестовали Чудо, оно пошло за стражей, желая подаянье страждущим подать. Но Чудеса не медлят – им надо еще многих поддержать. И стражники остались несолоно хлебавши прозябать. Чудеса творят. Злу их не прельстить. Они пустой руке готовы пособить. Они спешат к тому, кто их принять готов, кто в огненном столпе услышит трубный зов. Но Чудеса – не средство. Чудо – это цель. Многим удавалось Чудо оседлать, но Чудеса несли их от их задачи вспять. Было много сильных, кто безбожно врал. Они прошли сквозь Чудеса и вышли так же, как вошли, черт бы их побрал. Многие из тех, кто слаб, тоже врали еще как. Они шли к Богу втайне, они Ему служили, но мало кто похвастать мог, что горе исцелили. Хоть горы танцевали перед их глазами, они твердили, что Бог мертв, залившись слезами. Сорвали с Бога саван, и Он стал нагой, но Он и без покрова всегда будет живой. Вот это я нашептываю себе в разуме своем. Вот этому в уме своем я смеюсь. Вот этому служит разум мой, потому что такая служба и есть Чудо, царящее в мире, и сам разум есть Чудо, воплощенное во плоти, и сама плоть есть Чудо, танцующее на циферблате часов, потому что время – это Чудо Божественной протяженности.








