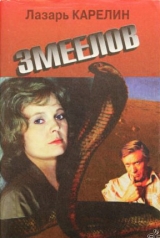
Текст книги "Змеелов"
Автор книги: Лазарь Карелин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Костик отпадал. У Костика росли две девочки-двойняшки, он честно жил, всегда так жил, преступно было втягивать его в эту зону опасности, в которую вступал – вступил! – Павел. Когда натаскивают человека на змеелова, его сперва натаскивают на змеях, у которых сцежен яд. Их укус не смертелен, но их укус тоже не подарок. А эти, заглавные эти буквы, они свой яд еще не отдали. Эх, хотел ведь он месяцем позже рвануть в Москву! Друзья уговаривали остаться, еще работы было навалом. Поспешил! Нет, не поспешил, это судьба. А в Москву он рвался и месяцем раньше, и двумя, и тремя. Не поспешил, а промедлил – так будет точнее. От судьбы же никому увернуться еще не удавалось.
19
Тимка вроде бы узнал его, благожелательно помахивал обрубком, сдержанно, но все же тыкался холодным носом в руку. Павел шел вместе с сыном и его эрделем по улице Аркадия Гайдара. Они подходили к желтой школе с белыми колоннами.
– А я и не подумал, что ты учишься в той же школе, где и я учился, сказал Павел.
– Где же еще?
Сына Павел вызвал по телефону. Из окна кухни в квартире Лены виден был дом, краешек крыши того дома на улице Чкалова, где Павел родился и где теперь жил его сын. Совсем рядом был сын. Захотелось его повидать, рванулось сердце. Павел позвонил, подойдя с аппаратом в руке к окну. Там, под той крышей, в квартире на седьмом этаже, сейчас подходит к телефону мальчик, сейчас он скажет: "Слушаю?" Сергей так и сказал.
– Это я, твой отец, – сказал Павел. – Ты выйди, погуляй с Тимкой. К каштанам выходи. Я через пять минут там буду. – И повесил трубку. И кинулся к лифту, прикидывая, что, пожалуй, за пять минут не поспеет. Но если бегом, если вскочить в троллейбус, который как раз подкатит, проехать на нем всего лишь две остановки, то успеть можно. Павел перебежал улицу, погнался за троллейбусом, догнал. Потом, когда троллейбус остановился у нового тут здания, у кинотеатра "Новороссийск", Павел выскочил, перебежал узкую улицу Чернышевского, нырнул в подворотню, вбежал в чужой двор, из которого было ближе всего до родного двора, до пятачка с травой под каштанами. Успел. Сережа еще только подходил с Тимкой.
И вот они пошли, пошли, помалкивая, лишь поглядывая друг на друга, и почему-то очутились на улице Аркадия Гайдара. Тимка так повел? Тот, прежний Тимка, тоже любил приходить сюда, к густой траве палисадника на углу у дома, где жил Чкалов, где жил Маршак. Так тогда и шутили: "Пошли к Маршаку". А дальше была их школа. И теперь повел Сережа. Он шел к школе. Лето, каникулы, а его потянуло к школе. Когда они поравнялись с высоко взбегающими ступенями, ведущими к колоннам и к входу, Сергей сказал, не глядя на отца, невзначай будто сказал, просто подумалось вслух:
– Каникулы, а все равно в школе кто-нибудь да есть.
– Наверняка, – согласился Павел. – Присматривают за ремонтом.
– Отец... – Он назвал его отцом в первый раз! – Ты не хочешь туда заглянуть? Я бы постоял тут с Тимкой, мы бы подождали.
– Туда? – переспросил Павел.
– Ты там учился, тебя там помнят. У меня раньше спрашивали про тебя, когда я в первый класс поступил. Потом перестали.
– Хорошо, ты прав, я пойду.
Ступени помнились истертыми, пологими, но теперь их заменили на новые, они показались Павлу крутыми. Да он и не спешил, переступал со ступени на ступень, мечтая, что никого в школе не встретит. Горько было ему, горько, он понял сына, он понял, что Сергею нужно, чтобы в школе увидели его отца. Горько было. А с чем явился этот отец, в свою собственную школу явился? Откуда? Меньше всего он думал, думая о Москве, о своем возвращении, что сразу же, на четвертый там, на пятый день явится в школу. Взрослые люди приходят в свои школы, когда им везет в жизни, ну, хотя бы, когда все в порядке, а не когда они отбыли срок заключения, когда они на нуле. Но мальчику это нужно, и Павел шел, одолевал ступени.
В просторном холле, где всегда были фотовыставки, где красовалась доска отличников, героев многих выпусков, где висели портреты самых больших удачников, знаменитостей, некогда учившихся здесь, к радости Павла, стены были голыми, их подготовили для ремонта. Эти голые стены ободрили Павла. Школа должна быть пустой, как эти стены. Гулкая пустота встретила Павла, когда он пересек холл, подошел к дверям учительской. Было бы нечестно не заглянуть в учительскую, а просто вернуться, сказав сыну, что в школе никого нет. Павел отворил дверь, встал на пороге. В учительской было полно учителей, какое-то они там надумали собрание летом. Почти все эти люди, к счастью, были незнакомы Павлу. Они воззрились на него: что за человек, что за помеха? Он виновато и облегченно поклонился, собираясь притворить дверь. Но тут его окликнули, назвали:
– Павел Шорохов?!
И еще кто-то узнал его:
– Наш бывший ученик?!
Старенькая седая женщина и сутулый старик поднялись, пошли к нему.
Совсем незнакомый человек во главе стола тоже встрепенулся, услышав его имя, спросил, заинтересовавшись:
– Не отец ли Сережи Шорохова?
Павел переступил порог, вступил в учительскую. В самую пору бы спросить: "Вы меня вызывали?"
Старую учительницу он узнал, она преподавала историю. Старого учителя он узнал, тот преподавал физику. Они подошли к нему, они были рады ему, разглядывали, довольные его внешностью.
– Узнал, узнал! – радовался старик. – Это был мой первый выпуск. Мы с вами тогда помоложе были, а, Шорохов?
– А я бы не узнала, если бы не Сережа. Отца узнаешь по сыну, таков уж способ узнавания у нас, у учителей. Я его классная руководительница. Вернулись? Все позади? Я очень рада, просто очень рада. Поздравляю вас. Сереже недоставало отца, знаете ли. Я очень рада. Я жду вас осенью, нам надо о многом поговорить.
Подошел директор или завуч, тот, кто вел собрание, поздоровался, уважительно взглянув на сильную руку Павла. Это был спортивного склада человек.
– Рад, что зашли, – сказал он. – Сейчас у нас собрание, загляните как-нибудь на неделе. – Он взял Павла под руку, вывел в коридор. Павел оглянулся, прощаясь. Знакомые старики и те учителя, которых он не знал, кивали ему, как своему.
– Мальчик очень замкнутый у вас, – сказал Павлу директор или завуч уже в коридоре. – Я все знаю, не раз беседовал с вашей бывшей женой. Прошу вас, обдумайте свою роль в судьбе сына.
Они снова обменялись рукопожатием, крепким, равным по силе.
Сын ждал у ступенек, по которым легко было сбегать. Правильно сделал, что побывал в школе.
– Учительская была полна народу! – возбужденно сообщил Павел сыну. Повезло! И с твоей классной руководительницей поговорил, и с физиком. И с директором. Спортивный такой мужик, с меня ростом. Но, может, он завуч?
– Они говорили обо мне? – спросил мальчик. – Ругали?
– Нет, Сережа, нет.
– Тогда о чем они говорили?
– Обрадовались, просто обрадовались, что я зашел. Старики даже узнали. Твоя классная сказала, что узнала во мне тебя. Вот так! Молодец, что велел мне зайти в школу! Вот устроюсь на работу, стану бывать здесь на родительских собраниях. Не возражаешь?
– Ты кем собираешься устраиваться? – спросил сын.
Счастливая минута прошла.
Они повернули назад, теперь Тимка их опять повел.
– Мать говорила вчера, что ты будешь в палатке торговать арбузами, а Валентин сказал, что ты за старое принялся.
– Торопятся, торопятся они с новостями, – сказал Павел. – Я буду тебе звонить. Когда лучше всего тебе звонить?
– Когда я дома, к телефону подхожу я. Мать не велит, чтобы Валентин первый брал трубку, а он не велит, чтобы она первой брала.
– Я буду тебе звонить по утрам.
– Хорошо.
– А теперь мне надо бежать. Мой троллейбус подходит.
– Беги, папа.
20
Павел так и сделал, он побежал через Садовое кольцо, погнался за троллейбусом, вскочил в него, увидел сына с собакой на другой стороне, увидел свой бывший дом неподалеку, увидел себя глазами сына, как бежал через улицу, жалким себе показался в глазах сына. И в нем вспыхнула ярость. Он ехал к Митричу, к этому Колобку, к этой заглавной букве "М". Надо было поговорить!
Митрич возился со своими аквариумами. Крошечным садком он осторожненько вылавливал крошечных рыбешек, любовно недолго рассматривал, вновь опускал в воду. Осторожный, заботливый, чудаковатый, прежде всего чудаковатый.
– Явился?! – увидел он Павла. – А Вера твоя у меня в кабинете слезьми изошла. Товар получен, а напарника нет. Марш, сударь мой, дорогуша ты моя, на работу.
– Погоди командовать. У меня к тебе два-три вопросика.
– Спрашивай. Но не здесь же, не в торговом зале. – Митрич быстро засеменил к проходу между прилавками, округло маня рукой за собой Павла.
Они вошли в кабинетик с аквариумами, где в углу притулилась безутешная Вера. Увидев Павла, она вскочила, бросилась было к нему. Он отстранился. Да она и сама поняла, что об него сейчас можно обжечься, сама отстранилась.
– Миленький, что с тобой?
– Веруша, ты выйди, нам надо потолковать, – округло повел рукой, указывая на дверь, Митрич. Вера поспешно вышла, кося испуганные глаза на Павла. – Ну? – обернулся к Павлу Митрич. – Я так думаю, обиделся ты на меня вчера. Прости, коли так. Виноват, подвыпил. Признаю, виноват. Нельзя мне пить, не в моем это характере.
– Скажи, Митрич, как ты получаешь товар?
– Дефицит этот, что ли? Мир не без добрых людей.
– Не дефицит, а левый товар, просто товар, но левый?
– Ну и вопрос!.. – Митрич задумался, разглядывая своих рыбок. – Это, что же, наш покойничек успел тебе что-то перед смертью шепнуть?
– Я сам себе шепнул. Не забудь, я был директором гастронома.
– Это мы помним. Восемь лет за деятельность свою получил. И это мы помним. Между прочим, а у меня ни одной судимости.
– В том-то и дело, в том-то и дело. Я так думаю, других подставляешь.
– Он шепнул тебе? Успел! А дефицит я на дефицит меняю. Вот пригнали сегодня в твой павильон пятнадцать ящиков абрикосов, а с меня за это попросят пяток баночек икорки. Я у них за деньги, они у меня за деньги. Весь навар, что редок товар. Шел бы, торговал бы, твой переулок, наверное, абрикосовым духом пропах. Покупатель слизнет за минуту. Делись с Веруней, что ухватите, мне от вас ничего не нужно.
Приотворилась дверь, заглянула Вера, услышав свое имя, жалобно позвала:
– Пашенька, пойдем!
– Притвори дверь, – сухо сказал Митрич. – Гляжу, мудрит твой Пашенька. – Он прикрикнул: – И не подслушивай! Иди к товару, не гноить же его! Ну, еще какие будут вопросы?
– Вопрос задан.
– Так и ответ выдан.
– Дефицит – это прикрытие, Борис Дмитриевич. Суть – в левом товаре, в неучтенном.
– Я так тебе скажу, Павел. – Митрич близко подошел, доверительно заглянул Павлу в глаза, устойчиво удерживая зрачки. – Когда человек болен, когда помирать пришла пора, тогда он невесть что может заподозрить. Мнительность эта от болезни. Но ведь ты не болен, ты еще молодой, сильный, тебе еще жить. Зачем же тебе всякая мнительность? Работай, получай прибыль, живи.
– А потом опять посадят, а ты опять без судимости. Я позабыл, но вспомню, что ты там делал у меня в гастрономе. Помню, ты там у нас крутился, закатывался к нам. Я тогда не обращал на тебя внимания. Жаль, что не обращал.
– Тут ты прав, Паша. На человека, какой ни на есть, всегда надо обращать внимание. Да, делаю вывод: нашептал тебе что-то наш Петр Григорьевич. Здоров был – не болтал. Это его болезнь расслабила. Он давно стал мне подозрителен. Как начал болеть, худеть. Нельзя с больными людьми дела делать. Что ж, увольняешься или еще подумаешь?
– Увольняюсь.
– А куда пойдешь? С такими вопросами тебя нигде у нас не примут.
– Вы да ваши – это еще не вся Москва.
– Это так, вот тут ты прав. Желаю удачи. И слезно прошу, ради тебя прошу: не береди ты душу чужими вопросами. Они умерли, мы их вчера вместе хоронили. Умер человек, с ним всё и ушло. А тебе жить.
Павел шагнул за порог, прихлопнул дверь.
Во дворе его ждала Вера. Она быстро подошла к нему. Она успела подсушить глаза, укрыть лицо молодым гримом.
– Черт с ними, с абрикосами, Паша, пошли ко мне. – Но пока она произносила эти слова, зазывные и зазывным голосом, тем голосом, который если и лгал, то лгал лишь отчасти, была в нем и искренняя нота, женская, ждущая, пока она подходила к нему, распрямившаяся, напрягшаяся, она поняла, что он не пойдет с ней, что его не удержать. Вера остановилась. Но надежда ее еще не покинула. Да и нельзя было ей так позорно отступать.
– Ты остынь, ты поостынь, Паша, после поговорим, – сказала она и вот теперь повернулась и быстро пошла от него, гордо вскинув голову.
Она – в одну сторону, он – в другую. И опять Павел припустил бегом, хотя не было на этой улице троллейбуса, за которым нужно было гнаться. Гон этот в нем жил. Он знал, куда путь держит, и он спешил. Вот только сейчас подумал о человеке и сразу – бегом к нему.
21
Этот человек был когда-то главным бухгалтером в том гастрономе, где директорствовал Павел. Прекрасный был бухгалтер, но его свалил инфаркт. Поправившись, он назад на работу не вернулся. Этот человек умел считать и умел прикидывать. Он сказал тогда Павлу: "Прикинул, если после инфаркта вернусь в гастроном, то меня хватит года на два, а если уйду на пенсию, лет еще с десяток протяну. Итог в пользу пенсии". И ушел. Стал возиться на своем дачном участочке, стал розы разводить. Не стеснялся, продавал их. У него даже место постоянное было, где он стоял с цветами, – возле Курского вокзала, у стены по левую руку, когда выходишь на площадь с перрона пригородных поездов Горьковской ветки. И он был такой человек, такой размеренности и постоянности, что наверняка, если еще жив, все там же и стоит со своим ведерком роз. Дважды за эти дни побывал Павел совсем рядом, улица Чкалова была рядом, но про Анатолия Семеновича Голубкова не вспомнил. А вот сейчас вспомнил.
Снова на троллейбусе по Садовому кольцу, мимо дома, где родился, где теперь жил сын, мимо места, на котором с час назад расстался с сыном. Так получалось, что он все время кружил по родным местам, не было роздыху его памяти. Даже когда стоял у окон квартиры Лены, и тогда не было роздыху его памяти.
Да, смотри-ка, Анатолий Семенович стоял на своем месте! Новшеством было, что он теперь стоял за легким сборным прилавком, в ярком цветочном ряду. Высокий, костистый, с седыми висками и багровой от загара яйцевидной лысиной. Новшеством было, что он теперь обряжен был в белый передник. Это делало его издали похожим на дворника, зачем-то забравшегося в цветник.
Павел, пока пересекал вокзальную площадь, пока разглядывал Анатолия Семеновича, все допытывался у себя: а зачем он сюда рванул, вдруг забыв толкнувшую его мысль. Старик давно отошел от дел, был смешон в своем переднике, предстоял тягостный, никчемный разговор. Чуть было не повернул назад, но и поворачивать теперь было глупо.
– Здравствуйте, Анатолий Семенович, рад, что все у вас, как было, по-задуманному, – сказал Павел, подходя к старику.
Тот ничуть не удивился.
– Здравствуйте, Павел Сергеевич. Это как же вам удалось три года скостить?
– Не три, а четыре. Больше года уже на свободе.
– Удивительное дело. Впрочем, узнаю вас. Напор! Целеустремленность! Вкалывали сверх всяких сил? Теперь ведь досрочные освобождения – редкость.
– Вкалывал сверх всяких сил.
К их разговору стали прислушиваться два кавказских человека, торговавших цветами рядом с Голубковым. И они уже сочувствовали Павлу, восхищались им, цокая языками.
– Есть разговор, – сказал Павел. – Не отойти ли нам в сторонку?
– Так я же при розах. Увянут, потеряют конкурентоспособность с кавказскими. Подмосковный цветок хорош своей свежестью, тем, что в чемоданах не задыхался. Только два часа назад срезал. Понюхайте! А эти, – старик покосился на товар конкурентов. – Принюхайтесь, от них бензином пахнет, нафталином, кислятиной. Это от роз-то!
– Я покупаю у вас все розы, – сказал Павел.
– Павел Сергеевич, тут на сорок рублей. Уступил бы по дружбе, но не имею права, подведу коллег, ибо такова на сегодня цена рынка.
– Покупаю, покупаю. – Павел достал четыре десятки, вручил их старику. Пошли, Анатолий Семенович, прогуляемся. Могу вас, если хотите, к поезду проводить.
– Благодарствую, но мне еще надо кое-что прикупить в Москве. Так, по мелочи. Погуляем. Если не возражаете, я пока цветы из ведерка вынимать не стану. Начнут увядать без воды. Вы не беспокойтесь, я ведерко сам понесу. До завтра, кунаки! Желаю и вам такого же клиента.
Кунаки в ответ снова зацокали языками.
Павел огляделся: куда же идти? Садовое гудело машинным надсадным гудом. Площадь перед вокзалом была заставлена такси, видимо, ожидался поезд с юга.
– Пойдем поплутаем по переулочкам. Выйдем к улице Казакова, там тихо.
– Без тишины какой же разговор, – согласился старик. Он снял передник, аккуратно сложил его. – А о чем пойдет речь?
Павел не отозвался, он шел на шаг впереди, прокладывая дорогу через привокзальную толпу. Он вспоминал, сколько же дней назад он тоже шел в подобной толпе возле Казанского вокзала? Совсем недавно шел, а показалось, что очень давно. А ведь в таком гоне жить нельзя, когда день – за месяц, сердце лопнет.
– Забыли про свой инфаркт на цветочках-то? – спросил Павел, когда они выбрались из толпы, когда вступили в кривой и грязный привокзальный переулок, который, Павел помнил, был самым коротким проходом к улице Казакова. Да, вон она, эта улица с облупившимся громадным шаром, изображающим глобус, перед входом в институт землеустроителей.
– Не забыл, но помню с благодарностью.
– С благодарностью?
– Так, дорогой вы мой Павел Сергеевич, если бы не этот инфаркт, я бы по малодушию и еще бы с годик с вами проработал, а тогда бы вместе с вами и на скамеечку подсудимых уселся. Такой баланс. Я восхищался вами, не скрою. Красиво работали, но... безоглядно. Есть такой недуг в начальственной среде: вседозволенность. Вы тогда этим недугом как раз и болели. Перед самым инфарктом своим я только по второй вашей резолюции бумажки и визировал. Так дальше работать было невозможно. Но тут повезло: инфаркт свалил. Он и спас.
– Помню, я тогда в автомобильную катастрофу угодил, – сказал Павел. Отделался ушибами. Если следовать вашей теории, то было бы лучше, если бы искалечился. Тоже спасся бы?
– Помню этот случай. Нет, вы тогда уже заступили черту. Подлечили бы и осудили бы.
– А где эта черта проходила, Анатолий Семенович?
– Вот и выбрели мы на тихую улицу Казакова.
– Так как же с чертой?
– Трудноопределимое понятие. Для этого вопроса и отыскали меня?
– Пожалуй.
– Черты, собственно говоря, такой нет. Особенно в торговле. Нарушений не избежать, каким бы умным ты ни был. Или осторожным, если хотите, трусливым. Все равно нарушения будут. Много бестолковщины в самом своде правил, установлений, предписаний. Крестным знаменем себя осенял, подписывая иную бумажку. Но что было делать? Торговля – живое существо, та самая корова, которую надо хлебушком прикармливать перед дойкой. Я это понимал. Но... я себе не брал.
– Брали все ж таки, наверное.
– По пустякам, может быть, не отрицаю. Соблазнялся какой-нибудь рыбкой, колбаской. Заметьте, всегда платил. Самолично шел к кассе и платил. А вообще-то слишком много у нас запретов в торговле. Эти запреты и плодят махинаторов, как это ни парадоксально. Замечали, как по весне ручьи прорывают плотину? Обходят, подныривают. Я бы упразднил сто параграфов из ста двадцати, я бы ввел – умная штука – бригадный подряд и в торговле. Коллектив магазина отчитывается выручкой, планом, а внутри себя – друг перед другом. Есть опасность, что в одном магазине разбогатеют, а в другом прогорят? Разбогатеют, но за хорошую работу. Прогорят, но не проворуются. Психология может пострадать, частнособственнические инстинкты расцветут? Простите, но уже расцвели. И особнячки возводят, и мебель красного дерева скупают, и автомобилями чванятся. Моя дочь, к примеру, на моем "Запорожце" стыдится в гости ездить. Мыльница, говорит. Но ведь колеса-то вращаются, свою функцию выполняют. Стыдится она, что я торгую цветами. Слишком мелкий, видимо, бизнес. Но я не краду. Поглядите, во что руки превратились. Гордиться бы ей надо было отцовскими руками. Замечу, деньги, которые я выручаю за розы, у меня берет. Ваши сорок рубликов к ней перекочуют, к дочке.
– Вернемся к моей черте, – сказал Павел.
– Говорю, нет черты. Скорее, это зона опасности, минное поле. Шаг сделали – обошлось, второй ступили – проехало. Третий, четвертый. Да минное ли это поле? И зашагали? И тут-то и подорвались.
– Но почему, почему я полез на это поле?
– Меня спрашиваете? Верно, почему?
– Убей, не пойму, когда и с чего началось.
– Верю. Так я же говорю: вседозволенность – болезнь, а болезнь подкрадывается к нам. Ваш случай не из сложных, Павел Сергеевич. Молодой, обаятельный, общительный. Даже фамилия у вас какая-то приятная – Шорохов.
– Ваша и того приятнее.
– А внешность? Повезло мне со внешностью. А вы везде зван, всем приятен. Наши женщины, помню, столбенели, когда вы проходили мимо. Проносились. Пролетали. Вас несло тогда. К благоразумным советам не прислушивались. Собутыльников приравняли к друзьям.
– Анатолий Семенович, вы помните Петра Григорьевича Котова?
– Как же, как же. Я с ним даже работал вместе. Но он из кочевников, а я за тридцать лет лишь два магазина поменял. Интересный человек, сильный человек. На чем-то он сломался, в молодые еще годы. Он ведь инженер по образованию. Сломался на чем-то, но на чем, не знаю. Замкнутый человек. Он тоже по минному полю ходит, но в отличие от вас, Павел Сергеевич, с миноискателем. С ним бы я инфаркт не нажил.
– Он вчера на другое поле попал, на Долгопрудное кладбище.
– Помер?! Котов?! Могучий же был человек! Инфаркт?
– Саркома.
– А, изъел себя! Так, так. А то еще на мотоцикле гонял, будто смерть ему была нужна. Так, так. А я вот жив, цветочки развожу.
– Анатолий Семенович, а помните вы Бориса Дмитриевича Миронова, Митрича, Колобка?
– Тоже помер?! – не сумел скрыть радости старик. – Туда ему и дорога!
– Нет, не помер. Напротив, процветает, бодр и весел.
– Тогда – назад, назад, беру свои слова назад. Вы их и не слышали, сорвались, отвык с людьми беседы вести, с цветами-то я говорю, что вздумается. Да, серьезный мужчина. Колобком звали. Помню, помню.
– Он там и у нас в гастрономе крутился. Зачем?
– Ну-у-у, Павел Сергеевич, дела давно минувших дней. А вы его самого спросите.
– Спрашивал.
– Вы от него ко мне?
– От него.
– Все же не дают, значит, вам покою дела давно минувших дней? Суд же был, все там выяснилось.
– Не все.
– Правда ваша, не все. Я на суде не был, реабилитировался тогда по поводу инфаркта, даже и свидетелем меня не стали вызывать. Но я за процессом следил, подробности мне докладывали. Как водится, это уж как водится, когда торгашей судят, весь клубок суду не распутать.
– А если мы, сами торгаши, захотели бы распутать?
– Тогда вы бравадой занимались. Вседозволенность, недуг тот, еще сидел в вас.
– Вылечился я от него.
– Вижу. Полагаю, что вылечились или, еще точней, вылечиваетесь, проходите реабилитацию. Нет, Павел Сергеевич, а вот про Митрича я вам никакой информации дать не смогу. Колобок, одним словом. Да и что я знаю? Цветовод – не счетовод. Устроились? Работаете?
– Устраиваюсь.
– На минное поле теперь – ни-ни-ни?
– Кабы знать, где тебя мины ждут.
– А все же, все же, если и от вседозволенности излечились, то мин на пути будет у вас поменьше.
– Далось вам это слово. Какое-то философское понятие.
– Заметил, все садовники в философию ударяются. Или прожекты строят, как я, к примеру, прожектерством занялся по поводу переустройства нашей торговли. Цветы молчат, кивают, одобряют. – Анатолий Семенович протянул ведро с розами Павлу. – А ведерко я вам дарю как оптовому покупателю. И еще в придачу совет... Павел Сергеевич, да ну его, Митрича! – Старик отдал Павлу ведро, поклонился ему. – Понадобятся цветочки – буду рад услужить. – Он повернулся, накренил свое костистое тело, заспешил куда-то по своим делам.
А Павел с ведром роз в руке побрел прямо, свернул влево, еще разок свернул и вышел – тут все места были хожены-перехожены – к дому парусом, где жила Лена, где было его временное пристанище. Лучше было не придумать место для этих роз, чем комната, где спала сейчас Лена. Она проснется, а на полу в ведре розы. И она улыбнется им, обрадуется, просветлеет ее строгое, в печали лицо.
Войдя в подъезд дома, Павел уверенно нажал на три кнопки – на двойку, пятерку и семерку. Он и дверь в коридор отомкнул уверенно, смело отпер дверь квартиры. Эту уверенность, смелость внушили ему розы. Мысль подарить целое ведро роз Лене была счастливой мыслью. Не таясь он вошел в ее комнату. Лена спала, откинув простыню: ей было жарко. Павел увидел ее нагой, прекрасной, как прекрасна нагота молодой женщины, чуть только изведавшей любви. Немыслимо было догадаться, когда Лена была в одежде, что так пленительны ее бедра, что такая совершенная у нее грудь, грудь женщины, но и девушки.
Дивясь самому себе, что не припал к ней, дивясь своей вдруг робости, нет, еще чему-то в себе, Павел, оглядываясь, вышел из комнаты. Он осторожно замкнул дверь, теперь он боялся, что Лена услышит его, тихо прошел по коридору, осторожно замкнул и другую дверь. У лифта, пока гудел к нему лифт, Павел вслушался, как колотится сердце. Он шагнул было к двери, но откачнулся, отбросив себя назад, в отворившийся лифт.
22
В просторном холле министерства, когда Павел, воспользовавшись своей пухлой записной книжкой, позвонил по внутреннему телефону одному из тех, с кем собирался побеседовать глаза в глаза, все пять лет вынашивая в себе миг этой встречи, по телефону с ним заговорила женщина.
– Да, был такой, но сплыл, – сказала Павлу женщина, и мстительно как-то прозвучал ее голос.
– Он что, в командировке, в плавании? – спросил Павел. Это ведь было плавающее министерство.
– В плавание уходят, а не сплывают, – сказала женщина. – Вы кто, моряк?
– Сухопутный. Где мне его добыть?
– Откуда мне знать? Да и знать не хочу! Сплыл!
– Вы не огорчайтесь, он всегда был таким, – сказал Павел.
– Я огорчаюсь? Каким – таким?
– Сплывающим. Хотите, я ему от вашего имени морду набью? Скажите только, где его найти.
– А это идея! Если верить слухам, он пасется в магазине "Консервы" на ВДНХ. И скажите ему, что его презирают!
– От кого привет?
– Он поймет! – Женщина бросила, нет, швырнула трубку.
– Неплохой способ узнавать адрес человека, – сказал Павлу стоявший в очереди к телефону невысокий морячок в невероятно заломленной фуражке с потускневшим золотым "крабом". – Действительно пойдете сейчас кому-то бить морду?
– Не исключено, – сказал Павел, листая записную книжку. В этом министерстве и еще были люди, кому бы он мог позвонить. Павел нашел нужный номер, но телефон уже был занят, в трубку баритонил тот самый морячок в фуражке, заломленной именно так, как смеет это сделать очень бывалый, исходивший все моря и океаны человек морской приписки.
Павел огляделся: и другие телефоны были заняты, шел разговор, так сказать, по всей флотилии. Занятное это было место. Отсюда, преодолев препоны, свершив вот эти телефонные разговоры, выправив затем нужные документы, люди уходили в плавание, на тысячи миль, на долгие месяцы. Тут стеночки подпирали капитаны и штурманы, специалисты всех матросских статей, которых судьба лишь случайно занесла так далеко на сушу, так далеко от их портов приписки. Может быть, они очутились в Москве, чтобы поставить крест на своем морском бродяжничестве, чтобы пришвартоваться к какой-нибудь женщине, к москвичке, пожить попробовать в столице, но вот и снова они в бюро пропусков, откуда прямой путь к морям и океанам. Обрекая себя на тяжкую работу, в гробу бы ее не видать. На месяцы, месяцы ввергая себя в соленую купель. И так – неделями, месяцами. Шторм, дождь, рыбья въевшаяся вонь, придира-капитан, трудный характер у команды – бросить бы все это к чертям собачьим. Но нет, ее нет – жизни без моря. Это единственная приемлемая жизнь на земле. Ну ее, эту Москву, этих баб с московской пропиской. Пользуйтесь, кому приспичило, а мы – в море.
Про это и шел тут разговор по внутренним телефонам. Моряки, рыбаки, случайно заскочившие в Москву, рвались в море, спешили, душа рвалась. Выйдут в море – и потянет на сушу.
Освободился телефон, бывалый морячок, счастливо улыбаясь, враскачку побежал к окошку за пропуском.
– Оформляй, барышня! Сейчас получу бумаги, вечерним рейсом во Владик! А там!.. – Своей радостью он делился со всеми, кто был в бюро пропусков. И все, кто был сейчас тут, все, но не Павел, радовались с ним и завидовали ему. А у Павла были другие дела, другие заботы. Ему тут трудно стало, он был тут чужим. Раздумав звонить, Павел пошел к дверям, сразу из моря вышагнув на московское знойное сухопутье. Худо было на душе. Но адрес он все же добыл, и радовало, что тот человек, которого он собирался увидеть, "сплыл" отсюда, что ему, это ясно, не сладко сейчас, что есть женщина в этом доме, которая его презирает. А он и заслуживал презрения: верткий, сволочной мужик.
Адрес повел, заставил снова нырнуть в метро, пересечь всю Москву, очутиться на ВДНХ.
Когда-то он любил бывать здесь. Это был город в городе, и это был город, где всегда жил праздник. Золотые фигуры главного фонтана, наново золотые, подновленные, все же были из прошлого, из недавней старины, из его молодости. Тут много было новых зданий, деревья разрослись, укоренились. Очень давно последний раз был он здесь. В молодости. Еще до той вихревой поры, когда крутило его по Москве, но все по иным местам – в Москве оказалось много кругов, разных для разных возможностей. ВДНХ – это было место для людей скромных возможностей, для студентов, для пенсионеров, для семейных выводков. Он и бывал тут, когда был студентом, когда шашлык по-карски казался да и был шашлыком по-царски. Где-то тут, укрывшись за высокими зданиями, была – сохранилась ли? – великолепная та шашлычная, посидеть в которой тогда было праздником, редким, ибо редко водились деньги. А потом, в том круге, когда денег было навалом, по иным местам гонял, ни разу не вспомнив скромную, царскую ту шашлычную.
Магазин "Консервы", помнится, был где-то по правую руку от главного фонтана, где-то совсем неподалеку. Павлу не хотелось ни у кого спрашивать, где этот магазин, хотелось доказать себе, что помнит выставку, помнит свои тут молодые шатания. Поплутал, но все же выбрел к почти круглому зданию, к помпезному строению, где в витринах красовались консервные банки, выложенные в замысловатые геометрические фигуры.
Торговый зал был невелик, хотя оглядеть его из-за вставших в нем квадратных колонн сразу не удалось. Торговля шла не бойкая, летом консервы и вообще худо идут. Несколько человек лишь стояли в очереди у прилавка с соками. Вот там, за этим прилавком, обряженный в белый, но измаранный уже томатным соком халат, и работал, занимая в магазине традиционно женскую должность, искомый Павлом человек. Он небрежно нацеживал в стаканы сок, небрежно мыл стаканы, небрежно отсчитывал мелочь. Равнодушие, брезгливость, но прежде всего отсутствие жили на его лице с барственными брылями, с чувственным ртом, с погасшими глазами. Небрежно был повязан его фирменный галстук, вяло падали на лоб с впечатанными морщинами серые космы. Никлый человек увиделся Павлу. Узнать в нем былого Олега Белкина было можно, но можно было и не узнать. Подменили человека, как говорится. Или сам себя подменил? Хватать такого за грудки, вперять в такого взгляд, требуя ответного взгляда, чтобы поймать на неправде, чтобы уличить, – да не пустая ли это затея? Не повернуть ли, не уйти ли?








