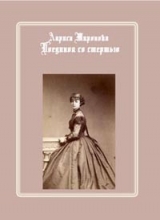
Текст книги "Поединок со смертью"
Автор книги: Лариса Миронова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Возможно, я и простила бы им действия против меня лично, ну, просто не стала бы заморачиваться на этот счёт, но они мучили также нещадно и всю мою семью! Девятимесячную внучку только чудом не поранили стекло и булыжники, в первую же ночь летевшие в окна моего дома, когда мы с детишками приехали в апреле на дачу… В её кроватку как раз и угодило два самых здоровых камня. Я до сих пор содрогаюсь при мысли об этом кошмаре. Они, эти злыдни, рвались ночью в дом, где живёт женщина с маленькими детьми, и где нет ничего ценного, в их понимании, с одной лишь целью – поозоровать и поджечь. Я ничего не могла понять – чем больше я для них, этих бедных, больных и заброшенных всеми людей делала, тем злее и коварней мне мстили «сильные мира сего», а «бедные» за которых я радела, с интересом наблюдали, чем всё это кончится… Было понятно и не так обидно – когда мстили местные бугры. А вот злорадство тех, ради кого я всё это терпела, было мне совсем непонятно и очень горько. Или мне, и, правда, давно уже пора начать действовать их же методами – взять и отомстить? Тогда, возможно, меня зауважают и сочтут за свою? Или они мне за что-то сами мстят? А мне на это не раз намекала моя соседка Рая. Но за что именно – им мне мстить?
Местное радио год назад каждый день бесстрастно сообщало, что убийцы журналистки Ларисы Пияшевой пока не найдены. А ведь уже прошло сколько времени. И это тоже была их месть?!
Да, здесь всегда и всем мстят, и ничего не прощают. Но я не знала за собой такой вины, которая была бы достойна столь жестокого отмщения. За что им мне мстить с таким остервенением, в самом деле? За то, что я хотела для них же лучшей доли, собачась с местечковым начальством по их же делам? Но им привычнее уныло и постыдно жить под своим «бугром», терпеть хамство и произвол, чем смириться с тем, что рядом с ними живёт человек, который вовсе не признаёт эти местные «авторитеты» и живёт вольно, согласно общечеловеческим понятиям о добре и зле. Да, теперь я понимаю, их раздражало моё неуважение этой постыдной традиции – вечной покорности обстоятельствам. Им это казалось высокомерием. Отрываться, мстя за свою неудачу, здесь должно было не на обидчике, а на том, кто или слабее тебя, или кого можно не бояться – в смысле ответной мести. Наглые гаврики, вместе с моими бумагами, сожгли и мою веру в то, что эти люди когда-нибудь прозреют и перестанут, ради сиюминутной выгоды, уничтожать себе подобных, себя и своё будущее – растлевая этой постыдной моралью своих же собственных детей. Тысячи людей, прочтя их, мои статьи о жизни на селе, так думалось мне тогда, научились бы видеть свет во мраке. Во мраке, в который всё глубже погружалось массовое сознание особенно здесь, в глубинке, где вообще нет никакой общественной жизни, кроме сарафанного радио ОБС —«одна бабка сказала»… Но это была страшная иллюзия. Моё понимание жизни села, вообще жизни – здешних людей, оказывается, их глубоко оскорбляло… На первых порах они меня воспринимали привычно – глупая ещё одна из Москвы понаехала… Жизни не знает, ничего, обучим. Однако моё упорное нежелание «учиться» их уже начинало бесить.
Эти несвоевременные мысли привели меня в сильное волнение – всё напрасно, да, я самообольщалась, теперь это уже окончательно ясно. Им начхать на все мои статьи, рассказы и прочие словесные откровения о жизни, той страшной жизни, которой они здесь живут, и которую я добровольно делю с ними уже скоро двадцать лет. Они не верят, не верят в отстутствие личного интереса. Меня всё ещё выспрашивают – зачем я сюда приехала? Мои объяснения не кажутся им убедительными. Но они всё же кое-что знают из написанного мною. Лучше бы этого вовсе не было! Мои слова их только злят, вообще читают хоть что-то здесь лишь единицы, да и то – чаще всего макулатурные коммерческие книжки из библиотеки. Они, эти карманные книжки шли, как жареные пирожки, нарасхват – один рубль за день. И только как бесплатное приложение к фирменной развлекаловке, читатели макулатуры могли прочесть и что-нибудь про жизнь, ту, которая рядом. К примеру, какие-то мои работы. Но таких было единично мало. А другие, осведомлённые о моих публикациях, знают о предмете лишь с чужих слов. Им всё равно, что будет с их селом, ведь «своя хата с краю» пока что стоит, а дальше этого края они не хотят и не будут смотреть. И бесполезно им объяснять, что свято место не пустует ((москвичи-дачники, вообще-то небогатые люди, вреда им никак не могли причинить, но их выжили из села, чтобы что?) и скоро здесь всё займут другие. Земли, а тем более леса и реки, нынче в цене. Да, ответ на вопрос прост. Бедных дачников выгнали, чтобы узнать приятную новость – скоро придут «благодетели» с толстыми кошельками. Но только им, бедным селянам невдомёк, что благодетелям с толстыми кошельками традиционное село и вовсе не нужно, им нужны только земля и наёмная рабсила, а от местного населения они найдут способ избавиться, и сделают это очень скоро. Но как им, бедным селянам, это объяснить сейчас, пока ещё не поздно, что нужно хоть что-то изменить и не допустить катастрофы?
Как поколебать их наивную, незыблемую веру в то, что всякое начальство, особенно местечковое, хоть и о себе не забывает, но всё же думает о народе, просто не всегда знает, как это сделать, чтобы стало всем хорошо?! Риторический вопрос. Они с готовностью приспособятся к любым обстоятельствам, но не потратят даже чуточку усилий, чтобы хоть что-то понять и действовать осознанно – в своих же интересах. Но такое вот приспособленчество – совсем не жизнь, это – медленная смерть. И они выбирают её. Мол, на наш век хватит, а дети. Так те уже в городе. Я не горевала о впустую потраченном времени на просвещение этих людей, более того, я чувствовала, как в моей груди отчаянно трепещет сердце при мысли о нелюдях, которые морочат запуганному «маленькому человечку» голову скорыми переменами к лучшему. Более того, в голове моей уже давно мрачно роятся мысли о возможном мщении. Роятся, но не более…
Однако вскоре мне уже порядком надоело думать о своих обидах. Мстить я всё же не хотела да и не смогла бы, конечно. Ничего, кроме слякотной душевной пустоты, месть не даст – это я понимала. Обстоятельства к лучшему от этого никак не переменятся. И ещё: я не могла, не должна забывать о том, что кроме этой серой, полукриминальной и разложившейся массы с разжиженными мозгами, постыдно пресмыкающейся перед «буграми», как своими, так и заезжими, обещающими райскую жизнь и торжество справедливости после принятия бутыля «чернил» или «палёнки» – здесь и сейчас, всё ещё есть, хотя и в очень небольшом количестве, простые, сердечные люди, которым тоже эта жизнь невмоготу, но сделать что-либо они уже не в силах.
Да – их слишко мало. Но они – важнее.
Вот потому и надо забыть о мщении, обидах, и просто жить дальше, жить так, будто ничего не произошло, каждый раз терпеливо начиная с нуля – и домоведение и отношения с людьми. Другого выхода пока я пока не видела. Я стряхнула с себя тяжёлое настроение, как прошлогоднюю пыль с пальто, посмотрела на беспросветное, сплошь покрытое тучами небо – оно устаршающе быстро темнело, беда… Стихия и не думала утихомириваться. Похоже, пока она лишь слегка разминала свои могучие мускулы.
Как бы в подтверждение моих предчувствий, издалека послышалось грозное протяжное урчанье. Затем, после минутной паузы, небеса словно разорвались на две части – очень близко сверкнул белый излом ветвистой молнии, затем раздался страшный оглушающий звук, источник которого, казалось, проник внутрь моего черепа – такой там стоял ужасный треск. Вода лилась теперь сплошной лавиной, и конца этому светопреставлению не предвиделось. Удары молний и раскаты грома продолжались с нарастающей частотой. Я знала, что стоять под железной крышей в чистом поле во время грозы опасно, но выйти под открытое небо, под проливной дождь было просто смертельно опасно – я уже едва дышала в этой, почти стопроцентной влажности. Зуб на зуб не попадал от холода. Всё тесней забивалась в мою голову лишённая всякого оптимизма мрачная мысль, что живой я отсюда уже не выйду. Самое отвратительное, что мысль эта была банальной и будничной и не вызывала страха. Однако она удручала меня, портила моё, и без того плохое настроение. Оставалось только молиться, и я повторяла и повторяла всё громче и громче одно и то же:
«Господи, помоги! Господи, пронеси!»
Но ливень и не думал прекращаться, раскаты грома звучали уже весьма угрожающе. И теперь мне начинало казаться, что дьявол всё-таки есть, и он сейчас здесь, где-то очень близко. Почему-то не хочет пустить меня в моё село, где у меня свой дом, где растут мною посаженные берёзки, ровесницы тысячелетия. Уже подрастает настоящая рощица, которую я создала по случайности, вырубив огромную ольху в огороде. От этого дерева, наполовину всё ещё живого (ствол лежал тут же, и от него вверх тянулись отростки, был жив и довольно высокий пенёк – его корни пустились плодить новые деревья вдоль моей речки, которая текла сразу за огородом), неурочная рощица и произошла. Конечно, это всё дьявол со своими проделками! Хотя, конечно, можно было бы решить, что это сам бог не хочет меня допустить до рокового места.
Нет, однако! Бог не станет этого делать, хотя бы потому, что всегда оставляет человеку право выбора и прекрасно знает, не может не знать, что я всё равно буду делать то, что решила. И от своего не отступлюсь. И уж своего дома, точно, не брошу. Раз я здесь мучаюсь, как бабы говорят, уже скоро два десятка лет, значит, это зачем-то нужно. Нет, конечно, всё это проделки дьявола, ему как раз и наплевать на волю частного лица. Именно он, замшелый либерал, и будет упорно навязывать человеку свои намерения. И он, как это ни печально, всё-таки на свете есть… Раньше, да, мне иногда казалось, что дьявол – это просто чьи-то злые придумки для какой-либо грязной пользы. Вся их совокупность.
Или дьявол – это некий дрянной человечишко, этакий харизматичный пиратишко с весьма приземлённым чувством юмора… Да, сатана – это просто нехорошие люди, которые не знают, что есть бог. Потому и творят зло – в полной уверенности в своей безнаказанности. Но как это влияет на природу? И потому то, что творилось в природе – здесь и сейчас, я не могла объяснить ничем иным, как именно проделками злой силы – кознями дьявола. Похоже, да-да, он, и в самом деле, есть, и он – не всегда просто человек. Это весьма неприятно, однако. Но я ничего не смогу с этим непреложным фактом поделать. Косой холодный ливень хлестал всё сильнее, угрюмо клубились чёрные тучи. Асфальт на дороге просто шипел и булькал, как бульон – он весь был густо покрыт пузырями. Иногда безумные порывы ветра стихали, ливень хлестал не так отчаянно, но вновь оказывалось, что стихия лишь набирала силы перед новой яростной атакой… Вдалеке, на горке, смутно виднелась лесопилка. Там, наверху, отсюда хорошо видно, этот порывистый ветер проносится настоящим смерчем, спускаясь затем в низину, замершую в полном безмолвии, где лишь еле слышно шепчет трава да зябко стучат друг о дружку испуганные мышки – камыши…
Становится всё темнее и темнее, словно уже наступил поздний вечер. Но вот мир вздрогнул и горку, всю её вершину, внезапно залил океан огненных красок. Деревья заметались в этом пламени и вдруг, словно сведённые судорогой пальцы, замерли на мгновение, ярко освещённые рвано сверкнувшей огромной длинной молнией. «Господи, помоги!» – кричала я, и мне приходилось напрягаться, всё больше повышая голос, чтобы перекричать стихию и докричаться, наконец, до всевышнего… Но он, казалось, меня вовсе не слышал или… жестоко испытывал? Как знать? После секундной тишины раздался оглушительный треск. Сначала слабо, как бы сердито и нехотя зарокотав, потом, ударом в чудовищные литавры, грянул оглушительный дивертисмент. Через минуту – блистательный ремейк. Но вот в природе наступило перемирие. Ветер на время стих. Дождь тоже немного утишился. Это условное безмолвие природы, однако, вскоре снова нарушилось регулярными, с нарастающей силой рвущимися ударами молний и длинными раскатами грома. Отчаяние моё достигло предела, мне уже стало всё равно, от чего я умру – от переохлаждения и нехватки воздуха или от удара молнии. Такой грозы мне ещё не доводилось видеть.
Я приготовилась, по возможности, спокойно принять решение судьбы в том виде, в каком оно мне будет в скором времени представлено, и сразу же немного успокоилась. Надо просто немного ослабить сопротивление, тогда уменьшится и натиск. И в тот самый момент, когда я уже закрыла глаза и напряглась каждой мышцей – это помогало хоть чуть-чуть согреться и перестать думать о холоде и сырости, молния сверкнула в последний раз, ещё раз грянул прощальный раскатистый гром, и как-то сразу всё стихло. Стихия вскоре окончательно унялась, возможно, потеряв всякий интерес к бессмысленным испытаниям над вечной природой и вполне уже смирившимся одиноким человеком. Солнце несмело и как-то стыдливо – очевидно, за свой недобрый сговор с непогодью – глянуло в прореху между разбегавшимися низкими тучами и вновь исчезло… Оно пока тщетно пыталось пробиться сквозь сплошную тёмную массу, всё же, хоть и очень медленно, но уползавшую и уползавшую куда-то на восток. Стало теплее, и я, взяв сумки в непослушные руки, пошла по мокрой, в сверкающих лужах, дороге на негнущихся, совсем будто деревянных ногах. Ходьба согревала. Прошло совсем немного времени, а я уже радуюсь жизни, совершенно забыв о том, что ещё какие-то минуты назад если и не готова была смиренно проститься с этим миром, то находилась в состоянии, всё же весьма плачевном… Так или иначе, гроза проворно сбежала, облачные свитки также спешно расползались по неправдоподобно чистому, умытому дождём синему небу, а я в слепом пылу, забыв свои недавние страхи и мрачные мысли, неслась прямиком к своему дому.
Это счастье.
Ходьба окончательно разогрела меня, впереди показался наш лес, через него, если напрямую, всего ничего – около двух километров до села. Я поставила сумки и низко поклонилась, как всегда кланялась, когда входила в лес и рядом никого из людей не было.
Ну, здравствуй, милый!
Несколько часов мы проведём вместе, в полной гармонии. Я буду безмятежно существовать в лесу – этом волшебном, таинственном царстве растений и всякого разного зверья и постараюсь ничем не нарушить вековое равновесие этого дивного мира. В эти чудесные часы я имею полное право не думать о тех, которые неустанно источают ненависть и повсеместно сеют зло – по воле алчущего хозяйчика.
Здравствуй же, лес! Только не говори мне: «Здорово, дерево!», я ж к тебе по-человечески.
Внимательно приглядываюсь, есть много нового. Он, этот лес, уже чуть-чуть не такой, каким был прошлый год. Лес постоянно меняется, так же, впрочем, как и человек. Я страстно любила эти деревья, траву, зверьё и птах, всех тех братьев наших меньших, которые нашли себе здесь кров и дом. Каждый раз моё сердце начинало учащенно биться, когда в первый раз после зимней разлуки входила я под его сень. Смешанное чувство всегда овладевало мной – огромного счастья и очень-очень белой зависть. Зависти к тем, кто мог бывать здесь каждый день, и зимою тоже…
Если бы можно было жить в лесу всегда, если бы обстоятельства позволяли, я бы, не задумываясь ни на секунду, осталась бы здесь, среди этих вековых деревьев, в чудесном гармоничном мире – обществе незлобных птиц и дикого зверья…
…Когда я училась в университете, на первом курсе, у меня ровно под Новый Год появилась, неизвестно каким путём, новая отчаянная мечта. Я тогда приняла для себя тайное решение, которое, конечно же, не смогла исполнить: после получения диплома физика переквалифицироваться в лесники, уехать в тайгу, взяв с собой только книги, целую машину книг, чтобы поселиться в маленьком лесном домике, и зажить там одиноко и счастливо. Чтобы рядом только книги, деревья, птицы, лисы, зайцы… Солнце и луна едва видны через ветви верхнего яруса леса… Ну да, конечно, разное зверьё да птицы… И всё. Этого вполне хватит. Людей я уже итак много видела. Пусть они отдохнут от меня., а я по ним как следует соскучаюсь.
…Однажды знакомый лесник показывал, как проверяют наличие зайца в норе – он туда засовывал удочку с крючком на конце, затем прикладывал удилище толстым краем к уху и прислушивался – малейшее шевеление могло выдать обитателя норы. Даже уединённая жизнь на острове, посреди моря, в окружении бесконечной воды, а это была моя главная детская мечта до знакомства с лесом – чтобы плавать часами круглый год, мне теперь уже не казалась такой привлекательной. Лес победил мою первую любовь – море.
Когда я во второй сезон здешнего проживая заявилась сюда аж четвёртого марта (в Москве уже неделю стояли лужи, и люди ходили по-весеннему), здесь ещё лежал рыхлый, свежий снег в пояс. Работы в огороде в такую пору нет, по понятной причине, вот я и гуляла по лесу целыми днями. Именно тогда мне встретился лесник. Он меня увидел первым, я шла по тропке и глазела на вершины сосен.
– Вот лиса на тя смотрить, – говорит он мне.
Я глянула – и правда, лиса за кустом, только хвост мелькнул. Мне хотелось броситься на шею леснику, обнять его крепко, горячо расцеловать, но моя многочисленная одёжка превратила меня в настоящий качан капусты – на мне было, кроме моей куртки: ватник, плащ и длинное мужское, ещё хозяйское, доисторическое пальто с такими же архаичными, огромными пуговицами. Лесника я очень уважала и тайно нежно любила – и вообще, и в частности. Это был, в своём роде, мужчина моей мечты. Человек, который по роду своей профессии каждый день бывает в лесу, много лет смотрит за ним, охраняя от пожаров, вандалов и разных хулиганистых туристов, по определению не может быть плохим человеком. Так мы познакомились лично, и я часто вместе с ним отправлялась на обход. Я рассказала ему, что когда-то мечтала стать лесником, но в лесники с дипломом университета не брали, к тому же, у меня тогда уже были дети. Он охотно показывал мне ягодные и грибные места, рассказал сотни волшебных историй про лесных обитателей, вобщем, просветил меня и чудесным образом скрасил неурочную «зимовку» в тот год, когда я так легкомысленно заявилась сюда в дикий мороз, налегке, в самом начале весны… В одну из таких прогулок я видела небольшую рысь на дереве. Он мне показал, я бы сама и не заметила её на такой высоте…
У него был свой способ – охотиться на крупного зверя без ружья. Однажды я сидела в лесной сторожке, пила чай из сухих брусничных листьев и молча наблюдала за его работой. Он как раз готовил оружие для такой охоты. Сначала растёр какие-то семена в плошке, потом долго жевал и сплёвывал туда же толстые упругие корешки, затем, достал из подпола банку с ядовитыми личинками, которых он накопал под землёй ещё осенью, и снова перемешал всё вместе, наконец, стал вдувать через трубочку эту массу в небольшую полую кость. Рядом на лавке лежали маленькие, в ладонь, гарпунчики – такие игрушечные, по виду, стрелы. Он аккуратно засовывал наконечник стрелы в кость, держал там секунд десять, потом клал стрелу на блюдо сушиться. «Это самый страшный яд, от него нет противоядия», – сказал он серьёзно. – «Да? Так страшно?» – спросила я, всё ещё думая, что он меня разыгрывает. – «Но есть один приём», – успокоил он меня. Я не поверила и попросила взять меня с собой на такую охоту. Он как-то странно посмотрел, но согласился. Такой случай вскоре представился. Мы стояли в глуши девственного леса. Он вдруг гортанно зарычал, ему немедленно ответило несколько голосов. Я уже запоздало сожалела о своём нездоровом любопытстве и начала уговаривать его поскорее уйти отсюда. Он сделал мне знак – молчать. Затем лесник прицелился на звук самого громкого рыка и аккуратно пустил стрелку. Тут же на землю, почти нам под ноги, сверху шмякнулась небольшая рысь – яд вызывал немедленный паралич мышц диафрагмы… Я была близка к обмороку. Мне стало очень жалко это существо, убитое по причине только и только моего праздного любопытства. Лесник, однако, был сосредоточен и лишь криво ухмыльнулся. Я его ненавидела в этот момент.
А дальше он повёл себя очень странно – подошёл к рыси, перевернул её на бок, сильно сдавил двумя пальцами место, куда попала стрелка, выдернул её, затем снова сдавил. Показалось несколько капель крови.
Так повторилось несколько раз. Рысь по-прежнему не подавала признаков жизни и лежала бездвижно. Тогда он каким-то приборчиком типа маленького пистолета пробил рыси ухо, после чего коленкой сильно надавил ей на грудь. Она встрепенулась и начала дышать. Я была в шоке. Мы быстро покидали это место – моего позора и торжества его умения. Потом уже лесник мне объяснил, что таким способом он клеймит диких животных, вставляет им в уши маячки, чтобы учёные могли изучать миграцию животных. Смертельный яд в таких дозах быстро выйдет из крови, главное здесь – немедленно заново запустить автоматический рефлекс дыхания. Само животное этого сделать никогда не сможет. Я перестала на него злиться и ещё больше зауважала. Да, этот человек, лесник, был для меня настоящим волшебником. Тогда, в мою первую весну в этих краях, первый месяц весны выдался на редкость холодным. И только двадцать пятого марта, когда солнце уже поднялось на летний круг, пришло тепло и в эти края – одномоментно и повсеместно началось бурное таяние.
Всё-таки природа, по крайней мере, здесь, всё ещё живёт по народному календарю. Я уже не могла так беспечно бродить по лесу целыми днями – больше нечем в эту пору заниматься. Вокруг стволов вековых деревьев неспешно начинал обтаивать снег, выступила тут и там влажная, напитанная пробуждающейся жизнью, почва. Она сплошь была покрыта прелой прошлогодней листвой и высохшими бурыми стеблями трав. И вот это, похороненное под снегом, прошлогоднее лето, пробудив воспоминания, заставило больно сжаться моё сердце. Природа словно давала последний шанс, ещё одну попытку своим творениям взглянуть на солнце, прежде, чем молодая зелёная поросль пробьётся наверх, старое родит из себя молодое, и начнётся новый круг жизни. Апрельские зори быстро становились светлее. К запаху хвои всё сильнее примешивался свежий, неповторимый запах оживающей земли. В это время серые вороны парами переселяются в лес, подальше от людей, подле которых им поневоле приходится коротать голодную зиму. Здесь, в лесу, они отыскивают большие сучья и складывают из них на высоких ветвистых деревьях большие гнёзда.
В нашем лесу много всяких птиц, видела, и не раз, сову – серую, опять же, неясыть. На высокой кривой сосне, на вырубках, повстречался как-то раз бурый беркут. Крылья у него такие, что, пожалуй, и все два метра будет в размахе. Повезло мне однажды увидеть и парящего над лесом подорлика. Ястреба-перепелятника встретить можно всякий раз, как пойдёшь с утра пораньше на свидание с лесом. Он красивого дымчато-серого цвета, словно матрос в тельняшке – полоски поперёк груди. Обрубки крыльев и длинный хвост – его ни с кем не перепутаешь… Ястреб не парит, как орёл, и не кружит над лесом, а пролетает низко-низёхонько, брюшком почти касаясь вершин деревьев, а то летит и в самой гуще, выслеживая корм и внезапно бросаясь камнем на добычу. А уж сколько здесь сарычей с экстравагантными бурыми узорами на белоснежном исподе груди и крыл. Птица говорящая, которая живёт у меня и озадачивает людей своими нескромными вопросами да криками, и есть этот сарыч. Птица кричит громко, звонко, её далеко слышно. Если ей всё равно, кто её будет слушать, она кричит так:
«Эй! Э-ге-гей!»
Это может означать, к примеру, следующее: «Чем бы таким интерсным заняться, пока есть свободное время?» А вот ещё интересная птица – бурый коршун, у него хвост вилкой. Селится он на самых верхушках сосен. Он тоже, как и птица сарыч, не боится находиться близ людей. В Москве пары коршунов иногда гнездятся в больших лесопарках, летом кормятся на бойнях, не брезгуют и посещением помоек, если конечно, украдьми… Коршун и ястреб – хищники, они уничтожают мелких птах, а вот сарыч, верный друг человека, ест охотнее всего мышей-полёвок и ящериц. У сарыча изогнутый по-арабски клюв и большой страстный глаз. Есть здесь и яркорыжие пустельги из породы сокола. Всех их можно без труда отличить по голосам. Ранней весной, как только проступят в лесу проталины, появляются у опушки дрозды-рябинники. Они кричат так, будто это трещит сорока.
Они появляются здесь первыми, а за ними уже тянутся дерябы и белобровики, черные и певчие дрозды. Вот тоже персонаж – певчий дрозд. Для исполнения своей песни садится на самую вершину молодого дерева и поёт весь вечер напролёт, до полного упадка сил, иногда прямо так и сваливается вниз, под дерево. Весь, без остатся, отдался искусству. У него есть конкурент, и может так случиться, что его песню, круглую, полнозвучную, вдруг начинает перебивать соло черного дрозда. Но если, обидевшись, певчий дрозд замолчит, тишины всё равно не получится – тут же вступит со своей арией коростель, или зяблик какой-нибудь нескромно влезет со своей скромной песенкой. А зяблика, с его красной грудкой и белыми полосками на крыльях, можно видеть, когда ещё листьев на деревьях нет… Если, бродя по лесу, вдруг заглянешь в дупло, то, очень может быть, оно окажется заселённым – там может встретиться ну… хотя бы ворчливый клидух, это такой лесной голубь. Красавец редкостный – гузко у него под хвостом белое-белое или чуть сизоватое. Однако больше всех шумит в лесу, конечно, пёстрый дятел. Вот и долбит он деревья да сосновые шишки, выбирая из них любимое лакомство – питательные семена. Сидя на сухом сучке, он бешено колотит клювом по нему, выходит точно треть. Но шумят, конечно же, самцы. Своими криками они подманивают к себе симпатичных самочек. Петь они продолжают и после свадьбы, потому что это очень вежливые и покладистые в семейной жизни птицы. Они таким способом развлекают своих подруг, пока те сидят на яйцах. И песни эти уже не такие темпераметные, как в период первого ухаживания и обволакивания, в них больше хорошей весёлости и сантиментов. Умолкнут они только к лету, когда множественные птенцы вылупятся из яйц, и этих прожорливых детишек надо будет срочно кормить. Тут уже не до песен, ясное дело. Песня птицы очень много для неё значит – так она выражает свои, порой очень сильные чувства. Некоторые певчие птицы во время ухаживания просто с ума сходят, ну прямо как люди! Ещё по снегу, на вечерней заре, издали можно слышать глухие воркующие звуки, какое-то странное бормотанье…
И кто это такой? А это сидит где-нибудь на дереве косач – тетерев-самец, чёрный, с голубым отливом. Белое подхвостье и красные бровки на длинном хвосте… Крайние перья, как лира, загнуты в стороны. Его воздыхания, точнее, бормотания адресованы тетёрке, а она вся рябая, как курочка-ряба, ржаво-коричневая, в небольшими такими пятнышками… Токуют они ранней весной, и как обнажится земля, они тут же летят на зорях большими компаниями на токовища, собираются на больших полянах. Здесь, на полянах, и начинается ток, типа аглицкий клуб – разговор ведь идёт по-английски на этих мальчишниках… О чём? Конечно же, о былых подвигах. Расхаживают друг перед другом, бормочут себе и бормочут, а то вдруг кто-нибудь возьмёт да и испустит громкий крик: «Гуф-фы! Гуф-фы!»
Что, возможно, означает: «А ну его, этот аглицкий, не сплясать ли нам комаринскую?» Птичью, разумеется. И тут же начинается скок и пляс и всякое веселье. Распустив крылья и хвосты, они самозабвенно пляшут. Но если случайно, или как-нибудь ещё, один косач «наступит на ногу» или, потеряв координацию, вдруг налетит на другого, тем самым как бы усомнившись в правдивости иных откровений косача-суперптаха, тут и начнётся бой, ну точно как у петухов. Мушкетёрские дуэли просто детская забава по сравнению с этими косачиными драками… Так они себя заводят перед очень ответственным делом и, конечно, устанавливают приоритеты – чтоб каждый сверчок, то есть, косачок, знал свой шесток, то есть, своё место под солнцем. И не пыжился занять чужое… Но вот уже солнце встаёт над лесом, ток закончился, пора от разговоров переходить к делу. Косачи деловито разлетаются – на поиски самочек. Искать их долго не надо – они уже давно тут как тут. Расположились поблизости в кустах и судачат друг с дружкой, совершенно не стесняясь в выражениях, о достоинствах претендентов.
Это восторженному косачу только кажется, что он сам выбирает себе подругу – в глаза ему бросится именно та, которая сама его уже загодя выбрала, наблюдая за током украдкой из кустиков. «Добрые люди» приходят на ток не только полюбоваться птичьей игрой, а и чтобы руку правую потешить – пострелять беззащитных птичек. А влюблённая птаха ещё более беззащитна, чем влюбённый человек… Охотники с вечера готовят себе шалаши близ тока и караулят птиц. И только умный глухарь, это такой тетерев размером примерно с индейку, обитает в самой глуши, токовать отправляется и вовсе на болото, вне компании, но когда сам с собой ведёт неспешную беседу – в смысле, «быть или не быть битым», может случится так, что выпадет ему совсем не второе. И здесь его настигают добрые люди. Вот он увлёкся пением – глухо пощёлкивает, потом слышно несколько ударов, и вот звук становится похожим на точение ножа о брусок: «вжик… вжик…». Потом секунда-две пауза – и снова самозабвенное щелканье.
Романтично настроенная птица, вся в эмоциях, так увлекается своими сложными душевными переживаниями, что к середине песни уже полностью утрачивает чувство реальности – ничего, кроме совего пения, она не слышит в эти минуты. Вот тут, когда уже совсем от счастья башню снесло, как раз и случается то самое роковое не «не быть…» «Добрый человек», охотник, скачками, быстро-быстро, приближается к дереву, на котором токует совсем уже отключившийся птах.
Безбашенная птица, поёт, а «добрый человек» замирает, подняв голову, и кровожадно ждёт конца песни, чтобы свершить своё чёрное дело… Токуют, однако, не только тетерева, но и лесные кулики. Только у них это называется не ток, а тяга, как у паровоза. С ранней весны до начала лета вальдшнепы, лесные рыжие кулики, с узором на перьях и очень длинным клювом, всё тянутся, тянутся… Он, безвинный перед человеком кулик, несёт тот же крест, что и дупель, что и бекас. У него очень вкусное мясо, и об этом, конечно, знают добрые люди под названием охотники. Тяга начинается ещё по снегу. Птицы поют в лесу от зари до зари. Но только зайдёт солнце и стемнеет, птицы враз смолкают. И только громкий голос чёрного дрозда продолжает разноситься по притихшему лесу.




