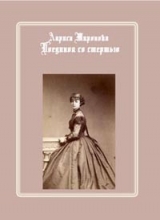
Текст книги "Поединок со смертью"
Автор книги: Лариса Миронова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Так этот разговор ничем и не закончился.
ЧАСТЬ II
Буйство природы
Погода быстро менялась. Солнце, не успев подняться, тут же поспешно скрылось в сплошной облачной полосе. Накрапывал мелкий дождик. У меня в руках по сумке, не очень тяжёлые, но всё же… Однако добираться как-то надо, не сидеть же здесь до завтра! Беру билет до ближайшего села в моём направлении – туда автобус ходит пока ещё каждый день. Но хотя бы это, всё-таки почти треть пути. Оттуда по просёлочной дороге пёхом, ноги бить километров двадцать. Выбрала себе дальний, тёмный уголок, устроилась, на часы поглядываю. Тут ещё одна женщина рядом устроилась, сижу, жду объявления на посадку. Шумно откидывается дверь. В зал ожидания входит бугай в лиловом спортивном костюме, приближается ко мне, и, глядя прямо в расписание за моей спиной, сквозь меня, будто стеклянную, хрипло так говорит:
– Такси надо кому?
Все молчат. Молчу и я. Он неспешно прошёлся по залу.
– Что, сказать никто не может?
Теперь он, привалившись к двери и выставив правую ногу вперёд, смотрел прямо на меня. Смотрел – с бесцеремонным любопытством хитро сощуренных припухших серых глаз. Его тёмные жёсткие волосы были коротко стрижены, но длинная чёлка закрывала почти весь левый глаз. Плотный живот свисал над массивным, с металлической пряжкой, ремнём. Эта поза придавала ему слегка карикатурный вид, он словно сошёл со страниц комиксов. Маленький курносый нос на широком, круглом лице был приплюснут и сильно блестел. На какие-то минуты он застыл в нерешительности, солнечный луч скользнул по его непомерно широкому, крутому плечу. Он, болтая ключами на пальце, делает шаг мне навстречу.
– Не надо такси, спасибо, – говорю я.
– Почему? – угрожающе спрашивает он, скрещивая руки на груди и ударяя ногой в дверь – она распахнулась.
Если бы он был не так вызывающе наряжен, а был бы одет в просторный синий, или серого цвета, костюм, как здесь обычно ходят мужчины среднего возраста, и который можно купить недорого в воскресенье на рынке, и на нём красовался бы большой цветной галстук в полоску, никакого раздражения его вопрос, возможно, и не вызвал бы. В его наружности не было бы ровным счётом ничего примечательного. Но сейчас весь его вид был вызов! Я не отвечаю – зачем? Он ушёл, а на душе остался осадок – откуда этот тип? Вчера среди таксистов я такого не видела.
– А наглый какой! – сказала женщина, сидевшая рядом со мной. – Уже силком свои услуги навязывают. Вынь да положь кошелёк ему в лапу.
– Вы не знаете, кто это? – спросила я женщину.
– Да это ж Магриба! – сказала она шёпотом.
– Не знаю такого, – говорю, прикидываясь местной.
– Через два дома от батюшки живёт.
– А, ну да… – сказала я, будто вспоминая этого наглого типа.
– Три раза сидел.
Но тут разговор прервался – из служебной двери вышла женщина и объявила посадку на автобус, при этом сердито сказав, глядя на мои и соседкины сумки:
– За багаж кто платить будет?
– Да здесь немного веса, меньше пятнадцати килограммов – сказала я, поднимая пакет, в нём стояло ведро с рассадой.
Вторая моя сумка, вполне компактная, была и вовсе на руках, килограммов пять, не более. Женщина ничего не ответила и, сердито сверкнув полосато накрашенным глазом, неторопливо пошла к автобусу, на ходу оглядывая других пассажиров. Мы потянулись за ней. Водителя в кабинке не было. Однако на посадке она строго потребовала, чтобы я оставила «багаж» для взвешивания. Я удивилась, где ж они возьмут весы. Она сказала, что весы здесь, рядом, на этой вот убогой привокзальной площади. Рядом бабульки продавали свой товар – картошку и молоко. Картошку «взвешивали» вёдрами, а молоко – трёхлитровками. Однако моё возражение не возымело действия. Она быстро схватила мою сумку, стоявшую на нижней ступеньке автобуса, и передала её тому самому бугаю, Магрибу, вертевшемуся тут же. Он схватил сумку и размашисто зашагал к хозяйственному магазину. Когда я увидела, что мою сумку уносят неизвестно куда, но понятно, зачем, то мой, пока ещё сдерживаемый гнев тут же вырвался наружу. Я, не стесняясь в пёстрых выражениях, громко обзывала их «ловкими грабителями» и далее по списку, грозила, что пожалуюсь на них в милицию, а если понадобится, то и в саму прокуратуру, но все мои отчаянные крики раздавались в полной тишине – никто из пассажиров меня в моём протесте не поддержал. Всё их внимание было приковано к Магрибу, который, отойдя с моей сумкой на приличное расстояние, устроился на скамейке и бесцеремонно копался в её внутренностях. К счастью, то, что он, вероятнее всего, искал, лежало в кармане моей куртки, деньги и документы в сумках я уже давно не ношу. Однако я не побежала за ним, справедливо предполагая, что пока я буду за бегать за Магрибом по привокзальной площади, автобус благополучно уйдёт и мне придётся ждать следующего или… ехать с Магрибом. В той сумке был лишь пакет с бутербродами, несколько ранних отварных картофелин в мундире и бутыль с питьевой водой, ну и ещё кое-какие хозяйственные мелочи – из одежды, инвентаря и предметов туалета. Однако стратегический запас жизненно необходимых вещей я, конечно же, не оставлю, потому и кричала на моих обидчиков почём зря. Со словами: «какая экономная!», Магриба, весьма разочарованный и злой, вернул-таки сумку и вразвалочку удалился. Контролёрша разорвала мой билет пополам и пропустила меня в автобус. Пассажирка, сидевшая за мной, постучала меня большим пальцем в плечо и, когда я повернулась, перекинула мой медальончик с изображением Казанской на грудь.
– А, это… Спасибо, – сказала я смущенно, поправляя цепочку и улыбаясь ей.
Она засмеялась и произнесла шёпотом:
– А я уж подумала, что это мода такая – иконы на спине носить. Как жизнь?
Я едва в ней узнала женщину, которая когда-то встретилась мне в аптеке. Она искала для ребёнка рутин, а его в ассортименте не было, и я отдала ей две упаковки из своего запаса – я теперь всюду езжу с аптечкой, особенно, если со мной дети. Эта милая женщина до сих пор помнила меня и, наверное, испытывала благодарность, хотя услуга с моей стороны была копеечная – пачка рутина, мы тогда уже готовились к отъезду в Москву. Она мне и рассказала, тоже шёпотом, что все мои бумаги, которые хранились в деревенском доме – на этажерке и в большом сундуке у печки, сожжены. Я там держала, в основном, газеты и журналы, в которых были мои публикации, – на тот случай, если вдруг кто-либо заинтересуется моими работами.
И ещё. Она шёпотом рассказывала, словно боялась, что нас подслушают, что сделали это сразу же после нашего отъезда в августе электрики, которые взломали замок и вошли в дом якобы с проверкой пожарной безопасности. Меня это сообщение порядком расстроило, с горя у меня тут же разлилась желчь, но я понимала, что этого следовало ожидать. Местное население, условно говоря, делилось на три группы – милых и добрых людей без права голоса, терпеливо сносящих всё то, что выпадало на их долю, на ухватистых и наглых «бугров» (в эту же группу входило всем списком и разного рода начальство, то есть все те, от кого хоть что-либо в этой местности зависело), и, наконец, самая большая группа – средних, то есть тех, кто предпочитал ни во что не мешиваться, жить сугубо своими заботами, не иметь своего собственного мнени и примыкать к тому, кто в данное время был в силе. Так кому помешали эти газеты и журналы, и почему их надо было публично сжигать? Статьи о лесе, о местных красотах, о зоне, наконец, где в начале девяностых самоотверженно трудилась горстка офицеров – менее половины состава, которым, к тому же, больше года как не платили зарплату, а производство на зоне стояло, и ворота на волю были открыты. Организовать массовый побег или кровавый бунт в то время было проще простого. Но этого, к счастью, здесь не случилось. Чтобы прокормить себя и зэков, они, эти отважные люди в погонах, не бросившие свой пост в жутчайших условиях, сотками сажали на участках вокруг зоны картошку, капусту, лук и огурцы, чтобы кормить зэков…
Тогда я, возмутившись происходящим, от своего имени подала письменную жалобу в правительство и генпрокуратуру. Мне ответили скоро и чётко – отказом, сопровождаемым угрозой возбудить против меня дело за клевету. А в приватной беседе со мной начальник зоны, где я пристально «изучала обстановку», изивинившись, что больше не сможет выписывать мне пропуск на территорию, намекнул, что меня могут даже, при желании, признать государственным преступником, если я ещё раз заикнусь об этом. Однако зарплату им всё же выплатили, полностью, что, увы, уже не имело такого значения – бешеная инфляция! Этот монстр… Да, инфляция стремительно съедала всю наличность. Кто-то на этой разнице хорошо наваривал. Разумеется, так было везде – кое-кто хорошо на этих всесоюзных «задержках» погрел руки. Бешеные деньги в те времена были самым ходовым товаром, денежную массу ловкие люди тут же пускали в оборот, получая свои немерянные воровские проценты, сколачивали состояния. Называлось это красиво:
«мэд москоу мани» – бешеные москоу бабки.
Или, в аббревиатуре – МММ.
И тогда я написала серию горячих очерков, а Полторанин, главный редактор «Правды», их лично подписывал в печать. После того, как эти мои материалы были опубликованы в центральной прессе, из министерства внутренних дел пришло негласное распоряжение – к зоне меня и близко не подпускать. Но поздно – всё, что меня интересовало на эту тему, я уже знала. И успела отчитаться перед неравнодушным читателем. Хотя, конечно же, я вынуждена была теперь сушить вёсла, придерживая своё перо, чтобы иметь возможность в дальнейшем предпринять кое-какие шаги. Однако, увы, теперь ситуация предельно накалилась – земля буквально горела под моими ногами. Вот эти-то статьи, ну и многие другие, которые я опубликовала за последующие годы, и были сожжены, и сделали это публично – раз так широко местные осведомлены обо всём. Женщина, всё тем же шёпотом, поведала мне, что у неё уже есть внук – ах, какой умненький карапуз! – а я передала самый горячий привет её милым домочадцам… И всё думала – куда же запропастился шофёр, давно пора ехать. Собиралась туча, а мне с дождём не по пути. Но вот шофёр внезапно появился, запрыгнул в кабинку, спросив по-командирски зычно: «все на месте?», и мы, слава богу, поехали. Я, было, пожаловалась своей знакомой на контролёршу. Она, к моему удивлению, сказала:
– Так это не контролёрша.
– А кто?
– А кто её знает, что за она… про… фурсетка эта. Хотели, видно, пошмонать маленько с Магрибкой.
– А что же все молчали?
– Так не их же трогали.
…Когда автобус приехал на конечную, и моя знакомая поспешила к своему дому – она жила в этом, ближнем селе, дождь уже не накрапывал, а вполне прилично моросил. Тяжёлое серое марево висело на северо-востоке, как раз там, куда я и направлялась – над Виндрей. А это могло означать только одно – впереди меня ждёт ливень, а то и настоящая июньская гроза. Долго размышлять некогда, надо идти, и я бодро двинулась в путь. День был воскресный, машины, если и попадались, то все они шли в противоположную сторону – возможно, люди ехали на базар. В моём направлении, если и поедут, то ближе к полудню, уж никак не раньше. Я шла очень быстро, изредка останавливаясь переменить руки – одна сумка была значительно тяжелее другой, в ней была рассада и кое-какой инструмент, который я всегда возила с собой – мотыжка с короткой ручкой, молоток, ну и пилка-ножовка. Ещё гвоздей штук двадцать – на всякий случай. В прошлом году не получилось на всё лето выехать, представляю, как там земля под гнётом сорняка отдохнула! Кустарник разросся, подрезать бы побеги. В моей другой сумке, кроме пакета с бутербродами, ещё и полиэтилен, метров шесть, скотч – затянуть окна. Стёкла, конечно, все выбиты, рамы покалечены, тут и гадать нечего. Ещё полотняная занавеска – на дверь, саму дверь сняли с петель год назад и зачем-то унесли, оставив на месте косяки. Лет семь уже, с тех пор, как некие негодяи от бюрократической власти объявили приём цветмета у населения, повсеместно начались системные погромы, особенно дачных домов, и повсеместные также «обрезания» электропроводов. Под предлогом поиска цветмета – для заработка и пропитания, безработные селяне дома уехавших в город дачников, а по пути – также и все пустующие дома, громили и просто так. И все, кому не лень, присоединялись к этому сомнительному, весьма опасному и подлому развлечению. Поголовно участвовали в этом и городские внучочки, приезжавшие «на родину предков» во время каникул – им почему-то категорически не нравились городские дети дачников. Это стало своего рода массовым спортом. Начался разгул этого «спорта» дружно – как раз лет семь назад.
Как объясняли в прессе, это было «страшной местью» селян дачникам – «за потомственные удобства» городской жизни. Пакет с едой – три бутерброда и бутыль с кипячёной водой – обязательно беру с собой в любую поездку, потому что электричество, конечно, «обрезали», как всегда обрезают дачникам, якобы для пожарной безопасности – вот и местные уже об этом знают, а печку растопить не получится – если дождь, то сухих дров не найти, а если жара, то надо ждать до вечера, иначе недолго и пожар устроить. А кушать захочется…
…За такими вот неспешными мыслями я незаметно прошла километров пять. Вдалеке залаяли собаки, среди этого удалённого брёха стали слышны звуки быстро едущего авто. Я сошла с дороги на обочину. Промчалась мимо меня батюшкина машина, злые языки говорили, что она была куплена на те деньги, что на церковь давали. Однако, думалось мне, это всё же был грубый поклёп, а появление новой машины, ровно через пять дней после внесения пожертвования – обычное простое совпадение. Он давно собирался новую машину купить, я это знала. Батюшка, бывший тракторист, человек простой и сердечный, на службе человек вдохновенный и самоотверженный. Во всякие злые слухи о нём и его семье я по-прежнему не очень-то верила.
…Тёмное грозное марево, тем временем, стремительно приближалось. Середина июня редко стояла жаркой, чаще погода была средняя – если солнце, то тепло, а если дождь, то и прохладно бывает. Да и последние заморозки ещё могут быть – где-то в середие июня, чаще в ночь на тринадцатое. По-старому лето только и начиналось с четырнадцатого июня… Остановилась передохнуть. Вскоре, однако, почувствовала лёгкий озноб, немудрено – вспотевшая спина насквозь мокрая. Дождь всё усиливался, пока не полил, наконец, как из ведра.
Туча, огромная, пузатая, не имела границ, теперь она была со всех сторон, стена дождя мешала смотреть на дорогу, дышать становилось невмоготу… Я громко молилась: «Господи, помоги! Господи, пронеси!» На дороге, по-прежнему, не было ни души. Но вот вдали показались две машины, я подняла руку, надеясь, пусть за приличные деньги – теперь мне было уже всё равно, уговорить их развернуться и отвезти меня в село. Они дружно пронеслись на большой скорости мимо, щедро обдав меня грязными брызгами, и умчались в сторону городка. В моём же направлении по-прежнему никого не было, проехал только, кивнув мне и слегка притормозив, весь закутанный в плащ, одинокий велосипедист, но он мне, конечно, ничем не смог бы помочь. Я помахала ему рукой – мол, спасибо и поезжай себе, с Богом…
Он всё же опять затормозил. Я снова помахала. Он ещё раз посмотрел на меня и кивнул – типа, «садись же на багажник» – но куда я со своей поклажей? Никак не смогу там уместиться. Повернув в мою сторону голову в большой шляпе с огромными полями, он внимательно, но бесстрастно смотрел на меня. Мы двигались почти вровень. Я поздоровалась, на всякий случай, он не ответил и, спустя минуту, резко прибавив скорость, поехал дальше. Его лицо мне почему-то показалось знакомым. Или… показалось? Да, показалось, что он чем-то похож на того человека из поезда, который спрашивал про закат, потом он же томился в ожидании на платформе и спорил с мордышом о потитике, потом за ним пришла женщина, у которой я и переночевала… Да, это, возможно, он. Только тогда на нём была плотная вязаная шапочка, а не шляпа.
Мне вдруг стало спокойно на душе. Почему – не знаю. Хотя… почему – не знаю? Встретить даже шапошного знакомого в такую мрачную непогодь – уже хорошо. Так я, вся не своя от холода и усталости, прошла ещё километров пятнадцать. Впереди, когда мои ноги уже гудели срашным гудом, а руки просто одеревенели от холода и тяжёлой ноши, наконец, показалась крытая листовым железом остановка – это всего в километре от села Куликовское. Оно здесь недалеко, слева от дороги, в глубине полей, которые уже лет десять не обрабатываются, с тех пор, как совхозы и колхозы распустили. Бурьян в рост человека, вот что здесь теперь росло. А от села Куликовского уже рукой подать – всего пять километров – до нашего села.
Дождь усилился ещё больше, хотя это казалось уже совершенно невозможным. Я ускорила и без того быстрый шаг, просто побежала, гулко шлёпали мокрые сумки по ногам. Скорее, скорее под кров! Там спасение. И вот уже я под крышей, но боже мой – прямо над головой три огромных дыры… в этой самой крыше, на которую я так надеялась! Ну что ж, буду стоять под водопадом. Глубокая лужа занимает почти всё пространство, хоть как-то прикрытое от буйства стихии – сильно проржавевшей жестью размером полтора на два… И всё же я, кое-как, – на одной ноге, вторая на мысочке, – устроилась в относительно сухом месте, в самом уголке, справа от остова лавки, слава богу, там почти не было воды. На большой ржавый гвоздь, оставшийся от спинки бывшей здесь некогда лавки, я повесила свои сумки. Онемевшие, в белых разводах, ладони получили, наконец, вожделенный отдых. Усталая до судорог, вконец измочаленная, я прижалась к спасительной, кое-где всё ещё сухой стенке, когда мимо меня, из села, лишь слегка притормозив, промчалась вихрем брызг белая легковушка. Минут через десять она уже неслась обратно, сильно виляя и щедро разбрызгивая воду из глубоких придорожных луж. Я, кажется, узнала водителя – это был Серый – хозяин лесопилки. И не только: а также всей прочей, общественной некогда, собственности, какая только имелась в этом селе. Я уже давно и правильно догадалась, что этот объект номер два – лес, точнее, его хозяева, и будет моей «второй бедой» здешней жизни.
Между тем, мне на горе, определённо заходила новая напасть – большая, явно брюхатая грозой, туча. Да, несомненно, близилась гроза. А в июне здесь это очень и очень серьёзно.
Ура, стихия, что называется.
Чтобы отвлечься, снова стала думать об этом человеке – подробно вспоминала вчерашний разговор на платформе. Мне тогда очень хотелось вмешаться в бурно протекавшую беседу и сказать своё слово, но я благоразумно воздержалась. Ведь всё передадут, переврав и периначив десять раз. У меня здесь и без того хватает врагов. И тут мне почему-то вспомнился тот мужчина на велосипеде – в длином плаще и длинными же, стянутыми в пучок волосами. Тот, с которым мы ехали в одном вагоне и вышли на одной станции. И я слышала его разговор с неким пассажиром, лицо которого мне не было видно, – они стояли в тамбуре. Я думала о своём и смотрела в окно, однако краем уха всё же ловила обрывки их разговора. Что они тогда обсуждали, почему мне это стало интересно? Ах, да! Вспомнила.
Они что-то говорили о человеке. О человеке!
И тут мне отчётливо вспомнился весь их диалог. Я разволновалась ещё больше. Невидимый мне собеседник мужчины с пучком на затылке говорил несколько заносчиво и высокомерно:
– Зачем мне всё это? Я не верю ни в Бога, ни в чёрта. Я прагматик и предпочитаю вере рациональное мышление. За порогом смерти ничего нет, просто ничего. Одна пустота! Нет ни бессмертной души, ни Страшного Суда, а райское наслаждение – это длинноногая блондинка плюс батончик «баунти». И потому жить надо здесь и сейчас, активно и разумно употребляя тело в дело.
Его оппонет спокойно ответил:
– Хорошо, тогда я попробую вам объяснить тоже самое, но в доступных вашему прагматичному, рациональному уму терминах. Возможно, это вас убедит.
– Думаете?
– Надеюсь.
– Ну, давайте.
– Так вот, если человек живёт прагматично, рационально и рассудочно, то места состраданию в его сердце остаётся очень мало.
– И что в этом плохого – жить без страдания? Не лучше ли ловить позитив?
– Извините, без сострадания, а это существенно иное.
– Надо же.
– Сострадание человеку нужнее, чем хлеб насущный…
– Опять вы о душе. Мы же договорись.
– Нет, я в русле нашего уговора. Сострадание, как движение души, вызывает вполне реальную физиологическую реакцию – выделение гормонов, без которых не мыслима активная жизнь человека. Если же человек-рацио забыл о том, что такое сострадание, что такое совесть…
– Ах, а этот груз зачем?
– Со-весть – это сопричастность вести, вечности. И вот если этого нет в человеке, то и…
– Ясно, гуд бай, Америка. Это вы хотите сказать?
– В ваших терминах – примерно это. Получать жизненную энергию и ловить позитив они могут только тремя способами – всевозможные развлечения, в первую очередь, секс, а также еда и собственность. Но эти возможности могут, внезапно или с возрастом, закончиться.
– И что тогда?
– Сладкие воспоминания о лучших днях своей молодости. Это, допустим, греет.
– Допустим и это. Что ж здесь плохого?
– Но смертный час?
– А что? Взял да умер. И ничего.
– Это категорически неверно.
– Почему же?
– Умирая, человек совершает качественный переход в иную жизнь. И у человека верующего, праведного проблем здесь не будет – его мозг выработает достоточно гормонов позитива, говоря вашим языком, а сам момент смерти сопровождается выбросом огромного количества опиатов, и это момент растягивается пропорционально замедлению времени, пока вовсе не останавливается, превратившись для него в вечность.
– И это рай?
– Субъективно – да.
– А неверующий…
– …неправедный пересекает этот рубеж с большими муками. Его надпочечники, мозговой слой, уже давно не выделяют гормоны счастья, потому что у человека долго не было бескорыстной эмоциональной жизни. Не было сострадания. И его надпочечники давно уже не вырабатывают топлива для позитива.
– И как это мешает умереть?
– Не мешает, но смерть, в таком случае, превращается в ужасную, вечно длящуюся, опять же, в субъективном восприятии, агонию.
– Это и есть ад?
– Да, в наших терминах, это именно ад. Я вас убедил?
– Надо обдумать… Послушай сюда, я бабло на храм отстёгиваю. Это же в плюс?
– Не факт.
– А чем тогда бог отличается от чёрта?
– Дьявола.
– Ну, дьявола.
– Дьявола?
– Да.
– На вашем уровне понимания – дьявол это клон бога.
– Клон? Фильм такой есть.
– Возможно.
– И что?
– Клон – это не копия объекта, а его отражение.
– Поясните.
– Клон не имеет души. Он имеет только тело, которое может быть невидимым.
– А на кой дьяволу душа?
– Чтобы любить.
– И что?
– А коли нет любви, то нету и всесилия.
– А что есть?
– Вечная борьба.
– Хреново… – сказал голос и замолк.
…Этот человек говорил на перроне кому-то, что он учёный. Всё сходится. Это точно он! Опять наши пути каким-то образом пересеклись. Мне стало легче думать о том, что ждёт меня впереди – на моей разорённой, без всякого сомнения, фазенде. И я уже приняла решение – сдержаться, что бы там ни было. Спокойствие, только спокойствие. Не дождётесь от меня объявления войны. Не дождётесь! И за что только люблю эти места? И еду сюда, еду каждый год, несмотря ни на что. Что за оказия? Любить их, своих мстительных мучителей. Подлость ситуации заключалась в том, что формально никто никаких претензий ко мне здесь предъявить не мог, ибо свои журналистские материалы я всегда писала в защиту, а не в обличение – это оставалось между строк. И чтобы обвиняемый, таким образом, мог внятно сформулировать свои претензии, он, для начала, должен был признать свою вину. А вот на это, никто и никогда, сам не пойдёт. На этом-то и строился мой расчёт. А также – весь пафос статейной злободневщины. Не имея формальных причин для «наезда» на меня, «хозяева леса» подсылали местных «робяшок», которые жили, в основном, в лесхозе, в километире от нашего села. «Робятишка» ежегодно нещадно разоряли мой огород. Это местными вообще не осуждалось – старая традиция огородного и садового воровства, мол, чужое вкуснее… А «робятишка» – что с них взять? Да и закон вовремя подоспел – кража до двухсот рублей законом не наказывается. Вторая беда. Скотина – коровы, бычки, свиньи и козы, едва я уходила в лес, вольно паслись плвсюду, в том числе, и на моём разносольном участке, с аппетитом поедая отборные овощи, потому что сельское стадо пастух не гонял в луга, как положено, а просто хозяйки выпускали рано утром скотинку за ворота – и… спасайся каждый сам, как знаешь и можешь… Неорганизованное стадо вольно бродило где хотело, чаще – по улицам села и огородам тех, у кого, как и у меня, была «слабая» городьба – повалить городьбу, тем болеее, штакетник, мог хотя бы тракторист, проезжая мимо «под шофе», или сама корова, завидевшая аппетиную тыкву или кабачок на чужой грядке. Старинную хозяйскую трёхметровую (двухэтажную) городьбу я неосмотрительно разобрала в первый же год – из-за её устрашающей некрасивости, заменив невысоким, в метр двадцать, штакетником – и поимела…
Этот жест открытости был понят превратно – увы.
Били ещё стёкла – это тоже считалось нормальным явлением, так, якобы, наказывали за тайный блуд (а в провинции в этом грехе можно было обвинять огульно – любую женщину, живущую без постоянного мужчины в доме – подразумевалось, что это как бы «само собой»…). Прямо не говорилось, но все негласно понимали, что если бьют стекла и колют рамы в доме одинокой женщины, значит, «за дело», жаловаться бесполезно – никто ведь не докажет обратное, а фантазировать никому не запрещено… Все здесь знали, что не только вредно для репутации, но и опасно для жизни – жить без мужчины в доме. Одна моя хорошая знакомая, в прошлом тоже москвичка (работала некогда главным инженером на столичном предпрятии, но потом навсегда переселилась в это село, благо, здесь были родные, – у неё я года три брала молоко, пока она не продала корову), как-то мне на мои сетования сказала просто: «Не обращай внимания и не вздумай жаловаться – посмешишь людей, и не более того. Будешь, как сердитый филин в окружении летающих вокруг пичужек, изливать своё возмущение, а тебе, в награду за всё хорошее, за то, что делаешь их зрячими, они тебе же глаза и выцарапают». И она была права – осуждать «робятишек» за их проделки вообще запрещалось: всё, что ни делали дети на улице, любое безобразие, творимое ими, было нормально. Детей родители наказывали лишь за провинности по отношению к собственному дому.
Их вообще не учили уважать других, или делали это на людях, формально, но зато их с детства крепко учили не попадаться на озорстве. Здесь так и говорили подозреваемые в краже, погроме или ещё в чём-то общественно нехорошем: «А ты докажи!» Не пойман – не вор. А ловить озорующих «робятишка», значит, обрекать себя на пожизненную ненависть со стороны всей его родни. Чужих «робятишек» можно было только хвалить. Правда, когда я уже через год жила на даче с тремя собственными маленькими внуками, эту версию – о моих ночных друганах – стало сложнее «проводить в жизнь», и все вроде успокоились, но ненадолго: «умные люди» и тут нашли выход – это, объявили они негласно, живут у меня вовсе не внуки, и мои собственные дети, которых я пригуляла здесь же, на сельской дачке. Так что опять – покой нам только снился… Погромщики, эти самые «робятишка», которым с детства прививалась жгучая ненависть к «чужим», дачникам из Москвы, вообще к москвичам – про заезжего афериста никогда не скажут – рвач, барыга, а скажут так: это тот, из Москвы, заехал и обобрал… Их же внучки, «робятишка», которые теперь жили в Москве, а не на селе, охотно несли традицонную «культуру» в городские массы – уже через несколько лет после начала «великого переселения» катастрофически расслоившейся и массово обнищавшей провинции в большие поселения (это началось «в полном объёме» в середине девяностых), погромы и грабежи в городах, – а их учиняли чаще всего выходцы из провинции, не нашедшие своего счастья в городе или просто на это нацеленные с самого начала новоявлнные граждане, уже становились делом вполне обычным и тоже массовым. Город, в этом смысле, быстро превратился в большую деревню в самом худшем варианте, со всеми её недугами. А поскольку городская милиция укрепляла свои ряды наполовину, если не больше, выходцами из всё той же провинции, то ситуация усугублялась ещё более – ждать порядка на улицах крупных городов теперь было делом весьма безнадёжным. Да, крупные города, большинство из них, постепенно превращались в «большие деревни» со смешанным населением и такими же, как в провинции, полуфеодальными, «азиатскими» дикими нравами. И этой беде город обязан только собственной глупости – не надо было бессмысленно «кадить народу», лучше было бы вовремя зорко увидеть его проблемы и правильно их понять. Народ, безжалостно и повсеместно отданный на заклание суекорыстному хаму, местечковым хозяйчикам, не выстоял, надломился, и теперь с каким-то отчаянным ожесточением уничтожал сам себя, азартно пожирая подчас своих лучших представителей. Это стало своеобразной национальной игрой – преследовать и травить неагрессивных. Так, вместе с недостающими рабочими руками, косяком шёл в город из полуфеодальной глубинки бытовой криминал…
Вот опять машина Серого…
Брызжа мутной водой, лихо развернулась и стрелой брызг стремительно пронеслась мимо – вот она скрылась за поворотом, там, всего лишь в километре от меня, дорогу с двух сторон уже обступал наш лес. Машина исчезла из виду, и на время установилась тишина, только ветер всё яростнее гнал волны воды по ущербному асфальту. Я же снова подумала об уничтоженных бумагах, оставленных в моём деревенском доме. Мои труды, мои труды! Они были для меня утешением все эти годы, заменяли мне всё, чего я была лишена, живя аскетично и даже надрывно, в полном одиночестве, если не считать малых детишек, в этой забытой Богом глухой сельской местности. Зачем я сюда приехала?
Деревенщики роковых семидесятых страстно укоряли городскую интеллигенцию за невнимание к селу, призывали спасать село, но село имело на это счёт своё мнение. В моём жалком жилище уже который год, после моего отъезда, под бдительным оком милиции, хозяйствуют легальные воры, моя усадьба разорена, а дом едва не обращён в пепел. Спи я чуть покрепче, не избежать бы пожара той кошмарной ночью, позапрошлым летом. А поджигатели потом нагло смотрели мне в глаза и азартно улыбались – а ты докажи… Знали ведь, что доказать ничего не смогу. Люди… ау!




