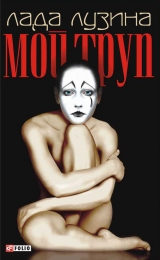
Текст книги "Мой труп"
Автор книги: Лада Лузина
Жанры:
Детективная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
«Янис» – пропечатал экран.
Я знала реплику, которую услышу сейчас:
«Здравствуй, Любовь моя!»
– Здравствуй, Любовь моя. Передай своей подруге, что она сука! – выпалил Янис разгневанной скороговоркой.
– Арине? – Я сразу поняла, о ком речь.
– С какого перепуга она повисла вчера на Доброхотове? Он же был пьян! А Женя Олю полночи утешал. Сначала она пыталась залезть в штаны к Андрею…
– Арина? – снова поняла я.
– Но не сомневайся, он ее сразу одернул. Сказал: «Арина Родионовна, в вашем предательски почтенном возрасте пора знать телефон эскорт-сервиса».
– Да?
Одергивание было слишком жестоким. Не говоря уж о том, что Арина ненавидела отчество пушкинской няни, которое прилаживали к ее имени все шутники. Андрей знал об этом.
– Они еще в театре погрызлись.
– А где в тот момент была я?
– Уже уехала. С Олей, Доброхотовым и этой своей…
– Инной.
– И ты, Любовь моя, тоже не лучше! Скажи мне, он добрался до аэропорта?
– Кто? – Я снова знала ответ – но это знание нужно было скрывать.
– Андрей. Женя забрал его вещи из номера. Мы думали, он подъедет к посадке… Мы полчаса к вам стучали, до последней минуты. Я предлагал, кстати, выломать дверь. Зря не настоял.
– Какую дверь?
– В твою спальню. Скажи мне, Любовь моя, и от кого ты поставила этот треклятый замок? Если ты хочешь спокойно спать по ночам, просто не приглашай ночью гостей.
– Андрея не было в моей спальне. Я спала одна!
Я порадовалась, что мой утренний голос (утро, по мнению голоса, наступало не раньше двух дня) – звучит как обычно, безжизненно-вяло.
– А где ж тогда этот придурок? – озадачился Янис. – Послушай…
Связь оборвалась.
Я подождала полминуты и набрала его номер.
«Ваш абонент находится вне зоны…» – равнодушно сказала механическая дама.
Помедлив, я вжала зеленую кнопку еще раз.
«Ваш абонент находиться вне зоны… пожалуйста, повторите звонок позднее».
«К лучшему!» – вдруг осознала я и нажала красную – быстро, боясь передумать.
Я не знала, что врать в ответ на последний вопрос. Я не умела лгать Янису Я прояснила главное…
И ясность эта была не из приятных.
«До встречи, моя любимая девушка», – попрощался телефон, выключаясь. Текст набрал когда-то Андрей. Он называл меня «Моя любимая девушка» – звание очень местного значения. Самая любимая в нашей компании, за ее пределами «любимые» исчислялись на сотни. Янис бурчал, он считал, что «Любовь моя» – его привилегия. Но, как верно заметил Ануй, нужно привыкнуть, что в театре все «любимые» и «дорогие».
Вот вам и «Здравствуйте, с вами говорит Немирович-Данченко»!
Мне стало холодно. Вопреки тридцатиградусной жаре так холодно, точно холодильник с Андреем переместился ко мне в живот. Холодильник вибрировал – меня заколотило от страха. Я обняла себя двумя руками, пытаясь согреть. Сознание исчезло, растеклось. Затем неуверенно вернулось обратно.
Они стучали мне в дверь! Они – то есть Женя, Ян и, конечно же, Саша. Все они, включая Арину, были абсолютно уверены, что Андрей со мной. Если бы кто-то из них знал, что я ушла спать одна, он бы озвучил свое знание.
Как минимум, четверо из восьмерых друзей будут давать показания против меня!
«Значит, – взбодрился мой мент, – вы все были уверены, что Андрей Фирстов там. Почему?»
Игнатий Сирень красноречиво поднял левую бровь, давая понять, что он сразу очертил первостепенную важность вопроса.
Действительно, почему?
Почему?!
Лишь потому, что это единственное место, где он мог быть? В гостиной – нет, в кухне – нет, в ванной – тоже. Логично предположить, что он в запертой спальне. Во всяком случае, логичней, чем искать в холодильнике…
Но ведь еще раньше Женя сказал Арине: «Она заперлась в спальне с Андреем». Или он сказал это тогда же – когда пришло время отъезда и они начали тарабанить мне в дверь? И почему об этом Арина мне не сказала? Или ее сознание не зацепило подобный инцидент? Скорее всего, пока Ян и Женя ломились ко мне, она играла главную роль в сцене прощания с Доброхотовым и не обращала внимания на левый звук.
Ломать дверь… Да что там, снести дверь с петель, поджечь ее – по законам нашего общества «утонченных неврастеников» – не Событие! Так, незначительный шум – такой же бытовой и привычный, как лай собак за окном, звук проезжающих машин, который ты даже не отмечаешь.
«Сашик заперся в ванной. Ян сломал задвижку…»
«Мы полчаса к вам стучали, до последней минуты. Я предлагал, кстати, выломать дверь. Зря не настоял».
Зря, Янечка, очень зря. Выломав дверь, ты б обеспечил мне алиби. А теперь…
Что же теперь?
Я прижала пальцы к бредовому лбу, всматриваясь в лицо моего мента. Его морду испаскудила злая гримаса – он уже записал меня в убийцы.
«Но у меня нет конфликта! – затравленно вспомнила я. – Какой мне смысл убивать его?»
Губы разъехались. Меня отпустило.
Я должна была сказать не «конфликт», а «мотив». Но мотив – терминология детектива. Театроведческий термин – конфликт, столкновение интересов. Без конфликта нет пьесы. И, к слову, у Арины с Андреем обрисовался конфликт. Они поссорились в театре. Янис свидетель. Она ушла от меня последней. Ян, Сашик, Женя, Доброхотов, Рита и Оля – засвидетельствуют, она осталась в квартире.
И все-таки я не сомневалась в ее невиновности.
Арина не лгала мне. Я знала ее с первого курса. Она умела виртуозно, вдохновенно, гениально врать. Но я знала, какона врет. Нельзя обмануть женщину, с которой ты обманываешь другую женщину. Точно так же нельзя обмануть подругу, тысячи раз наблюдавшую, как ты обводишь вокруг пальца педагогов, любовников, начальников, подчиненных, клиентов.
«Но она не сказала вам про ссору», – напомнил мой мент.
«Это естественно. Ведь Андрей оскорбил ее! «В вашем почтенном возрасте пора знать телефон эскорт-сервиса» – в наши тридцать с хвостом мало похоже на безобидную шутку, на дружеское воспоминание о прежних, веселых карамболях…»
Странно – обычно Андрей охотно обслуживал все предложенные ему манюрки. Наверное, его завел ее тон. Ставшая неизменной самовлюбленно-надменная интонация «Как меня принимали студенты в Харькове». Но это не повод убивать.
«Он оскорбил ее», – мент многозначительно поджал губы.
«И его оскорбление не вписывалось в ее идеальный образ самой себя – Героини. Поэтому она забыла о нем. Забыла и не сказала мне. Потому что забыла – вычеркнула, стерла, убила воспоминание насмерть. Вот потому она не могла убить Андрея… Убийство слишком трудно забыть!»
«Неплохо», – похвалил Игнатий Сирень.
Моя логика показалось менту логикой бреда. Он не учился в театральном.
Он просто не знал Арину!
Не знал, что лет семь назад настало новое время. Время биде.
В лунное лето после двух разводов мы с Ариной смеялись над некой обуржуазившейся «леди», обмолвившейся: «Представьте, в их доме нет даже биде!»: «Можно подумать, – распинали мы ее чванливый снобизм, – она выросла не в Советском Союзе и не может обойтись без биде. Неужели она не помнит, какой была раньше?»
Мы, две разумницы из театрального, великомудро размышляли о том, что, поднимаясь по ступенькам вверх, человек постепенно открещивается от себя-прошлого…
А потом Арина купила квартиру и поставила в ванной биде. И когда я привычно пошутила на эту тему, вдруг осадила меня: «На самом деле биде очень нужная вещь». Впрочем, важно не что она сказала, а как…
Арина перестала смеяться над собой – она играла на полном серьезе. И это был совсем иной, не наш жанр – не «розовая» и не «черная», и не французская, и не комедия – наша с ней драма.
Как-то постепенно она изменилась – сначала изменила прическу и цвет волос, затем сменила кривоватые зубы на керамические, три раза сменила квартиру, пять раз машину, два раза профессию.
Сначала Арина открыла театрально-концертное агентство и привозила в Киев спектакли. Но так же постепенно, как и она сама, ее агентство сменило направленность, став рекламным. Ее клиентами стали дорогие магазины и политики средней руки. Арина с легкостью скармливала им самые тухлые идеи, затыкая все возражения гордым «Я, между прочим, театральный критик. Я закончила театральный».
Она была самой успешной из нас. Она могла бы и не общаться с нами, если бы мы не были жизненно важной частью ее имиджа – ее богемным ореолом. И я уже перестала одергивать ее, когда она говорила: «У меня есть парочка голубых. Такие забавные. Вы не представляете, что они недавно устроили!»
Мы были нужны ей не меньше, чем ее «Хаммер», ее квартира в центре, ее коллекция туфель. А может, мы нужны были ей, чтобы чувствовать себя живой. Живой, а не глянцевой куклой в часах Картье, серьгах Тиффани, шубе Фенди… Потому что теперь, когда Арина левою пяткой вымучивала тысячи в месяц и, облазив все фирменные бутики, громогласно жалобилась, что модели Дольче и Гуччи – полный отстой, она чувствовала себя менее счастливой, чем в то далекое лето, когда у нее были одни приличные туфли – обе с левой ноги, украденные мной из универмага.
Театральная красота – такой вкусный соус, под которым можно съесть родного отца. Социальная красота – такой вкусный соус, под которым можно съесть самого себя… Давным-давно, сидя в бархатном кресле театра, я страстно мечтала проскользнуть в беспроблемно-прекрасный мир «замка». Но на пятом курсе, засев за курсовую «Смерть в творчестве Жана Ануя», нежданно разочаровалась в любимом спектакле.
Стоило мне перестать быть обычным зрителем, став театроведом, вгрызающимся в суть до костей, я поняла: в нем нет главного – ответа на вопрос «Зачем это?». Смех ради смеха, дорогая театральная красота ради дорогой красоты. Вместо конфетки в красивой обертке тебе подсунули фантик.
И все же Арине удалось проскользнуть туда сквозь «зеркало сцены»… Она навечно осталась в «замке». В красивом, дорогостоящем мире, где никто не задается вопросом «Зачем?».
А я?…
Я была и осталась единственным человеком, который знает о ней всю правду. И правда, единственным! Потому что Арина ее больше не знала. Она знала другую Арину – Главную Героиню спектакля, похожего на бесконечный звездопад конфетти: авантюры, любовные признания, платья, павлины и загадочно перемещающиеся декорации из белых колонн, представляющие ей новые картинки красивой жизни. Казино в Монте-Карло. Краниосакральный массаж в Таиланде. Венский бал в киевской опере. Она не желала знать никакой другой. Ее социальные маски, костюмы и роли вросли в плоть и кровь. А я стала ее любимейшим зрителем!
Но иногда мы садились и вспоминали запоем лето после первого курса, и глупого Мишу, которому мы вымыли пол, и его глупую бумажку непознанной валюты, которую мы тут же обменяли и получили какие-то смешные копейки. Эти жадные воспоминания походили на половой акт, на безудержное совокупление. Это и было чем-то подобным. Потому что только проживая вновь и вновь наши прошлые приключения, мы вновь были вместе, мы были прежними, моя бывшая подруга Арина воскресла. Она и хотела воскреснуть – почувствовать себя прежней.
Мы делали это часто. Слишком часто, чтоб не осознать однажды: все наши «А помнишь?» превратились в заезженную пластинку. И сколько бы мы ни повторяли их, это уже ничего не изменит.
«Отлично! – Игнатий Сирень держал в руках мою курсовую «Образ Арины в спектакле…» – Но где же финал?»
* * *
Занавес поднялся.
Я сидела на проломленной лавке, вглядываясь в пустоту внутри. Это была иная пустота – одиночество. Я только что похоронила свою лучшую подругу.
Нет, хуже. Если бы она умерла, я бы носила ей цветы на могилу и думала, что моя лучшая подруга по-прежнему со мной, по-прежнему любит меня.
– А разве это не то же самое? – спросила я вслух.
Сидящая рядом ягуаровая тетка с разукрашенной золотыми блямбами сумкой посмотрела на меня, даже не скрывая опаски.
Летом после первого курса в моде были такие же золотые блямбы. Теперь мода вернулась. В то лето мне казалось, что ткань под ягуара – высший аристократический шик. Теперь она стала дешевкой. В то лето Арина была моей лучшей подругой… Теперь на месте фонтана на площади Независимости, в котором мы с ней скакали босыми от счастья, находится вход в торговый центр «Глобус».
Я встала со скамьи и пошла прочь.
«А разве это не то же самое? Ты дружишь с человеком, которого давным-давно нет. И если бы не труп в холодильнике, заставивший воскреснуть из мертвых забытую театроведческую привычку задавать вопросы, на которые никто из нормальных людей не хочет знать ответы, мы б дружили еще тысячу лет.
Лишь потому, что мне вряд ли б пришло в голову спросить: «"А стала б Арина меня покрывать?" И ответить: нет. И понять…»
Арина не только не станет покрывать меня – узнав о смерти Андрея, она сделает все, чтоб откреститься от нашей прощальной вечеринки, от нашей компании, объяснить присутствие там случайностью. Смерть Андрея слишком грозит ее благополучию, слишком не понравится обладателям платиновых карточек, ваяющих с помощью Арины дурацкие календарики с собственным фейсом на фоне Киево-Печерской лавры.
– Тоже мне, обнаружила свежую истину – друзья познаются в беде, – фыркнула я. – Ладно, проехали. Не все так плохо…
Не все так плохо. Нас с Ариной обвинят в убийстве на пару. Мы вновь будем вместе, на одной скамье подсудимых – старая парочка, Шерочка с Машерочкой. Мы пошли на дело, я и Рабинович… Только Арина найдет способ оправдаться, а я – нет.
Все. Правда, проехали.
У меня нет подруги. Так же, как нет отца. Это нужно просто принять и отпустить остроумную шутку.
Я импульсивно подняла руку. Проезжающий мимо желтый автобус «Богданчик» послушно остановился. Я вскочила в маршрутку.
Мне страшно захотелось увидеть Яниса. Страшно! Мне нужен был друг. Мне нужно было знать, что у меня все же есть друг.
Глава пятая
Ты страшен, пойми, страшен, как ангелы. Ты считаешь, что весь мир идет прямо вперед, сильный и ясный, как ты сам, разгоняя тени, притаившиеся у обочины дороги… Жан Ануй. «Эвридика»

Автобус медленно плелся сквозь город. Пробки на дорогах давно перестали быть признаком часа пик – пиковым стал весь день.
Но я никуда не спешила. Я ехала, а значит, уже что-то делала. Езда, так же, как и курение, всегда успокаивала меня – иллюзией действия.
Я достала дневник.
Три фигуры – я, Андрей и Арина – убраны с доски. Зато появилась новая – неизвестная девушка в рюшечках.
В остальном…
Фигура нейтральная – Инна.
Фигуры белые – наши заезжие друзья.
Женя – лучший друг Андрея, но, как доказано выше, звание «лучший друг» ни о чем не говорит. Доброхотов – актер театра номер один. Сам выбирает роли, звездит в сериалах и ведет себя так, словно он лучше других, поскольку так оно и есть. Рита – пробивная девица. Снялась год назад в популярном мыле. Роль была маленькой, зато сериал посмотрели все – я даже взяла у нее интервью. Оля говорила мне, что она и Андрей фиктивно женаты, но я не помню, зачем им понадобилась эта фикция, к тому же они могли давно развестись.
Фигуры черные: Сашик – бывший театральный актер. Оля – бывшая театральная актриса и бывшая телеведущая. Ян – мой последний друг Ян…
В нашей компании Андрея любили все. Точней, не любили, а воспринимали беззаботно-поверхностно, иными словами, таким беззаботно-поверхностным, каким он и есть. Был… И вообще, исходя из ночного расклада, Оля должна была убивать отнюдь не Андрея, а Арину и Доброхотова, а Янис и Сашик, как обычно, – друг друга.
И тем не менее, Андрея убил кто-то из них. Кто-то один, в то время как другие ничего не заметили. Иначе бы Ян, Саша и Оля не повезли москвичей в гостиницу, а те не поехали бы в аэропорт. Они б вызвали милицию еще до того, как я проснулась, и я бы проснулась посреди орудующей бригады.
Но ведь не только Арина – никто ничего не заметил. Это так обычно и нормально… На таких вечеринках никто не замечал никого, я знала это как никто другой. Однажды на одной из наших дружных попоек я решила покончить с собой. Зашла в ванную и перерезала вены. Глупо – не смертельно. Мне хотелось не умереть, а умирать. И чтобы все меня жалели. Но никто не заметил. Я ходила с порезами полчаса, по моим запястьям текла кровь, и никто не обращал не меня никакого внимания, пока я случайно не испачкала Сашику майку.
Майка была фирменная. Я сказала: «Ой, извини». Он принялся орать, что я испортила ее, пятно не отстирать.
«Что это?» – спросил он сварливо.
«Кровь», – ответила я.
«Кровь? Ты что…»
Тогда он наконец закричал и привлек ко мне внимание.
Но если бы я забралась умирать в холодильник… я бы там и умерла.
Но не я была автором этой пьесы.
Я была экс-театральным критиком, которому предстояла забавная задача: узнать руку мастера по характерным деталям.
У меня не было выхода…
Эх, Яня-Янечка, ну почему ты не выломал дверь? Это же вполне в твоем жанре – трагедия.
* * *
Нельзя понять ни образ героя, ни идею спектакля, если вы не видели его целиком. И между «розовой» и «черной» комедией во втором действии пьесы может прописаться античная трагедия. И беспечная французская субретка возьмет в руки бритву.
Ближе к концу второго курса Арина увлеклась неким Костей Гречко.
Он пришел в гости к ее соседу по общежитию – театральному режиссеру. И тот факт, что в это самое время Арина уже начала встречаться с будущим мужем, нимало не помешал ей умирать по вышеназванному Косте по полной программе.
Особенно Арину прельщало, что он – мальчик из хорошей семьи. Он был так не похож на нас (все та же растянутая кофта, все тот же малиновый бабушкин пиджак, все то же безумие во взоре). У него был портфель из натуральной кожи, чистейшие белые брюки, золотая зажигалка. Он подкуривал нам сигареты, и это была не театральная манерность, а манеры. У него был непоколебимо-уверенный взгляд наследного принца искусства.
Костя вырос на Липках. Его мать была шишкой на киностудии Довженко. Его отец был известным в узких кругах кинорежиссером (фильмы папы-Гречко по сей день крутили порой на отстойных украинских каналах). По меркам лета второго курса Костя был из семьи небожителей и спустился к нам прямо с небес.
Он был старше нас и учился не у нас, а по соседству – в художественном институте. Его руководителем был бог сценографии, бог, на которого молился даже И. В., – легендарный театральный художник Антон Первый. Первый считал Костю подающим надежды гением…
Он был хорош! Высокий, гениальный, черноволосый, худой, с узким лицом, он казался мне похожим на автопортрет Модильяни. Я жестоко отбила его у Арины и полностью поплатилась за свою подлючесть.
Я влюбилась в Костю до истерики, как влюбляются только в двадцать лет, только «утонченные неврастеники и дегенераты». Я могла воспеть в любовной оде каждый его жест, каждый ноготь. Я могла бросить ради него институт, броситься с крыши, пробросить нашу дружбу с Ариной, наброситься с кулаками на любого, кто скажет о нем кривое слово. Я могла перекраситься ради него в черный цвет, убить, умереть, научиться печь рогалики с маком, выучить английский, взорвать это мир. Полюбить этот мир!
«Никогда не влюбляйтесь в актеров, – стращал нас Игнатий Сирень, – вы не сможете реально оценивать спектакли, в которых они играют. Что б они ни сделали, это покажется вам прекрасным».
Никогда – ни после, ни до – реальная жизнь не казалась мне такой прекрасной, как летом в конце второго курса. Никогда никого я больше не любила так – до полного исчезновения, полного слияния с миром. Весь мир сходился в точке по имени Костя и расходился от него миллиардом лучей.
Я была готова поверить в существование Бога! Я была готова признать, если Бог создал такое совершенство, как Костя, он действительно великий творец. Настолько великий, что из-под его рук, в принципе, не может выйти халтуры. А значит, мир совершенен! Все люди… Я просто не понимала этого раньше, как другие не понимают сейчас великого смысла Кости.
«Ты не любишь его. Ты сходишь с ума», – сказал Игнатий Валерьевич, прочитав это в моей совмещенной любовно-творческой летописи. Он регулярно проверял наши дневники, как у школьниц, отмечая оценки, которые мы ставим миру Он не любил меня влюбленной – И. В. любил меня победительницей, презрительно щурящейся, глядящей жизни прямо в глаза. Влюбленная я была чересчур неадекватна…
И это была любовь!
Мы ходили с Костей в кино, в театр, на выставки, слонялись по склонам Мариинского парка. Мы романтически собирали ночами цветы на железнодорожных рельсах. Мы гуляли по Байковому кладбищу, и, пожалуй, Костя один понимал, почему я чувствую себя там как дома. Его бабка (бабушка Кости тоже кем-то была) лежала под мраморной урной на центральной аллее.
Мы провели на Байковом день, Костя срисовывал в альбом узоры старинных решеток. Светило солнце. По дереву прыгала белка…
Это была любовь! Вместо очередной курсовой я писала ему ночами любовные письма. И если я не расписывала их на сто десять страниц, то лишь потому, что у Кости вряд ли б хватило терпения прочитать их, а вовсе не потому, что у меня не хватило б восторгов их исписать. В ответ он приносил мне стихи Гумилева, Блока, Волошина со словами: «Это написано о тебе».
Ты жадный труп отвергнутого мира,
К живой судьбе прикованный судьбой.
Мы, связанные бунтом и борьбой!…
И, читая их, я узнавала себя. Нет – познавала себя! Никогда – ни после, ни до – никто не заглядывал в меня так глубоко, как Костя.
Это была любовь, настоящая, останавливающая время! Мы всегда говорили взахлеб. Мы не могли исчерпать друг друга до дна. Мы могли встать посреди Ярославова Вала и простоять три часа, обсуждая картину Висконти, смысл жизни или проблемы воспитания художественно одаренных детей младшего школьного возраста. Мы могли пойти в театр и забыть посмотреть спектакль – мы сидели в фойе, не в силах оборвать разговор о пятнадцати признаках настоящей любви, прозреньях и ошибках доктора Фрейда и клинической некрофилии Адольфа Гитлера…
Раз мы простояли в моем подъезде с одиннадцати утра до восьми вечера – аккурат до тех пор, пока моя бабушка не вышла и не сказала: о том, что мы здесь стоим, ей сообщили по очереди все соседи, и она предлагает нам просто для разнообразия зайти в квартиру. Эта история стала легендой подъезда, сосед снизу поминал мне ее до сих пор: «Ухожу утром – стоят, пришел днем на обед – стоят, иду в магазин – стоят, возвращаюсь – стоят…»
Все друзья смеялись над нами – во время застолий мы общались только друг с другом, мы смотрели лишь друг на друга. Мы были созданы друг для друга!
Костя Гречко, мальчик из хорошей семьи, сразу понравился бабушке Люсе. Он, в свою очередь, представил меня своей хорошей семье. И если бы мы были героями драмы или мелодрамы, именно его семья непременно начала б чинить нам препятствия… Но Котины папа и мама восприняли меня на «ура». А нашим жанром стала трагедия, основным признаком коей является, как известно, конфликт между личностью и высшими силами.
«В античной трагедии это – рок, – говорила нам сфинксоподобная преподавательница по теории драмы, – в христианской трагедии – Бог».
В трагедии начала 90-х годов – высшею силой стал секс.
На третьей неделе безумной любви и третьем часу стояния у подъезда я поцеловала его… Я не могла больше ждать! Я ходила по городу с глазами мартовской кошки, одуревая от бредовой нежности к его губам, коже, пальцам, запястьям, локтям, и мне хотелось то ли кричать, то ли вскрыть себе вены и умереть, счастливой оттого, что на свете есть он. Мне хотелось разрезать его на кусочки и съесть, чтобы не отдавать никому, чтоб быть с ним всегда, чтоб стать с ним единым целым. Мне хотелось обвенчаться с ним в церкви и умереть в один день!
Он не сопротивлялся. Но, вырвавшись из моих губ, взглянул на меня глазами девственника, которого только что изнасиловал лучший друг. Их отношения с Ариной не зашли дальше причитаний последней, и то, что он голубой, стало для меня такой же ужасающей новостью, как для Эдипа брак с собственной матерью [9]9
Царь Эдип – главный персонаж одноименной трагедии Софокла. Воспитывавшийся у чужих людей, Эдип не знает имен настоящих родителей, и вследствие «фатальной ошибки» убивает родного отца и женится на своей матери.
[Закрыть].
В ту ночь Костя Янович Гречко и стал моим Янусом – позже Янисом, Яном… [10]10
Янус – персонаж римской мифологии, бог с двумя лицами.
[Закрыть]
Но я не поверила.
Я не сдалась!
Я была героиней «розовой» французской комедии, где на вопрос: «А вдруг он и вправду меня не любит?» – уверенно отвечали: «Это невозможно. По уговору в нашей истории должен быть счастливый конец» [11]11
Цитата из комедии Жана Ануя «Приглашение в замок».
[Закрыть].
Я жила в 90-х, смотрела спектакли Виктюка, зачитывалась Эдичкой Лимоновым и «нехорошими» пьесами. И все они хором уверяли меня, что в наше время любые секс-запреты сняты: гетеросексуалы спят с неграми на помойке, хорошие парни с бомжихами, нормальные тетки с безногими…
Я воспитывалась в театральном, проучившись в котором три месяца, Арина сатирически хмыкнула: «Я поняла, что здесь все спят со всеми. И если тебе кто-то нравится, переживать не стоит – рано или поздно твоя очередь дойдет». – «Нужно только занять очередь», – добавила я.
И это не было преувеличеньем!
Поднаторевшие на закулисных банкетах и фестивалях с обязательными пирушками в гостиничном номере, мы знали, что все они заканчиваются поиском партнеров на ночь, и достаточно подвернуться избраннику в нужное время или, что случалось чаще, отбиться от того, кому ты подвернулась.
От кого мы только ни отбивались! Кому только ни подворачивались! На праздновании старого Нового года я самозабвенно целовалась взасос со сфинксоподобной гранд-дамой в очках. Ей было за пятьдесят, она меня почти ненавидела, но это ничуть не помешало нам тискать друг дружку по пьяни.
Я знала цену циничным лозунгам «Нормальный бисексуал», «Пол – предрассудок», «Не бывает натуралов – бывает мало водки». В нашем богемном мирке, где поцелуй взасос зачастую был просто приветствием друзей, а секс – на самом деле! – не был поводом для знакомства и переспавшие настолько не придавали значения случайному акту что не считали нужным здороваться постфактум – с тем же успехом секс мог окончиться приятным приятельством, нужным знакомством… Но, как бы там ни было, он не мог представлять проблемы!
Я просто отказывалась верить в существование этого голубого табу! Мне казалось, мы любим друг друга. Ориентация – это граница. Границы – для ограниченных личностей.
Неделю спустя мы с Костей благополучно сошлись на многочасовом оральном сексе. Правда, несколько одностороннем, поскольку стащить с себя штаны он так и не дал. «Ладно, нехай буде гречка», – решила я. Я верила, что победила. Но тут на сцену вышли «высшие силы».
В то самое лето в конце второго курса Костя Гречко встретил роковую любовь всей своей жизни. Я познакомила их! Я привела Костю к нам в институт на студенческий спектакль, мы пошли за кулисы… А через два дня Костя притащил Сашика ко мне домой и трахнул его прямо на моем паласе в гостиной, предварительно встав на колени, попросив у меня прощения и отрыдав пятнадцать минут, уткнувшись в мою манюрку.
В ту ночь мне, кровь из носу, нужно было писать экзаменационный реферат по истории. И я таки отбарабанила его на машинке под аккомпанемент вдохновенных звуков из комнаты. А утром пошла на экзамен и даже сдала оный на «пять» – увидев мое стянутое безмолвной истерикой лицо, сердобольный педагог сказал: «У вас, наверно, болит сердце» и поставил мне «отл» автоматом.
Он был совершенно прав. Все то лето у меня нестерпимо болело сердце, и эта болезнь растянулась на два года, которые мы с зародившейся на моем ковре сладкой парой прожили практически одной семьей.
Нет, я не сдалась… Я не бросила Костю! Я выбрала то, что Жан Кокто называл «одомашненной катастрофой» – один и тот же кошмар, ставший образом жизни. Неделями я торчала у них дома, на съемной квартире. Мы с Костей говорили до трех ночи на кухне, потом он шел спать с Сашей… А я чувствовала себя так, словно Господь поставил меня в угол на гречку.
Я сбегала от них!
Я меняла любовников. Я крутила романы одновременно с тремя, с четырьмя, коллекционируя мальчиков с маниакальностью Фредерика Клегга и издеваясь над ними с равнодушием маркиза де Сада. И не спала ни с одним. И спала с первым встречным. И просыпалась в каких-то общагах, квартирах, и, уезжая оттуда, не могла вспомнить адреса своих мутных грехов. Я шаталась по Городу и сидела в компаниях, и мои волосы пахли сигаретным дымом, я говорила что-то, что попало, и все мои дни были похожи на один бесконечный, тошнотворно-бессмысленный день. Жизнь сужалась до размеров пятиметровой хрущевской кухни, на которой мы с Костей сидели полночи… Все остальное пространство было черным. В нем не было воздуха!
Вся моя квартира, стены, пол, обивка дивана, письменный стол и безобидный чайник на кухне были покрыты моим одиночеством, липким и отвратительным, как разлитое масло. Каждая вещь в доме была безнадежно отравлена им. Каждая книга сочилась ядом летальной любви. Все мои любимые книжки вдруг оказались написанными только про это. Все песни были про нас с Костей! И каждая строчка, включая детский стишок «зайку бросила хозяйка, под дождем остался зайка», – ставила мне диагноз.
И каждый вечер, как только стрелка часов дергалась, соскакивая с цифры двенадцать, я захлебывалась одиночеством, отплевывалась одиночеством, барахталась в нем, била руками, цеплялась за кого попало, но все равно шла ко дну… Мне было страшно и холодно. Холодно и страшно. Холодная, страшная, похожая на Панночку Гоголя, любовь гонялась за мной по квартире, и я металась из угла в угол, и закрывала лицо руками, и пряталась под одеяло – она всегда находила меня. И я бежала, бежала, бежала к Косте, ловила машину, звонила им в дверь, и он гладил меня по голове, и называл «Любовь моя». И я думала: «Господи, мы же любим друг друга. Не важно как, лишь бы быть вместе!» А после он шел спать с Сашиком и… мне хотелось то ли кричать, то ли вскрыть себе вены оттого, что на свете есть он, и он такой, какой есть.
«Гамартия! Фатальная ошибка [12]12
Гамартия – театральный термин, происходит от греческого слова «ошибка». В греческой трагедии герой обычно попадает в беду не из-за совершенных им злодеяний, а из-за «фатальной ошибки».
[Закрыть]– главное отличие греческой трагедии, – говорила наш Сфинкс. – Герой трагедии ошибается – он без вины виноватый».
Я была так же невиновна, как царь Эдип, по ошибке женившийся на кровной маме. Но ни мне, ни ему не было от этого легче. Эдип выколол себе булавкой глаза. Летом после второго курса я впервые попыталась покончить с собой. Второй раз я предприняла попытку два года спустя, когда, окончив художественный, Костя уехал работать в Питер, Саша отправился за ним, бросив театр. Я тоже могла бросить все… меня просто никто не звал.
Больше года мы с Костей писали друг другу безразмерные письма и висели на телефоне часами (все деньги, которые я получала за публикации, шли на оплату междугородних счетов). Часто наш разговор оканчивался только тогда, когда он засыпал, я понимала это по безответной тишине и вешала трубку. Мы говорили, как прежде, взахлеб – о его новой работе и моей курсовой «Смерть в творчестве Жана Ануя». Мы обсуждали его декорации и костюмы (он слал эскизы в каждом письме) и все так же восторженно спорили о долге, любви и подозрительной нелюбви Шекспира к желтому цвету…








