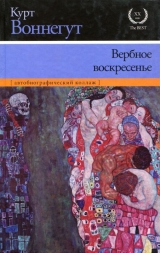
Текст книги "Вербное воскресенье"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
ОТСТОЙ
В Корнеллском университете мне преподавали химию, биологию и физику. Выходило плохо, и скоро я забыл все, чему меня пытались научить. Армия направила меня в Технологический институт Карнеги и Университет Теннесси учиться на инженера – термодинамика, механика, изучать устройство и применение станков и так далее. Выходило плохо. Я вообще привычен к неудачам и нередко оказывался среди худших учеников класса. Мы с моим кузеном учились в одном классе в Индианаполисе и вместе окончили школу. В то же самое время, когда у меня были плохи дела в Корнелле, у него ужасно складывалось в Мичиганском университете. Отец спросил его, в чем проблема, и кузен дал, я считаю, замечательный ответ:
– Папа, ты не понимаешь? Я тупой!
Чистая правда.
Не везло мне и в армии, где все три года службы я оставался нелепым долговязым рядовым. Я был хорошим солдатом, отличным стрелком, но никому не пришло в голову меня продвигать. Я выучил все па строевой шагистики. Никто в армии не мог плясать в строю лучше меня. Я еще вполне способен сплясать в строю, если начнется третья мировая война.
Да, я был посредственностью и на отделении антропологии в Чикагском университете после Второй мировой. Там практиковалась отбраковка, как и везде. То есть были студенты первого сорта, которые определенно станут антропологами, и лучшие преподаватели факультета брали их под свою неусыпную опеку. Вторая группа студентов, по мнению факультета, могли бы стать посредственными антропологами, но с большей пользой применили бы свои знания о Homo sapiens в других областях, в медицине или вот в юриспруденции.
Третий сорт, к которому принадлежал я, мог с тем же успехом состоять из мертвецов – или изучать химию. Научным руководителем нам назначали самого непопулярного преподавателя факультета, который работал по временному контракту и имел все причины быть параноиком. По функциям его можно было сравнить с официантом Меспулетцем из рассказов Людвига Бемельманса про выдуманный отель «Сплендид». Меспулетц обслуживал столик у кухни, и специализировался он на обслуживании некоторых гостей таким образом, что ноги их больше не было в ресторане отеля.
Мой отвратительный научный руководитель был самым интересным и внимательным преподавателем из всех, что я встречал. На лекциях он читал нам главы из книги по механизмам социальных изменений, которую написал сам и которую, как оказалось, никто не захотел издавать.
По окончании университета я взял в привычку навещать его всякий раз, как дела приводили меня в Чикаго. Он не желал меня вспоминать и всякий раз злился – видимо, потому, что я приносил замечательные новости об издании и переиздании моих книг.
Как-то вечером я сидел дома на Кейп-Код, пьяный и благоухающий горчичным газом и розами, и обзванивал старых друзей и врагов. По привычке я позвонил и своему научному руководителю. На другом конце трубки ответили, что он мертв – принял цианид. Лет ему тогда было около пятидесяти. Его не опубликовали. Поэтому он прекратил существование.
Если бы я мог, я вставил бы его неопубликованное эссе о механизмах социальных изменений в этот свой коллаж.
Я не упоминаю его имени, не думаю, что он обрадовался бы, увидев его здесь.
Или где-то еще.
Моя мать, которая также покончила с собой и не знала ни одного из своих одиннадцати внуков, тоже, подозреваю, не хотела бы видеть свое имя где бы то ни было.
Зол ли я на то, что попал в отстой? Я рад, что это случилось в университете, а не в прифронтовом госпитале. Все ведь могло закончиться тем, что нелепый долговязый рядовой испустил бы дух рядом с палаткой хирурга, где врачи в это время оперировали бы других раненых, имевших хотя бы пятидесятипроцентный шанс на выживание. Зачем тратить время и плазму крови на жмурика?
С тех пор я и сам занимался отбраковкой – на лекциях по писательскому мастерству в Университете Айовы, в Гарварде, в городском колледже Нью-Йорка.
Треть любого класса – жмурики, если я не ошибаюсь. А я не ошибаюсь.
Для планеты Земля подошло бы название получше, название, которое сразу давало бы ее жителям понять, куда они попали: Отстой.
Добро пожаловать на Отстой.
Да и что хорошего в планете под названием Земля, если живешь в городе?
Чтобы продолжить на более веселой ноте, я хочу представить вам свой очерк, написанный в мае 1980-го по просьбе «Международной бумажной компании». Компания эта, по понятным причинам, надеется, что Америка продолжит читать и писать. Поэтому они попросили разных известных людей написать что-то вроде листовок для желающих читать и писать – о том, как расширить собственный словарный запас, как составлять толковые деловые письма, как подбирать книги в библиотеке и так далее. Учитывая, что я практически завалил химию, механику и антропологию, а также никогда не изучал литературу и композицию, мне предложили написать о художественном стиле. Я с радостью согласился.
Но мне ненадолго придется вернуться к безрадостной теме отстоя. Данное эссе написано не для самых бездарных будущих писателей, теплых жмуров, и не для первого сорта – они и так стали или станут блестящими рассказчиками.
Эссе написано для средней категории. Вот оно.
Газетные репортеры и писатели-технари обучены составлять тексты так, чтобы не оставлять там ничего от их собственного «я». Это делает их белыми воронами мира писателей, поскольку все остальные чернильные души этого мира готовы многое поведать читателю о себе. Такие откровения, случайные и намеренные, мы зовем элементами художественного стиля.
Нас, как читателей, эти откровения завораживают. Они рассказывают нам, с каким человеком мы проводим время. Невежда наш автор или мудрец, нормальный он или давно свихнулся, глуп или умен, честен или лжив, весел или траурно-серьезен…
Выстраивая слова в строки, помните – самое порочное качество, что вы только можете явить читателю, есть непонимание, что интересно, а что нет. Читатель часто решает, нравится ему писатель или нет, по тому, что писатель решает показать или о чем заставить задуматься. Разве вы станете читать пустоголового писаку только за цветистость его языка? Нет.
Очевидно, что ваш роскошный художественный стиль начинается с интересной идеи в вашей голове. Найдите тему, которая небезразлична вам и которая, по вашим ощущениям, будет небезразлична и остальным. Только неподдельный интерес, а не ваши игры с языком, может стать самым важным и привлекательным элементом вашего стиля.
Я, кстати, не призываю вас писать роман, хотя я не был бы против его прочесть, если вы действительно увлечены тем, о чем пишете. Вполне достаточно петиции мэру насчет дорожной ямы перед вашим домом или любовного письма соседской девушке.
И избегайте многословия.
Что касается языка: помните, у двух величайших художников английского языка, Уильяма Шекспира и Джеймса Джойса, слова, произнесенные персонажами в минуты переживания самых возвышенных чувств, звучат почти по-детски. «Быть или не быть?» – спрашивает шекспировский Гамлет. Самое длинное слово – четыре буквы. Джойс мог влегкую нанизать фразу хитросплетенную и сверкающую, как ожерелье Клеопатры, но моя любимая его фраза звучит в рассказе «Эвелина»: «Она устала». В этой точке рассказа ничто не может тронуть читателя сильнее, чем простые, в сущности, слова.
Простота языка не просто ценится, иногда она священна. Библия открывается словами, которые мог написать смышленый подросток: «В начале сотворил Господь небо и землю».
Не исключено, что и вы способны создавать сверкающие ожерелья для Клеопатры. Но изящество вашего языка должно быть слугой идей в вашей голове. Общее правило следующее: если фраза, пусть и очень удачная, не представляет тему в новом, интересном свете, вычеркиваем. Это же правило можно применить к художественной прозе: избегайте в тексте фраз, которые не характеризуют персонажа и не продвигают действие вперед.
Ваш самый естественный стиль письма обязательно будет отражать манеру речи, которую вы усвоили ребенком. Английский был третьим языком романиста Джозефа Конрада, и большая часть пикантности в его английском происходит, без сомнения, из его первого языка, польского. К счастью для него, писатель рос в Ирландии, а тамошний английский очень приятен, музыкален на слух. Сам я рос в Индианаполисе, столице штата Индиана, где обычная речь звучит, словно жестянка, разрезаемая ленточной пилой, а языковой словарь так же богато изукрашен, как разводной ключ.
В некоторых дальних уголках Аппалачских гор дети до сих пор растут под песни и выражения времен королевы Елизаветы. Многие американцы растут в окружении других языков – не английского или такого английского, которого не поймет большинство американцев.
Все эти разновидности речи прекрасны, как прекрасны все разновидности бабочек. Каким бы ни был ваш первый язык, его нужно холить и лелеять. И если он отличается от общепринятого английского, просвечивает, когда вы пишете на «усредненном» английском, результат, как правило, замечательный. Как прекрасная девушка, у которой один глаз голубой, а другой зеленый.
Я заметил, что читатели, в том числе я сам, больше доверяют моим текстам, если я предстаю в них уроженцем Индианаполиса, то есть самим собой. А какой у меня выбор? Есть вариант, который яростно пропагандируют преподаватели и к которому, я уверен, пытались склонить и вас: писать, как утонченный англичанин прошлого или позапрошлого века.
С некоторых пор меня перестали раздражать такие наставники. Теперь я понимаю, что все эти антикварные этюды и рассказы, на которые я должен был ориентироваться, были великолепны не своей ветхостью и экзотикой заграницы. Просто в них текст передавал именно то, что автор хотел сказать. Мои учителя пытались научить меня писать точно, всегда подбирать самые действенные слова и связывать их друг с другом жестко, прочно, как детали механизма. Мои учителя не желали превратить меня в англичанина. Они надеялись, что я буду понятен – а следовательно, понят.
Так и пришел конец моей мечте играться со словами, как Пабло Пикассо с красками или как мои джазовые кумиры – со звуками. Если я нарушу все правила пунктуации, назначу словам новые значения по своей прихоти и нанижу их вперемешку, я просто не буду понят. Так что вам я тоже не советую писать в стиле Пикассо или в джазовой манере, если вам, конечно, есть что сказать и вы желаете быть понятыми.
Если бы преподаватели были единственными, кто требует от современных писателей придерживаться художественного стиля прошлых лет, мы с полным правом могли бы их игнорировать. Но читатели требуют того же самого. Они хотят, чтобы наши страницы были похожи на страницы, которые они видели раньше.
Почему? Да потому что перед ними и так стоит трудная задача, и от нас им требуется вся возможная помощь. Им придется опознать тысячи маленьких значков на бумаге и немедленно извлечь из них смысл. Им предстоит читать, а это искусство столь сложное, что большинство людей не в состоянии его полностью освоить на протяжении средней и старшей школы – двенадцати долгих лет.
Итог этой дискуссии, как и всех дискуссий о стилях и вкусах, в том, что писательский выбор стиля не велик и не роскошен, поскольку наши читатели так несовершенны. Аудитория вынуждает нас быть внимательными и терпеливыми учителями, всегда готовыми упрощать и разъяснять – хотя мы с радостью взмыли бы над толпой и разразились бы соловьиными трелями.
Это была плохая новость. Хорошая состоит в том, что американское государство основано на единственной в своем роде Конституции, которая позволяет нам писать что угодно и не бояться наказания. Так что самый ключевой аспект нашей стилистики, а именно выбор темы для творчества, неисчерпаем.
Кроме того, у нас общество всеобщего равенства, и вы не обязаны писать, как аристократы с классическим образованием – если, конечно, вы не являетесь аристократом с классическим образованием.
Что же касается дискуссии о литературной стилистике в более узком смысле, я рекомендую вам книгу «Элементы стиля» Уильяма Странка-младшего и Э. Б. Уайта. В ней вы найдете множество правил, например: «Группа причастия в начале выражения должна относиться к грамматическому подлежащему». Э. Б. Уайт, бесспорно, является одним из значительнейших литературных стилистов нашей страны.
Но, замечу я, никого бы не заинтересовали замечательные способности мистера Уайта к выражению своих мыслей, если бы не великолепные мысли, которые он выражал.
АВТОИНТЕРВЬЮ (ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ)
Это интервью, данное самому себе, появилось в журнале «Пэрис ревю» № 69 от 1977 года. Здесь оно напечатано с разрешения издательства «Викинг пресс», которое владеет правами на все интервью, опубликованные в этом журнале.
Слова, которые произносит писатель, если эти слова не были первоначально положены на бумагу, редко совпадают с тем, что писатель хотел сказать. Писателям вообще не везет с устной речью, в основном потому, что профессия приучает их годами сидеть над листом бумаги и раздумывать, что нужно сказать дальше и как это лучше сделать. Интервьюеры предлагают ускорить этот процесс: сделать писателю трепанацию черепа и пошарить в его мозгу в поисках неиспользованных идей, которые, возможно, в противном случае никогда бы не увидели света. Этот жестокий метод не явил миру еще ни одной стоящей идеи, однако авторов по-прежнему продолжают трепанировать.
Я отказываю всем, кто желает отпилить верх моего черепа. Единственный способ выудить нечто из писательского мозга – оставить его в покое, пока он не созреет для того, чтобы записать это нечто.
Данное интервью полностью письменное. Ни слова из него не было произнесено вслух. Сопроводительный текст (курсивом) написан не мной, а «Пэрис ревю»:
Вступление к первому из представленных интервью (данном в Уэст-Барнстейбл, штат Массачусетс, когда Воннегуту было 44 года) гласит: Он ветеран и отец семейства, широкий, подвижный, уверенный в себе. Он сидит в кресле, одетый в потертую твидовую куртку, серые фланелевые брюки и синюю рубашку. Он сутулится, держит руки в карманах. Пересыпает интервью канонадой кашля и чихания, последствий осенних холодов и давнишнего пристрастия к сигаретам. Говорит гулким баритоном, в характерной для жителя Среднего Запада манере. Время от времени он широко улыбается, это улыбка человека, который видел и запомнил почти все: Великую депрессию, войну, близость неминуемой смерти, идиотизм корпоративного пиара, шестерых детей, финансовые проблемы, запоздалое признание.
Последнее из интервью, вошедших в эту компиляцию, взято летом 1976 года, через много лет после первого. Во вступлении к нему говорится: «…он движется со спокойным дружелюбием домашнего пса, старого друга семьи. Весь он какой-то взъерошенный: длинные курчавые волосы, усы и располагающая улыбка выдают в нем человека, которого одновременно восхищает и огорчает окружающий мир. На лето он снял дом Джеральда Мерфи. Он работает в крошечной спальне в конце коридора, где сам Мерфи, художник, бонвиван и близкий друг для многих гигантов пера, скончался в 1964 году. Со своего места Воннегут видит газон перед домом; за его спиной большая кровать с белым балдахином. На столе, рядом с печатной машинкой, лежат интервью Энди Уорхола, „Внутренняя зона“ Клэнси Сигала и несколько пустых сигаретных пачек.
Воннегут смолит „Пэлл-Мэлл“ одну за одной с 1936 года. За интервью он успел выкурить почти пачку. Голос у него низкий и спокойный, когда он говорит, неизбежная церемония закуривания очередной сигареты словно расставляет точки и запятые в беседе. Ничего более, ни телефонные звонки, ни тявканье небольшой лохматой собаки по кличке Тыква, не отвлекает благосклонное внимание Воннегута. Воистину, как сказал Дэн Уэйкфилд про своего однокашника по шортриджской школе: „Он много смеялся и был ко всем добр“».
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы ветеран Второй мировой, так?
ВОННЕГУТ: Да. Хочу, чтобы мне отдали воинские почести, когда умру, – горн, гроб, покрытый флагом, оружейный залп, мемориальное кладбище.
ИНТЕРВЬЮЕР: Зачем?
ВОННЕГУТ: Только так я смогу добиться того, чего хотел больше всего остального в жизни, – того, что я получил бы, если бы смог погибнуть на войне.
ИНТЕРВЬЮЕР: И это…
ВОННЕГУТ: Безоговорочное одобрение окружающих.
ИНТЕРВЬЮЕР: А разве сейчас этого нет?
ВОННЕГУТ: Родственники говорят мне: хорошо, что у тебя водятся деньги, но читать твои книги невозможно.
ИНТЕРВЬЮЕР: Во время войны вы были пехотинцем, батальонным разведчиком?
ВОННЕГУТ: Да, но в лагере для новобранцев меня обучали обращению с 240-миллиметровой гаубицей.
ИНТЕРВЬЮЕР: Немаленькое орудие.
ВОННЕГУТ: Из передвижной полевой техники – самый крупный калибр в армии на то время. Орудие состояло из шести крупных узлов, каждый тащил за собой трактор «катерпиллер». После получения приказа на стрельбу нам приходилось его собирать. Мы практически производили орудие заново: водружали одну часть на другую при помощи кранов и домкратов. Снаряд был где-то двадцать пять сантиметров в диаметре и весил почти сто сорок кило. Мы собирали маленькую железную дорогу, чтобы подвозить снаряд к казеннику, который находился на высоте в два с половиной метра. Затвор был похож на бронированную дверь сейфа Кредитно-сберегательного общества в Перу, штат Индиана.
ИНТЕРВЬЮЕР: Здорово было стрелять из такого оружия?
ВОННЕГУТ: Не особо. Мы загоняли в него снаряд, потом закидывали картузы с очень медленным и терпеливым взрывчатым веществом. Я думаю, там были сырые собачьи галеты. Мы закрывали затвор и спускали боек, который воспламенял ртутный капсюль и поджигал сырые собачьи галеты. Подозреваю, что главной задачей было получить пар. Через какое-то время оттуда раздавалось шипение, словно индейка в духовке жарилась. Может быть, мы даже могли бы время от времени открывать затвор и поливать снаряд соком. Но потом гаубица начинала волноваться. В конце концов она откатывалась назад по амортизаторам и выкашливала снаряд. Он выплывал из жерла, как небольшой дирижабль. Будь у нас стремянка, мы могли бы написать на боку снаряда «В жопу Гитлера», пока болванка выползала из ствола. Вертолет мог бы догнать и сбить снаряд в полете.
ИНТЕРВЬЮЕР: Оружие, наводящее ужас.
ВОННЕГУТ: Угу. Времен франко-прусской войны.
ИНТЕРВЬЮЕР: Но в конце концов вас отправили на другой континент без этого монстра, а в составе 106-й пехотной дивизии?
ВОННЕГУТ: «Дивизия готовых завтраков». Нас кормили завтраками в бумажных пакетах. Бутерброды с салями. Апельсин.
ИНТЕРВЬЮЕР: В бою?
ВОННЕГУТ: Нет, еще в Штатах.
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы прошли курс пехотинца?
ВОННЕГУТ: Нет, нас не готовили как пехотинцев. Батальонные разведчики были элитой. Нас было всего шесть человек на батальон, и никто, в сущности, не знал, что мы должны делать. Поэтому мы заваливались с утра в комнату отдыха, играли в пинг-понг и заполняли заявления о приеме в офицерскую школу.
ИНТЕРВЬЮЕР: Но вас же должны были хотя бы ознакомить с другими видами вооружения, помимо гаубицы?
ВОННЕГУТ: Если вы осваиваете 240-миллиметровую гаубицу, на все остальное времени не остается. Вы даже фильм про венерические болезни посмотреть не успеваете.
ИНТЕРВЬЮЕР: И что случилось, когда вы попали на фронт?
ВОННЕГУТ: Я подражал актерам из фильмов про войну.
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы убивали на войне?
ВОННЕГУТ: Я думал об этом. Даже как-то раз примкнул штык, готовясь к атаке.
ИНТЕРВЬЮЕР: И пошли в атаку?
ВОННЕГУТ: Нет. Если бы все пошли, я бы не остался в окопе. Но мы решили не атаковать. Просто не видели врага.
ИНТЕРВЬЮЕР: Это было во время Арденнской операции? Крупнейшее американское поражение за всю историю.
ВОННЕГУТ: Наверное. Моей последней задачей как разведчика был поиск собственной артиллерии. Обычно разведчики пытаются обнаружить вражеские позиции, а у нас все было так плохо, что мы в итоге пытались найти свои. Если бы я нашел командира своего батальона, все бы очень обрадовались.
ИНТЕРВЬЮЕР: Может, опишете, как вы попали в плен?
ВОННЕГУТ: С удовольствием. Мы залегли в промоине глубиной примерно с окоп времен Первой мировой. Вокруг лежал снег. Кто-то сказал, что мы, наверное, в Люксембурге. У нас не было еды.
ИНТЕРВЬЮЕР: Кто такие «мы»?
ВОННЕГУТ: Разведгруппа нашего батальона, все шестеро. И еще человек пятьдесят, которых я раньше не видел. Немцы нас видели, при помощи громкоговорителя убеждали нас сдаться. Говорили, что положение безвыходное и все такое. Тогда мы и примкнули штыки. На несколько минут мы почувствовали себя сильнее.
ИНТЕРВЬЮЕР: Почему?
ВОННЕГУТ: Получился такой дикобраз, ощетинившийся стальными перьями. Мне было жалко того, кто попытался бы нас атаковать.
ИНТЕРВЬЮЕР: Но вас все же атаковали?
ВОННЕГУТ: Нет. Вместо себя они послали 88-миллиметровые снаряды. Те рвались в кронах деревьев над нами. Очень громкие взрывы прямо над головой. Нас осыпало шрапнелью. Многих ранило. Потом немцы снова предложили нам сдаться. Мы не кричали «ни за что», ничего подобного. Мы говорили «ладно, ладно» и «не стреляйте», что-то вроде. Когда немцы в конце концов показались, мы увидели, что на них белый камуфляж. У нас ничего такого не было. Только грязно-зеленая форма. Вне зависимости от сезона, грязно-зеленая форма на все времена.
ИНТЕРВЬЮЕР: Что сказали немцы?
ВОННЕГУТ: Сказали, что для нас война кончена. Что нам повезло, что мы теперь точно останемся в живых, а вот насчет себя они не уверены. И в самом деле, в течение следующих нескольких дней все они были убиты или взяты в плен Третьей армией Паттона. Такой вот круговорот.
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы говорите по-немецки?
ВОННЕГУТ: Мои родители знали его в совершенстве. Меня они языку не учили, потому что в годы Первой мировой в Америке косо смотрели на все немецкое. Я смог связать пару слов на немецком, обратившись к нашим конвоирам. Они спросили, есть ли у меня немецкие корни, я ответил, что есть. Тогда они спросили, почему я воевал против своих братьев.
ИНТЕРВЬЮЕР: А вы?
ВОННЕГУТ: Мне этот вопрос показался глупым и даже комичным. Родители так решительно оторвали меня от немецкого наследия, что мне было решительно наплевать, что война идет с немцами. Они могли быть боливийцами или тибетцами – никакой разницы.
ИНТЕРВЬЮЕР: Потом вас отправили в Дрезден?
ВОННЕГУТ: Нас везли в товарных вагонах – тех же самых, что доставили на фронт солдат, которые взяли нас в плен. Наверное, в тех же самых вагонах, в которых везли в концлагеря евреев, цыган и свидетелей Иеговы. Скотовозки есть скотовозки. Ночами случались налеты британских бомбардировщиков. Видимо, кто-то решил, что мы были грузом стратегического назначения. Бомба попала в вагон с офицерами нашего батальона. Каждый раз, как я говорю, что не люблю начальников – а делаю я это ох как часто, – приходится напоминать себе, что почти никто из офицеров, под началом которых я служил, не выжил. А где-то далеко справляли Рождество.
ИНТЕРВЬЮЕР: Наконец вы прибыли в Дрезден.
ВОННЕГУТ: Сначала в громадный лагерь для военнопленных к югу от Дрездена. Рядовые жили отдельно от офицеров и унтер-офицеров. Согласно Женевской конвенции, которая, конечно, очень характерный для эдвардианских времен документ, рядовые были обязаны отрабатывать свое содержание. Все остальные могли блаженствовать в тюрьме. Меня как рядового отправили в Дрезден.
ИНТЕРВЬЮЕР: Каким вы застали город до бомбардировки?
ВОННЕГУТ: Это был первый красивый город в моей жизни. Город, полный статуй и зоопарков, как Париж. Мы жили на бойне, в новом красивом бетонном свинарнике. Свинарник был заставлен койками с соломенными матрасами, и каждое утро мы отправлялись оттуда на фабрику мальтозной патоки. Патока предназначалась для беременных. Иногда чертовы сирены поднимали вой и мы слышали, как падали бомбы в соседних городах – бум-да-дум-да-дум-дадум. Мы не думали, что будет налет на нас. В городе было очень мало бомбоубежищ, никаких военных заводов, только табачные фабрики, больницы, мастерские музыкальных инструментов. Когда в очередной раз взвыли сирены – это было 13 февраля 1945-го, – мы спустились на два этажа под землю, в большой мясной холодильник. Там было прохладно, вокруг на крюках висели туши. Когда мы поднялись на поверхность, города больше не было.
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы не задохнулись в холодильной камере?
ВОННЕГУТ: Нет. Места там было много, а нас мало. Бомбардировка показалась мне не особенно сильной. Сначала по городу прошлись тяжелыми фугасами, чтобы его немного разворошить, потом засыпали «зажигалками». В начале войны зажигательные бомбы были довольно большими, размером с коробку для обуви. Ко времени бомбардировки Дрездена они стали совсем крошечными. И эти крошки сожгли целый город.
ИНТЕРВЬЮЕР: Что было дальше?
ВОННЕГУТ: Нас караулили сержант, капрал и четыре рядовых, которые остались без офицеров. И без города, если на то пошло, ведь они сами были дрезденцами, которых комиссовали с фронта по ранению. Они продержали нас по стойке «смирно» пару часов – просто не знали, что дальше делать. Отошли в сторонку и держали совет. В итоге мы прошли маршем по развалинам домов, пока не добрались до уцелевших зданий в пригороде Дрездена. Там нас расквартировали вместе с какими-то южноафриканцами. Каждый день мы возвращались в город, раскапывали подвалы и убежища, чтобы убрать трупы во избежание эпидемии. Внутри типичное бомбоубежище – чаще всего обычный подвал – было похоже на трамвай, в котором у всех пассажиров случился разрыв сердца. Сидит много людей, все мертвые. Огненная буря поразительная вещь. В природе такого не случается. Внутри ее образуются смерчи, которые вытягивают весь чертов воздух. Мы выносили трупы наружу. Их грузили на тележки и свозили в парки, единственные места в городе, не засыпанные обломками. Там немцы разводили погребальные костры, сжигали тела, чтобы избежать вони и инфекций. Под землей оказалось 130 тысяч трупов. Мы занимались адски тяжелым кладоискательством. На работу мы проходили через военный кордон: гражданским не нужно было видеть, чем мы занимаемся. Через несколько дней от развалин пошла трупная вонь, и наши методы изменились. Необходимость – мать изобретательности. Мы пробивались в убежище, собирали ценности, которые лежали на коленях у погибших, и отдавали их солдатам. Никто не пытался опознать трупы. Потом подходил огнеметчик и устраивал кремацию прямо в подвале, чтобы собрать золото и драгоценности, потом выжечь все внутри.
ИНТЕРВЬЮЕР: Какие впечатления для человека, который хочет стать писателем!
ВОННЕГУТ: Это был поразительный опыт, непередаваемый. И момент истины, ведь американцы – гражданские и солдаты на линии фронта – не знали, что американские бомбардировщики принимают участие в ковровых бомбардировках. Это держалось в секрете почти до самого конца войны. И Дрезден был сожжен лишь потому, что перед этим они спалили все остальное. Вроде как: «Ну, чем сегодня займемся?» Баки заправлены, Германия пока не сдалась, и машина для сжигания городов продолжала работать. И остальным не нужно было знать, что мы сжигаем города – расплавляем горшки и испепеляем детские коляски. Была еще эта чушь с норденовским прицелом. Видели, наверное, кинохронику с бомбардировщиком, который охраняют два военных полицейских с «кольтами» в руках. Все это ложь и чушь. Черт, да они просто летали над городами, сотни самолетов, и сбрасывали вниз все, что только можно. Когда я после войны поступал в Чикагский университет, на собеседовании мне попался летчик, который бомбил Дрезден. Добравшись до этой части моей биографии, он сказал: «Нам это очень не нравилось». Его слова врезались в мою память.
ИНТЕРВЬЮЕР: Еще говорят: «Мы всего лишь исполняли приказ».
ВОННЕГУТ: Он оказался человечнее. Мне кажется, он считал, что бомбардировки необходимы, и, может даже, он был прав. Потом мы узнали еще одну вещь – как быстро можно отстроить город. Инженеры говорили, что на восстановление Германии уйдет 500 лет. На самом деле понадобилось всего 18 недель.
ИНТЕРВЬЮЕР: Вы сразу решили описать увиденное вами в Дрездене?
ВОННЕГУТ: Я не имел ни малейшего представления о масштабах разрушений. Что точно так же выглядели Бремен, Гамбург, Ковентри… Я никогда не был в Ковентри, мне не с чем было сравнивать, разве что с кадрами из кинофильмов. Вернувшись домой (а я начал писать, еще работая в корнеллской «Сан», правда, университетской газетой мое писательство и ограничивалось), я подумывал о том, чтобы написать о своей военной эпопее. Сбегал в редакцию газеты «Индианаполис ньюс» и посмотрел, что они писали про Дрезден. Нашел заметку в полпальца длиной, где говорилось, что Дрезден бомбили и было потеряно два самолета. Ну что ж, решил я, видимо, это событие на фоне Второй мировой войны было не таким уж заметным. Вот остальным есть о чем писать. Помню, как я завидовал Энди Руни, который тогда как раз стал знаменитым; я не знал его, но, кажется, он первый, кто опубликовал послевоенный рассказ про войну, озаглавленный «Хвостовой стрелок». Черт, у меня-то таких классных приключений не было. Однако всякий раз, когда в разговоре с каким-нибудь европейцем речь заходила о войне и я упоминал, что был тогда в Дрездене, тот человек изумлялся и просил рассказать поподробнее. Потом вышла книга Дэвида Ирвинга о Дрездене, в ней говорилось, что это было самое большое кровопролитие в истории Европы. Господи, воскликнул я, значит, я все же что-то видел! Нужно написать свою собственную историю о войне – не важно, интересную или нет, и посмотреть, что получится. Я немного описал этот процесс в начале «Бойни номер пять»; вначале я представлял себе все в виде фильма с участием Джона Уэйна и Фрэнка Синатры. Но потом девушка по имени Мэри О’Хейр, жена моего друга, который был вместе со мной в те дни, сказала:
– Вы же были тогда совсем детьми. Будет нечестно делать вид, будто вы были взрослыми, как Уэйн и Синатра, нечестно перед будущими поколениями, потому что вы приукрашиваете войну.
Мне ее слова сильно помогли.
ИНТЕРВЬЮЕР: Да, они полностью меняют…
ВОННЕГУТ: Она позволила мне писать про юнцов, которыми мы тогда действительно были: 17, 18, 19, 20, 21. У нас были детские лица, я не помню, чтобы я в плену часто брился. Просто потому, что не было необходимости.
ИНТЕРВЬЮЕР: Еще вопрос: вы все еще думаете о бомбардировке Дрездена?
ВОННЕГУТ: Я написал об этом книгу, «Бойня номер пять». Ее продолжают издавать, и мне время от времени приходится как бизнесмену заниматься продажами и тому подобным. Марсель Офюльс попросил меня принять участие в съемках его фильма «Памяти справедливости». Он хотел, чтобы я рассказал о Дрездене как о военном преступлении. Я посоветовал ему поговорить с моим другом Бернардом В. О’Хейром, мужем Мэри. Он так и сделал. О’Хейр был, как и я, батальонным разведчиком и тоже попал в плен. Сейчас он стал юристом и живет в Пенсильвании.







