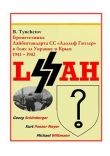Текст книги "Эсэсовцы под Прохоровкой. 1-я дивизия СС «Лейбштандарт Адольф Гитлер» в бою"
Автор книги: Курт Пфеч
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 16 страниц)
Танковое сражение под Прохоровкой бушевало целый день. И вечер был таким же, как день, а ночь – такой же, как вечер. Горящие танки освещали местность призрачным колеблющимся светом. Остовы танков стояли близко друг к другу, в некоторых местах – кучами, так же, как погибшие гвардейцы и гренадеры, так как в танковое побоище русские загнали и свою пехоту. Они шли под прикрытием своих танков, висели, как обычно, на броне, и, как обычно, их скашивали оттуда очереди немецких пулеметов. По упавшим проезжали шедшие сзади Т-34, а когда в них попадал снаряд, гвардейские стрелки разлетались в стороны. Часто они потом суетились, словно пчелы вокруг лежащего жука-носорога. Блондин взял пример с артиллеристов. Он стрелял спокойно и точно. С каждым его взглядом в прицел и отдачей приклада он освобождался от тянущего ощущения в желудке и страха перед неопределенностью в своей душе. Эрнст помогал ему и считал попадания. И снова было похоже на противотанковую пушку, которой восхищался Блондин, потому что она стреляла как на стрельбище и каждый раз попадала.
Командир роты погиб ранним вечером или, как уточнил Эрнст, в начале сумерек. Их командир взвода погиб перед ужином. Ханс принял командование взводом, парой оставшихся горемык. Через этот ад Дори три раза подвозил боеприпасы и три раза невредимым возвращался назад. Четвертую поездку предпринял техник. До передовой он не доехал и назад не вернулся. Тогда Дори взял новый мотоцикл, нагрузил полную коляску боеприпасами и порулил на передовую. Перед самой балкой он увернулся от двух непрестанно стрелявших «Тигров», подбивших перед самым носом у гренадеров пять Т-34. Шестой случайно успел выстрелить. Дори вышибло с сиденья, и он, удивленный, но невредимый, приземлился в кустах. Оттуда, чертыхаясь и обливаясь потом, он пробрался к балке. Вздохнув, посмотрел на озабоченное лицо Эрнста и стрельнул сигарету.
– Что, теперь заделался партерным акробатом?
Дори осмотрелся:
– Где здесь передовая, а где тыл?
Эрнст улыбнулся:
– Там, где стреляют, – там передовая, где не стреляют – там тыл.
– А где не стреляют? – спросил Дори.
Вечер был удушающе жарким. Русские уже не атаковали широким фронтом, а пытались прорваться на узких участках группами Т-34. За ними ехали бронемашины с гвардейскими стрелками. Артиллерия молчала и с той, и с другой стороны. Артиллеристы не могли определить, куда стрелять, так как все перемешалось. Авиация тоже держала долгую паузу. Поле боя было покрыто дымом, пылью и пожарами. Оставались только маршруты выдвижения резервов. По ним еще работали немецкие бомбардировщики. Русским не надо было и подниматься, потому что у немцев резервов не было.
Рядом с балкой было относительно тихо, если не считать взрывающихся в подбитых танках боекомплектов и небольших дуэлей между группами из двух-трех русских танков, пытающихся проводить отвлекающие маневры, двумя «Тиграми» и противотанковыми пушками. При этом русские всегда оставались в проигрыше, так как видимость из-за многочисленных пожаров была хорошей, и передвижение между многочисленными остовами танков легко и быстро можно было заметить. Через пару минут к танковому кладбищу добавилось три или четыре остова.

Танковое кладбище под Прохоровкой.
Блондин тщательно вычистил винтовку и осторожно протер оптический прицел. Эрнст и Дори сидели
в нескольких метрах рядом и беседовали. При этом Дори был ведущим в разговоре и курившим больше сигарет. Пауль и Йонг колдовали над своим разобранным пулеметом, Пимпф и Шалопай снаряжали ленты. Ханс в сотый раз оценил огневые позиции пулеметов, постоянно бегая кругами, как собака, не находящая себе места.
Довольный, Блондин отложил в сторону свою винтовку, прикурил окурок сигареты и откинулся назад. «Странно все это, – он попытался пустить колечки дыма, – в голове – никаких мыслей, ни дурацких, ни разумных. Ничего. И тянущее чувство в желудке прошло. Что со мной случилось?» Он загасил окурок. «Чувствую себя опустошенным. Выжатым, словно мокрая тряпка». Он вытер пот со лба, перевернулся на грудь, закрыл глаза и забыл притянуть губу к носу.
День одиннадцатый
12 июля 1943 года
Вскоре после полуночи убили Йонга. Ирония обстоятельств. Совершенно бессмысленно. Дурацкий случай. Именно в самый спокойный момент сражения под Прохоровкой. Когда можно было отметить относительно спокойное время между атаками, передышку на фронте. Именно тогда это и случилось. Судьба иногда выкидывает редкие фортели. Каждый об этом знает, знал и Йонг. Но в тот момент никто об этом не думал, и Йонг – тоже.
Пулемет был установлен на бруствере. Пауль и Йонг сидели позади него в балке, курили и тихо разговаривали с Шалопаем. Пимпф спал. Они услышали свист тяжелого снаряда, но не пошевелились. Он разорвался перед их укрытием и опрокинул пулемет. Йонг чертыхнулся, отложил сигарету, как бы нехотя поднялся, чтобы забрать пулемет. Второй снаряд лег далеко справа. Йонг отпустил рукоятку пулемета, а его каска стукнула по прикладу. Пауль крикнул:
– Назад!
Когда Йонг не ответил, он пополз вверх, тряхнул его – ответа не было.
– Йонг! Йонг?
Он потащил своего друга назад, крича:
– Йонг! Йонга убило!
Эрнст удержал Блондина, попытавшегося достать перевязочные пакеты из кармана маскировочной куртки. Он только молча покачал головой, увидев осколочное ранение, протянувшееся через ухо в заднюю часть головы. Пауль сел рядом с убитым, обхватив голову обеими руками. Он ничего не говорил, ничего не делал, ни на что не реагировал, просто тупо смотрел перед собой.
Когда танки опять открыли огонь, он взвалил убитого на спину и понес его в самое глубокое место балки.
– Пауль! Останься здесь! – позвал его Ханс.
В свете огня горящих танков, под грохот пушек, свист и разрывы снарядов, в дыму и пыли Пауль начал рыть могилу для своего друга.
«Он сошел с ума, – подумал Блондин, – совсем рехнулся!» Он смотрел, как Пауль рыл землю, не обращая ни на что внимание. «Черт возьми, он действительно копает могилу, настоящую могилу во время танкового боя под Прохоровкой! Это ли не безумие?» Безумие? А может быть, наоборот? Разве это не нормально, что человек хочет похоронить своего друга, как если бы это было на родине, на кладбище? Нет только надгробной речи и салюта. Но тут больше, чем ружейный салют! Танки непрерывно стреляют салют! Безумие? Нормально? Что здесь такого? Убийственное уничтожение. Вонючая, чадящая ночь. Грохот артиллерии! Мрачно-красивая подсветка сцены! Копающий Пауль.
Он видел, как Пауль осторожно положил своего друга в могилу и так же тщательно и спокойно, почти торжественно стал его засыпать. Лопата за лопатой, не обращая внимание на разрывы, не замирая, когда приближается свист, он работал равномерно, как машина, с застывшей улыбкой на губах. И солдаты в балке видели это. Они были членами траурной процессии, к которой присоединились и артиллеристы противотанковых пушек. Когда Пауль закончил, он остался стоять со скрещенными руками. И Блондин кивнул, подтверждая свои собственные мысли, и притянул верхнюю губу к носу: «Как я мог подумать? Он поминает, даже молится, и это – не кино, и даже не последняя сцена с раскатистым музыкальным финалом, и это никакой не героический роман, это происходит в действительности, это – реальность! Если кому-нибудь расскажу, он подумает, что я свихнулся».
Когда он увидел, как Ханс подошел к стоявшему Паулю и положил руку ему на плечо, то все стало действительно как в кино! Вместо органа гудели тяжелые калибры, танковые пушки отбивали такт, а пули пели «Аллилуйя!». Это не были похороны друга, это было погребение одного… Блондину вдруг стало холодно, когда он понял, что в могилу положили не только штурмана Дитера Йонга, но и всю веру и надежду целого поколения. Его поколения!
Пауль на негнущихся ногах медленно отходил назад, сел, положил руки на высоко поднятые колени и стал ждать. Он ждал до следующей атаки, а когда из ночи вынырнули темные силуэты гвардейских стрелков, швырнул пулемет сошками на бруствер, оттолкнул Шалопая, который хотел ему помочь, и стал выпускать из ствола ленту за лентой. Он отказался от своей знаменитой умелой смены позиций, стрелял, улыбался своей застывшей улыбкой, улыбался, когда, заменяя ствол, обжег себе руку. Потом передернул затвор, стрелял и улыбался. Когда пулемет замолчал, Эрнст и Блондин пробрались к нему, оттащили его и осторожно перевернули на спину. Четыре ранения – в плечо, руку, ключицу и последнее – в верхнюю часть груди.
Пауль открыл глаза. Его взгляд был спокоен и ясен. Так же спокойно он сказал:
– Они меня не прикончили. Ничто меня больше не прикончит.
Он лежал тихо, вытянув руки по швам, ноги вместе, мыски сапог чуть разведены в стороны. Ханс махнул Дори:
– Попытайся раздобыть мотоцикл! Иди и поторопись, ясно?
Дори поправил шлем, прикурил от окурка новую сигарету и пошел.
Перед дымным рассветом 12 июля на передовую выехал мотоцикл BMW R 75. Замасленный, покрытый пылью водитель привез боеприпасы, немного еды и термос с чаем. Водитель – Дори – посмотрел, как подняли Пауля, у которого даже не дрогнуло лицо, посадили в коляску и крепко привязали пулеметной лентой.
– Хреновые дела, Эрнст. Что ты скажешь про Пауля?
– Пауль? Выберется. Он поправится. Внешне будет таким же, но внутри он сломался.
Эрнст, как усталый старик взгромоздился на заднее сиденье. Протягивая здоровую руку, он улыбнулся:
– Бывай, Цыпленок. Теперь сам за собой смотри!
Это было долгое рукопожатие, они посмотрели друг на друга, Блондин кивнул:
– Да, Эрнст. Поправляйся. Еще увидимся.
– Да, – процедил он сквозь сжатые зубы. – Когда– нибудь где-нибудь. Самое позднее – после войны в Мюнхене.
Дори натянул на глаза очки, пожелал всем доброго утра и медленно тронулся. Последнее, что видел Блондин, – это был мюнхенец с непокрытой головой, махавший стальным шлемом.
Их осталось только двое. Двое из двенадцати. И всего за одиннадцать дней. Если причислить пополнение – Пимпфа и Шалопая, которые все еще оставались в отделении, это выглядело несколько лучше.

«Мечтой свиньи» или большим счастьем был «выстрел на родину», требовавший длительного процесса выздоровления. И совсем плохо, если «героическую смерть» описывали в газете в черной рамке под изображением Железного креста!
Ханс теперь командир взвода. Но как командиру командовать ему в общем-то некем. Он почти не говорит. И говорить ему нечего. Впрочем, он придерживается мнения, что битва под Курском провалилась. А Блондин подтягивает губу к носу и не находит ничего, что свидетельствовало бы против этого.
Пимпф принял пулемет Пауля, а Шалопай, чертыхаясь, стал таскать за ним ящики с лентами.
Дори остался Дори. После того как его друг техник пропал, он, кажется, почувствовал бóльшую связь с отделением. Точнее это знал бы только шпис, но он лежал в изрешеченном «Штейр-кюбельвагене», на котором хотел подвезти на передовую продовольствие и боеприпасы. Шпис больше не знает ничего.
День последний
15 июля 1943 года
Монотонно сыплет дождь. Солдаты сидят в своих окопах, натянув над головами пристегнутые одна к одной плащ-палатки, и смотрят усталыми сонными глазами на ненастный день. Невысокие деревья со свисающими ветвями стоят, словно темная стена неизъяснимой печали. Чавкающая раскисшая глина, холодная сырая трава, пласты грязи и этот моросящий дождь пробирают до костей.
Блондин присел на поваленное дерево. По овражку тонкой серо-коричневой струйкой текла вода. Он смотрел через узкий разрез своей плащ-палатки на противоположный склон, по которому непрестанно вниз стекали ручейки, бороздящие пашню. Грязная вода журчала в глубоких промоинах овражка, стекая вниз, и на короткое время собиралась у его ног.
Пара сапог прочавкала мимо. Это, должно быть, Ханс.
Дождь вызывал мрачные мысли. Ручьи смывали их, уносили с собой и топили. Не думать, не чувствовать, не делать – ничего.
Через два часа они пошли в атаку.
* * *
«Мои дорогие!» – не так-то просто писать одной рукой. Бумага то и дело соскальзывает. Буквы выглядят словно пьяные.
Медсестра секунду наблюдала за усилиями Блондина, покачала головой, вышла из зала и через пару минут вернулась с красной резинкой для консервных крышек. Она прижала ею лист бумаги к подложке и ободряюще улыбнулась ему. Он поблагодарил, взял свой карандаш, притянул к носу верхнюю губу и продолжил писать:
«Лежу в госпитале и чувствую себя по-свински отлично. – Он зачеркнул „по-свински“. – Рука уже почти не болит. Только по ночам ее прихватывает, как будто скребут и царапают тысячи чертей. Особенно ноют и горят пальцы. А когда я хочу их почесать, то замечаю, что чесать уже нечего. Это странно. Руки уже нет, а она как будто все равно здесь. Я могу двигаться, хотя все при мне и передвигаться никуда не надо. Нога уже в порядке, только крестец иногда сходит с ума, колет и тянет, как будто я поднял большую тяжесть. В любом случае, худшее уже позади, и я рад переводу в госпиталь на территории рейха».
Он критически рассмотрел написанное и довольно улыбнулся.
«Слава богу, мне угодили в левую. Рука пропала, и мало надежды, что вырастет новая». Глупости. Он взял карандаш и хотел зачеркнуть последнее предложение. Пожал плечами, скривил лицо, так как необдуманное движение причинило боль, оставил все, как было, и стал писать дальше: «Юмор висельника. Главное, я не теряю самообладания, иногда, по крайней мере. В любом случае, настроение у меня не такое, как у инвалида. Как это все случилось?
Мы пошли в атаку. Из оврага под проливным дождем. Небо сильно плакало, и вскоре нам тоже досталось. Мы – точнее сказать, то, что осталось от нашего батальона, – продвинулись далеко вперед. Помню только, как выглядели мои сапоги. На них налипли огромные комья грязи, с каждым шагом становившиеся все больше и тяжелее. Артиллерия наша была в отпуске. В любом случае, мы ее не видели и не слышали. Наши танки дрались с Т-34 и останавливались. И это было настоящим чудом. И тут началось! Иван! Мы, идиоты, бежали навстречу контратаке! Бежали? Мы пытались ковылять по земле, как кроты, которые не умеют плавать. Потом подошли русские танки и завершили дело. Они развалили едва выкопанные окопы, стреляли во все, что шевелилось, намотали раненых на гусеницы. Рядом со мной ранили Пимпфа. Он звал санитара, но тот не пришел, так как не мог прийти – лежал в нескольких метрах позади с простреленным животом. Я подскочил, чтобы помочь Пимпфу. Удар в левую руку опрокинул меня в грязь. „Ничего страшного“, – подумал я. А Ханс – мой командир взвода – кричал, хотел узнать, что со мной случилось. Я крикнул, что со мной все в порядке, подполз к Пимпфу и лег за пулемет. Пимпф стрелять больше не мог. Осколком ему разорвало предплечье. Сначала я еще видел русских, потом не смог больше держать голову. Что было дальше – не помню.
Когда очнулся, почувствовал сильную боль. Дождь продолжал все еще лить как из ведра. Пимпф лежал рядом со мной. Он не шевелился и был перевернут, по-видимому, хотел бежать назад и при этом был убит. Я переломил его жетон и попытался отползти в глубокую воронку от крупнокалиберного снаряда. Можете себе представить, как я испугался, когда увидел там лежащего убитого русского. Перед другими воронками тоже лежали убитые гвардейские стрелки.
Я посмотрел на свои часы – они остановились.
Рукава куртки и рубашки у левого локтя стали твердыми от запекшейся крови. Счастье и несчастье. Кровь остановилась из-за того, что я лежал животом на руке. Попробовал пошевелить пальцами – не получилось. Осторожно маленькими ножницами для стрижки ногтей я разрезал рукава куртки и рубашки. Я резал все глубже и глубже через кровавое месиво. И странно – я не пришел в отчаяние и не испугался, когда увидел свою руку, лежащую отдельно от меня. Не понимая, почти помешавшись, я смотрел на желто-синюю руку и на часы, лежавшие передо мной, как на что-то такое, что было не частью меня. Механически я взял часы. Вы их, конечно, помните. Это был подарок дедушки на конфирмацию. Перетянул предплечье ремешком от котелка и осмотрелся. След танка отпечатался в нескольких метрах от позиции пулемета. Он был кривой, и колеи были наполнены водой. Собаки ехали от окопа к окопу. Почему именно меня они не взяли – не знаю.
Иван прорвался!
Повсюду валялось множество вещей. Я не стал ждать, пока стемнеет, надел русскую накидку и таким „полуиваном“ отправился дальше. Мне навстречу проехало несколько Т-34. Они отходили. Значит, далеко прорваться им не удалось. В любом случае, я вежливо их пропускал. Рука горела огнем. Мне стало плохо. Ноги были как ватные.
Потом я нарвался на отделение русских. Теперь я понял, как был прав, захватив с собой автомат. Они попали мне в спину и в голень. Боль была нестерпимой. Но я дошел, и мне удалось сесть на „Тигр“, ехавший в тыл. На главном перевязочном пункте стояли пустые бочки из-под бензина, из которых свешивались отрезанные руки и ноги. Вокруг лежали раненые и мертвые. Когда я снова очнулся, кто-то дал мне глоток водки и мягко сказал:
– Радуйся, приятель, для тебя война закончилась!
Культя левой руки была загипсована и забинтована. Я снова почувствовал левую руку, торчащие пальцы и снова подумал: странно, рука валяется в Прохоровке, а я могу сжать кулак, вытягивать и сжимать пальцы.
Несколько дней я оставался в Харькове. Там я услышал, что операция „Цитадель“, наше наступление на Курск, действительно было прервано, хотя мы и прорвались! И несмотря на то, что мы удержались под Прохоровой! Якобы американцы высадились где-то в Италии. Но зачем было прерывать? Зачем было тогда заваривать эту кашу? К чему терять столько жизней?
В любом случае, не беспокойтесь. Худое споро, не сорвешь скоро».
Он еще раз перечитал письмо. «Нет, такое домой посылать нельзя. Там они все в обморок попадают».
– А теперь – спать!
Когда медсестра увидела его удивленные глаза, улыбнулась и сказала:
– Завтра тоже будет день, не так ли?
Он лег. Одеяло было легким, белым и чистым. В зале постепенно становилось тихо. Кто-то стонал. В оконные стекла стучал дождь. Проклятый дождь. Культя руки горела и пульсировала.
Он посмотрел в потолок, притянул губу к носу, слегка повозился туда-сюда, глубоко вздохнул. Эрнст – Дори – Ханс. Ханс?
Длинного он больше так и не видел. Удалось ли ему выбраться? Дори отвез Эрнста в тыл. Эрнст хотел еще позаботиться на перевязочном пункте о Пауле, а Дори должен был отправиться назад в роту, по возможности с боеприпасами и продовольствием. Но он не приехал до их последней атаки. В любом случае, оба из нее вышли, совершенно точно. Он почувствовал, как глаза налились слезами. «Рева, – ругнулся он про себя, – сейчас, когда все позади, тебе уже всего хватает, а ты начинаешь реветь, как разочарованная девочка».
Уни? Зепп, Пауль, Эрнст и он, может быть, Ханс и еще Шалопай. Это – в лучшем случае, семь из двенадцати, нет, с пополнением – семь из шестнадцати, которые выжили.
Он натянул одеяло до подбородка, почувствовал приятное тепло постели, прислушался к тихой дроби дождя и почувствовал ритм дергающейся культи. Что сказала медсестра? Завтра тоже будет день?
«Правда. Редкое чувство, новое, непривычное чувство. Сознание того, что завтра тоже будет день, снова день, совершенно точно день, и ты его проживешь».
Эпилог
Комната была не большой и не маленькой, не загроможденной и не бедной, обставленной не без вкуса. Типичной. Кровать, круглый стол со стульями, софа, комод с тазиком для умывания и кувшином и огромный платяной шкаф. На стенах две картины – «Рыбак на Кёнигсзее» и, прямо напротив нее «Охота Еннервайна». Жилище студента.
Ничего особенного, но среди руин, развалин, пепла и воронок от бомб – светлый мир. Светлый мир в Мюнхене, Зендлинге летом 1947 года.
– Еще хочешь?
Светловолосый хозяин комнаты покачал головой, улыбнулся и сыто откинулся назад:
– Нет, Эрнст. При всем моем желании, больше не могу.
Жареная селедка болталась, удерживаемая за хвост большим и указательным пальцами над коричневой оберточной бумагой.
– А я бы еще не прочь.
«Он совсем не изменился. Какая радость наблюдать за ним, когда он ест, – улыбнулся Блондин, – и если бы я не был сыт по горло, то у меня снова разыгрался бы аппетит».
– Ну, рассказывай. Или можешь предложить что-то другое?
– Да? Про что?
– Про что! Я про тебя ничего не знаю с Прохоровки. Только не на твоем баварском диалекте!
– Ты даже передохнуть не даешь.
– Итак?
– Итак… После того как я в балке раздал остатки организованной мною жратвы, забрался на мотоцикл Дори. Мне было трудно удержаться на заднем сиденье, так как Дори ехал как чемпион мира по слалому. После того как обстрел немного стих, после того как ночной воздух снова стал пахнуть воздухом, а не нефтью и дымом, я стал осознавать, что сражение под Курском для меня отгремело.
Мы сдали Пауля на перевязочный пункт. Потом мне пришлось ждать. У меня было время. Так много времени, что я очень пожалел о том, что так щедро распорядился своими запасами жратвы. Сейчас бы перекус был очень кстати…
Он продолжал рассказывать о снабжении, перевязке, отправке в госпиталь, об операции. Блондин вопросов не задавал.
– Когда я лежал на носилках, санитар улыбнулся и сказал: «О том, можно ли еще спасти руку, решат в тыловом госпитале на территории рейха». Я кивнул, и для меня стало ясно, что принимать это решение не поручу никому, кроме самого себя. И снова у меня было время. С тем различием, что было что-то поесть. Но я должен все-таки сказать, что мне, как человеку, способному прокормить самого себя, как организатору, – да, Цыпленок? – приходилось существенно легче.
Наконец я сел в санитарный поезд и отправился на запад. И…
Он рассказывал дальше, от отпуска по ранению, дальнейшего пребывания на фронте до попадания в плен, а Блондин наблюдал за другом, за тем, как он сидит, слегка наклонившись вперед, поставив ноги под широким углом, опираясь локтями о стол. Раньше он смотрел на мыски сапог, а теперь он смотрит на свой стакан. Ничего не изменилось. Ничто его не изменило. Он такой, как был всегда – крепыш, как говорят баварцы, образец здорового мужика, спокойного, умелого, твердолобого до упрямства и храброго до легкомыслия.
– А ты?
Блондин отпил глоток и пустил сигаретный дым в стакан. Он посмотрел, как расходятся клубы, и едва заметно кивнул.
– Дым, чад. Мы начали с ночи под Прохоровкой. После того как тебя ранили и ты успел все же вовремя уехать, остатки каши мы должны были расхлебывать одни. Хотя иван не прорвался, но по совершенно непонятным тогда для нас причинам на рассвете следующего дня мы отошли.
Сегодня я знаю, почему битва под Курском была прервана и почему не захотели нанести хотя бы половину удара, как это предлагал Эрих фон Манштейн. Сегодня тоже известно, что у ивана за Прохоровкой тоже ничего не было. Остановить он нас не смог бы. А высадка союзников в Италии? Кого это беспокоило под Курском? И приводимые сегодня оправдания, что удар из-под Орла навстречу нашему удару от Харькова не имел успеха, тоже не имеют под собой основания. Мы, мы сами все упустили! Более того, мы дали ивану время отдохнуть, укрепиться, а потом перейти в наступление, смявшее все южное крыло фронта. Как ты понимаешь, боевой дух был нулевой.
Постоянные дожди. Боеприпасов нет, есть нечего. Численность роты сократилась до взвода. И отступление. И иван, который, по крайней мере, был настолько же измотан, как и мы, однако чувствовал запах жареного и наступал, пусть даже медленно и не с таким ожесточением, как под Прохоровкой.
При отвлекающей атаке местного значения через несколько дней после твоего ранения я был ранен. Снайпер! Когда я очнулся, иван уже прорвался. Я обработал свое ранение, то есть отрезал себе левую руку, так как она висела только на кусках кожи. Наложил жгут и повязку и, поскольку было, слава богу, темно, отправился по направлению к родине. Хотя русская артиллерия поставила заградительный огонь, мне удалось через него перебраться. Потом ампутация на главном перевязочном пункте. Лазарет в Харькове – самое плохое.
Напротив, неплохим было мое расставание с Харьковом. Целыми днями слышалась русская канонада. И ее раскаты приближались. И в один прекрасный день началось! Лазарет начали сворачивать. Пара санитарных автомобилей и грузовиков на несколько сотен тяжело раненных. Оставаться никто не хотел. Каждый, кто мог хотя бы ползти, хотел уехать. Лазарет превратился в сумасшедший дом. С костылями и без костылей, в гипсе и окровавленных бинтах, некоторые – в одних ночных рубахах, крича, ругаясь, умоляя, они ползли и ковыляли к выходу. Только бы выбраться оттуда!
Вот я и вышел, заковылял мимо переполненных санитарных машин и уже отъезжающих грузовиков. И просто пошел, не имея ни малейшего представления, куда, не зная направления и цели. Просто хотел уйти оттуда.
Блондин обработал свой нос верхней губой, затушил сигарету и, слегка улыбаясь, продолжал:
– Мимо проезжала колонна армейских грузовиков. Я махнул своим костылем. И случилось чудо. Один из грузовиков остановился! Рядом с водителем сидел – Эрнст, ты не поверишь! – очень высокопоставленный интендант! А колонна грузовиков вывозила остатки запасов армейских продовольственных складов Харькова!
Мой интендант не только подвез меня, но и организовал мою отправку в тыловой госпиталь на территории рейха. И когда я, потяжелевший на несколько килограммов, залезал в санитарный поезд, у меня было столько бельевых мешков со жратвой, сколько у тебя в твои лучшие времена. Ты ошарашен?
Эрнст отрицательно покрутил головой:
– Чем?
– Да количеством наполненных мешков.
– Этим меня не ошарашишь. Немного удивлен и рад за тебя задним числом.
– В любом случае, пока я ехал в санитарном поезде, я часто думал о времени, которое мы провели в России. Бывало чертовски холодно, иногда – удушающе жарко, нечего пить, нечего есть и…
– Ты об этом думал?
– Думал, а что?
– Да, ты всегда был большим мыслителем. При любой подходящей, а чаще – неподходящей возможности ты думал и решал проблемы. Знаешь, Цыпленок, я бы не хотел иметь такую башку, как у тебя. Мне даже сегодня от нее плохо. Я на тебя смотрю прямо, как ты думал день и ночь, в одной руке колбаса, а в другой – бутерброд. – Он наморщил лоб. – Да-а, такого никогда не было. А между жратвой, выпивкой и куревом корчил рожу и полировал нос. Так?
Блондин не заметил замечания.
– А ранение? Я имею в виду проблему инвалидности?
Блондин постучал косточками пальцев по своей деревянной руке и покачал головой:
– Странным образом, для меня это никогда не было проблемой. Может быть, в момент, когда я перерезал лоскуты кожи, когда рука лежала передо мной в грязи, примирился с тем, что остальную жизнь проведу инвалидом. Может быть, сознание того, что я живу, что я выжил, было важнее того, как живу и как выжил. Последующая ампутация в тыловом госпитале была всего лишь косметической корректурой. Пустой болтающийся рукав мундира с самого начала мне не мешал и не повергал в депрессию. Никогда.
Блондин рассмеялся:
– Рука никогда не была проблемой. Тыловой госпиталь, Отпуск, Отставка, Жизнь. Вот что было.