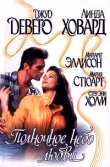Текст книги "Ящер страсти из бухты грусти"
Автор книги: Кристофер Мур
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
ДВА
Морской ЯщерСистема охлаждения ядерной электростанции Дьябло-Каньон была изготовлена из отличной нержавеющей стали. Перед установкой трубы просветили рентгеном, прощупали ультразвуком и проверили давлением, чтобы убедиться, что они никогда не сломаются, а после того, как их приварили на место, сварочные швы тоже просветили рентгеном и испытали. Радиоактивный пар из сердечника оставлял в трубах свое тепло, выщелачивался в отстойник с морской водой, а оттуда уже спускался в Тихий океан. Но Дьябло строили с головокружительной скоростью во время энергетической паники семидесятых. Сварщики работали в две-три смены, подгоняемые алчностью и кокаином, а инспекторы, проверявшие трубы рентгеном, придерживались такого же графика. И один шов пропустили. Пустяковая ошибка, подумаешь. Маленькая трещинка. Еле заметная. Крохотную струйку безвредного излучения малой интенсивности отгоняло приливным течением, и она плыла, постепенно рассеиваясь, над континентальным шельфом, пока даже самые чувствительные инструменты уже не могли ее засечь. Однако полностью незамеченной утечка не осталась.
В глубокой подводной расселине у побережья Калифорнии, рядом с подводным вулканом, где температура вод доходит до семисот градусов по Фаренгейту, а черные гейзеры изрыгают тучи минерального бульона, от долгого сна восстало существо. Глаза размерами с обеденное блюдо помигали, прогоняя многолетнюю дрему. Проснулись инстинкт, ощущения и память – мозг Морского Ящера. Чудовище вспомнило, как пожирало остатки затонувшей русской атомной подводной лодки: мясистых маленьких моряков, размягченных глубинным давлением и выдержанных в остром радиоактивном маринаде. Воспоминание это и разбудило его, словно ребенка, которого снежным утром выманивает из-под одеяла аромат поджаренного бекона. Тварь стегнула огромным хвостом, оторвалась от океанского дна и начала медленно подниматься к течению с деликатесами. К течению, проходившему у берегов Хвойной Бухты.
МэвисМэвис опрокинула стаканчик “Бушмиллз” – сгладить зазубрины раздражения от того, что не удалось никого отоварить бейсбольной битой. Она не очень сердилась на Молли за искусанного клиента. В конечном итоге, тот был туристом, а значит ценился выше тараканов только потому, что имел при себе наличные. Но сам факт того, что в “Пене” что-то случилось, мог немного оживить бизнес. Народ приходил бы послушать байку, а Мэвис любую историю умела домыслить, драматизировать и растянуть по крайней мере на три лишних порции.
Последние два года бизнес катился под уклон. Казалось, людям больше не хочется нести свои беды в бар. Бывали времена, когда в любой день недели на стойке висело три-четыре парня – они вливали в себя пиво и выливали друг на друга горести, а ненависти к себе в них скапливалось столько, что они готовы были сломать себе позвоночник, только бы не видеть собственного отражения в большом зеркале за стойкой. В любой вечер все табуреты занимали бедолаги, которые ныли, ворчали и скулили ночь напролет, переставая ровно на столько, чтобы спотыкаясь добрести до уборной да скормить лишнюю монету музыкальному автомату, воспроизводившему свою обширную коллекцию гимнов жалости к себе. Уныние помогало продавать алкоголь, а в последние годы уныния стало до обидного мало. В нехватке тоски Мэвис винила процветающую экономику, Вэл Риордан и овощные диеты и боролась с коварными лазутчиками тем, что устраивала “счастливые часы”, когда по цене одной жирной мясной закуски можно было купить две (ведь смысл “счастливых часов” именно в том и состоит, чтобы очиститься от счастья, разве нет?), однако преуспела только в том, что прибыль упала вдвое. Если Хвойная Бухта больше не в состоянии производить собственную тоску, ее нужно импортировать. И Мэвис начала искать блюзового певца.
Старый негр был в темных очках, кожаной шляпе и сильно ношенном черном костюме, слишком шерстяном для такой погоды. Поверх гавайской рубашки, на которой отплясывали хулу девчонки без лифчиков, спускались красные подтяжки, а на ногах скрипели ботинки с черно-белыми носами. Негр положил гитарный чехол на стойку и влез на табурет.
Мэвис с подозрением оглядела его и прикурила “тэрритон-100”. Еще девочкой ее научили не доверять черным.
– Чем травиться будешь?
Негр снял шляпу, и полированным орехом заблестела бурая лысина.
– Вино вы тут держите?
Мэвис подбоченилась, шестеренки и поршни защелкали:
– Красное пойло или белое пойло?
– А у пойла появился выбор. Раньше имелся только один букет.
– Красного или белого?
– Какого слаще, сладкая моя.
Мэвис шарахнула стаканом по стойке и наполнила его желтоватой жидкостью из запотевшего кувшина.
– Это будет трёха.
Негр протянул руку, массивные острые ногти царапнули поверхность, длинные пальцы изогнулись щупальцами – рука напоминала морскую живность, барахтающуюся в отливе, – и промахнулись дюйма на четыре.
Мэвис воткнула стакан негру в руку:
– Ты слепой?
– Нет, просто тут у вас темень стоит.
– Так сними очки, идиёт.
– Нельзя, мэм. Очки входят в сделку.
– В какую сделку? Только попробуй мне тут карандаши продавать. Терпеть не могу побирушек.
– Я – блюзмен, мэм. Слыхал, вам того и надо.
Мэвис посмотрела на гитарный чехол, на негра в черных очках, на длинные ногти на его правой руке и короткие – на левой, на шишковатые серые мозоли на кончиках пальцев и сказала:
– Могла бы догадаться. А опыт есть?
Старик рассмеялся – смех его зародился в глубине тела, по пути наверх сотряс плечи и вырвался из горла, точно паровоз из тоннеля.
– Сладкая моя, у меня опыта поболе, чем у бродячего борделя. Ни разу пыль не садилась на Сомика Джефферсона – с того самого дня, как Господь Бог уронил его на этот здоровый ком пыли. Сомик – это я и есть.
А руку подает как неженка, подумала Мэвис, – только пальчики протягивает. Она и сама так делала – пока ей не заменили изъеденные артритом суставы. Старый блюзовый певец с артритом ей без надобности.
– Мне человек до Рождества нужен. Сможешь задержаться, или на тебя пыль сядет?
– Я так полагаю, что немного притормозить не грешно. На Восток возвращаться – так ноги от холода протянешь. – Он обвел взглядом бар, сквозь черные очки пытаясь разобрать что-то в грязи и дыму, а потом повернулся к ней. – Да, я, наверное, смогу себе гастроль немного отодвинуть, если... – Здесь он ухмыльнулся, и Мэвис заметила золотой зуб с выгравированной на нем музыкальной нотой. – ...если деньги будут правильные.
– Получишь комнату, харч и процент с бара. Притащишь клиентуру – заработаешь.
Негр задумался, поскреб щеку – седая щетина заскрипела, точно зубная щетка по рашпилю, – и ответил:
– Нет, сладкая моя, притащите их вы. А стоит им услыхать, как Сомик лабает, они прибегут за добавкой. Так вы какой процент имели в виду?
Мэвис огладила поросль у себя на подбородке, распрямив волосы до полных трех дюймов.
– Сначала мне самой надо услыхать, как ты лабаешь.
Сомик кивнул:
– Это можно.
Он откинул защелки чехла и извлек блеснувший сталью “Нэшнл”. Из кармана вытащил спиленное бутылочное горлышко, и оно с вывертом село ему на левый мизинец. Сомик взял аккорд – проверить настройку – и сдвинул боттлнек с квинты на нону. Горлышко затанцевало там высоким протяжным воем.
Мэвис вдруг почудился запах какой-то плесени – или мха, наверное, но влажность в баре изменилась совершенно точно. Она принюхалась и оглянулась. Пятнадцать лет ей не удавалось различить ни единого запаха.
Сомик ухмыльнулся:
– Дельта.
И пустился в двенадцатитактовый блюз: линию баса вел большим пальцем, высокие ноты визжали из-под зажима, он раскачивался на табурете, а неоновая вывеска пива “Курз” над стойкой играла разными красками, отражаясь в его лысине и очках.
Дневные завсегдатаи оторвались от стаканов, на секунду перестали врать, а Ловкач МакКолл даже облажался с прямым на восемь шаров за бильярдным столом в углу, чего раньше почти никогда не делал.
И тут Сомик запел – сначала высоко и томительно, потом ниже и с наждаком в голосе:
Одна старая хрычовка на Побережье держит бар.
Говорю вам – эта старая хрычовка держит свой дешевый бар.
А окажись в ее кровати —
Она снимет и с тебя навар.
И замолчал.
– Ты принят, – сказала Мэвис. Из ящика со льдом она вытянула кувшин белого пойла и плеснула в стакан Сомику. – За счет заведения.
Тут дверь распахнулась, грязь, дым и осадок блюза прорезал солнечный свет, и внутрь вступил Вэнс Макнелли, санитар Пожарной бригады Хвойной Бухты. Он громыхнул рацией о стойку и объявил всем, ни к кому в особенности не обращаясь:
– Знаете чего? Пилигримша повесилась.
По завсегдатаям прокатилась волна тихого бурчания. Сомик определил гитару обратно в чехол и поднес ко рту стакан:
– Ну еще бы – в этом городишке печальный денек начинается рано. Еще бы.
– Еще бы, – эхом отозвалась Мэвис и хмыкнула, точно гиена из нержавеющей стали.
Вэлери РиорданСмертность от депрессии – пятнадцать процентов. Пятнадцать процентов всех пациентов с сильной депрессией лишает себя жизни. Статистика. Жесткие цифры в очень хлипкой науке. Пятнадцать процентов. Покойников.
Вэл Риордан повторяла про себя эти цифры с того момента, как ей позвонил Теофилус Кроу, но легче после того, что сделала Бесс Линдер, ей не становилось. Вэл никогда не теряла своих пациентов. А у Бесс Линдер и депрессии-то никакой не было, правда? Бесс не попадала в эти пятнадцать процентов.
Вэл прошла в кабинет в задней части своего дома и вытащила историю болезни Бесс Линдер, затем вернулась в гостиную и села ждать констебля Кроу. По крайней мере, он парень местный, не шерифы из округа. И она всегда может упирать на конфиденциальность. Сказать по правде, у нее не было ни малейшего понятия, чего ради Бесс Линдер вдруг решила повеситься. Встречались они всего один раз, да и то поговорили лишь полчаса. Вэл поставила диагноз, выписала рецепт и получила чек за полный час. Бесс дважды звонила, они несколько минут беседовали, и Вэл отправляла ей счет, округлив время до следующей четверти часа.
Время – деньги. Вэл Риордан нравились симпатичные вещи.
Вестминстерским перезвоном залился колокольчик. Вэл вышла из гостиной в отделанное мрамором фойе. В кромках стеклянных панелей двери преломлялась высокая худая фигура – Теофилус Кроу. Вэл никогда раньше с ним не встречалась, но слышала о нем. У нее лечились три его бывшие подружки. Она открыла дверь.
Констебль был в джинсах, теннисных туфлях и серой рубашке с погончиками, которая, должно быть, некогда служила частью форменного мундира. Он был чисто выбрит, длинные песочные волосы аккуратно собраны сзади в конский хвост. Симпатичный парень, чем-то напоминает Икебода Крейна[5]5
Персонаж новеллы Вашингтона Ирвинга (1783-1859) “Легенда о Сонной Лощине”
[Закрыть]. Вэл догадалась, что он уже успел накуриться. Все подружки Тео рассказывали о его привычках.
– Доктор Риордан, – протянул он руку. – Тео Кроу.
Они поздоровались.
– Все зовут меня просто Вэл, – сказала она. – Приятно познакомиться. Входите. – И она показала в сторону гостиной.
– И мне приятно, – ответил Тео, словно спохватившись. – Жаль, что при таких обстоятельствах. – Он остановился на краю мрамора, словно боясь ступить на белый ковер.
Вэл обогнула его и уселась на тахту.
– Прошу, – показала она на стул из хепплуитского[6]6
“Хепплуит” – английский стиль мебели XVIII века, характеризуется легкими грациозными линиями, изогнутыми поверхностями и спинками стульев в виде стилизованных щитов или сердец. Назван в честь Джорджа Хепплуита
[Закрыть] комплекта. – Садитесь.
Тео сел.
– Я не очень понимаю, почему я здесь, если не считать того, что Джозеф Линдер, кажется, не знает, почему его жена так поступила.
– Записки нет? – спросила Вэл.
– Нет. Ничего нет. Джозеф спустился сегодня утром позавтракать и нашел ее в столовой в петле.
В желудке у Вэл скакнуло. До сих пор она так и не нарисовала себе мысленной картинки смерти Бесс Линдер. Смерть пока была лишь словами по телефону. Она отвела от Тео взгляд и осмотрела комнату, чтобы чем-нибудь эту картинку стереть.
– Простите, – продолжал Тео. – Вам, должно быть, трудно. Я просто хотел узнать, не говорила ли Бесс во время ваших сеансов чего-нибудь такого, что дало бы нам какую-нибудь зацепку.
Пятнадцать процентов, думала Вэл. Вслух же она произнесла:
– Большинство самоубийц записок не оставляет. Они полностью погружаются в свою депрессию, им уже безразлично, что произойдет после их смерти. Им хочется только, чтобы боль утихла.
Тео кивнул:
– Так у Бесс была депрессия? Джозеф говорил, что ей, кажется, становилось лучше.
Вместо ответа Вэл прибегла к своему медицинскому образованию. На самом деле, диагноз Бесс она не ставила – лишь прописала то, от чего ей наверняка стало бы лучше.
– Диагнозы в психиатрии не всегда бывают так точны, Тео. Бесс Линдер была сложной пациенткой. Не нарушая конфиденциальности взаимоотношений врача и больного, могу сказать вам, что Бесс страдала от пограничных симптомов навязчивого невроза. И лечила я ее именно от этого расстройства.
Тео извлек из кармана рубашки пузырек и посмотрел на этикетку.
– “Золофт”. Разве это не антидепрессант? Я знаю только потому, что встречался одно время с женщиной, которая на нем сидела.
Правильно, подумала Вэл. На самом деле, ты встречался как минимум с тремя женщинами, которые на нем сидели.
– “Золофт” – это селективный ингибитор обратного захвата серотонина, как и “прозак”. Его рекомендуют при ряде заболеваний. При навязчивых неврозах доза несколько выше. – Так ему, побольше клиники. Завалить спецификой и прочей хренотой.
Тео потряс пузырек.
– А с ним может быть передоза или типа этого? Я где-то слыхал, люди иногда под этими колесами такие номера откалывают.
– Не обязательно. Ингибиторы вроде “золофта” часто выписывают людям с глубокой депрессией. Пятнадцать процентов больных депрессией совершают самоубийство. – Ну все, проболталась. – Антидепрессанты – это инструмент, такой же, как сеансы устной терапии, и психиатры пользуются им, чтобы помочь своим пациентам. А иногда инструменты не работают. Как и в любом лечении – треть идет на поправку, трети становится хуже, треть остается без изменений. Антидепрессанты – не панацея. – Но ты сама относишься к ним как к средству от всего, не так ли, Вэл?
– Но вы же сами сказали, что у Бесс Линдер был навязчивый невроз, а не депрессия?
– Констебль, у вас когда-нибудь было так, что одновременно болел живот и текло из носа?
– Так вы утверждаете, что депрессия у нее все-таки была?
– Да, у нее была депрессия вместе с навязчивым неврозом.
– И дело здесь не в лекарствах?
– Буду с вами до конца откровенной – я даже не знаю, принимала она его или нет. Вы считали таблетки?
– Э-э, нет.
– Пациенты не всегда пьют лекарство. А с ингибиторами кровь на анализ мы не берем.
– Ладно, – сказал Тео. – Наверное, мы все узнаем после вскрытия.
В мозгу Вэл промелькнула еще одна кошмарная картинка: Бесс Линдер на разделочном столе. Кишки медицины всегда были для Вэл чересчур. Она встала.
– Мне бы хотелось оказаться для вас более полезной, но, сказать по правде, Бесс Линдер никогда не давала мне повода считать ее потенциальной самоубийцей. – Вот это, по крайней мере, правда.
Тео понял намек и тоже поднялся.
– Ну что ж, спасибо. Простите, что побеспокоил. Если у вас есть что... понимаете, что-нибудь, что я мог бы передать Джозефу, от чего ему стало бы легче...
– Извините. Это все, что я знаю. – Пятнадцать процентов. Пятнадцать процентов.
Она проводила его до двери.
Прежде, чем уйти, Тео повернулся:
– И вот еще что. Молли Мичон – тоже ваша пациентка, верно?
– Да. На самом деле, она – пациентка окружной больницы, но я согласилась лечить ее по сниженным расценкам, потому что больница далеко.
– Было бы лучше, если бы вы ее посмотрели. Сегодня утром в “Пене Дна” она напала на одного парня.
– Она сейчас в окружной?
– Нет, я отвез Молли домой. Она успокоилась.
– Спасибо, констебль. Я ей позвоню.
– Ну, тогда... я пойду.
– Констебль, – окликнула его она. – Эти таблетки, что у вас... “Золофт” – не развлекательный наркотик.
Тео споткнулся на ступеньках, но быстро взял себя в руки.
– Верно, доктор, я и сам это понял, когда увидел труп, висящий в столовой. Я постараюсь не съесть вещественное доказательство.
– До свидания, – сказала Вэл. Она закрыла за ним дверь и разрыдалась. Пятнадцать процентов. В Хвойной Бухте у нее пятнадцать сотен пациентов принимают тот или иной антидепрессант. Пятнадцать процентов – это больше двухсот покойников. Такого допустить она не может. Она не даст больше ни одному своему больному умереть из-за ее неучастия. Если их не могут спасти антидепрессанты, то это, похоже, придется делать ей.
ТРИ
ТеоТеофилус Кроу писал плохие верлибры и играл на ручном барабанчике, сидя на скале у океана. Он умел воспроизвести шестнадцать гитарных аккордов и знал от начала до конца пять песен Боба Дилана, а когда нужно было взять последний аккорд, Тео разбодяживал его до вязкого жужжания. Он пробовал заниматься живописью, скульптурой и гончарным ремеслом, и даже сыграл роль второго плана в постановке “Мышьяка и старых кружев”[7]7
Пьеса американского драматурга Джозефа Кессельринга (1941), впоследствии – популярная комедия голливудского режиссера Фрэнка Капры с Кэри Грантом в главной роли
[Закрыть], возобновленной Малым театром Хвойной Бухты. Во всех этих стараниях он переживал стремительный взлет к посредственности и бросал каждое предприятие, не успев от смущения возненавидеть себя до конца. Тео был проклят душой художника и полным отсутствием таланта. Неистовая тоска и вдохновение у него имелись, а творческих средств не было.
Если Тео в чем-то и преуспевал, то в сопереживании. Казалось, он всегда может понять чью-то точку зрения, какой бы особенной или запредельной она ни была, и, в свою очередь, – донести ее до окружающих сжато и ясно, что ему редко удавалось при выражении собственных мыслей. Тео был прирожденным посредником, миротворцем – именно благодаря этому таланту прекращать многочисленные драки в салуне “Пена Дна” его и выбрали констеблем. И еще благодаря недвусмысленной поддержке шерифа Джона Бёртона.
Бёртон был жестким политиканом правого крыла и умел разглагольствовать о законе и порядке (с упором на порядок) и на завтраке с ротарианцами, и на обеде с “Национальной Стрелковой Ассоциацией”, и на ужине с “Матерями против нетрезвых водителей”. При этом Бёртон поглощал иссушенных банкетных цыплят так, точно для него они были манной небесной. Он носил дорогие костюмы, золотой “Ролекс” и водил жемчужно-черный “эльдорадо”, сиявший, как звездная ночь на колесах (благодаря лихорадочному вниманию работяг из окружного гаража и обильным слоям автомобильного лака). Бёртон служил шерифом округа Сан-Хуниперо шестнадцать лет, и за это время уровень преступности неуклонно снижался до тех пор, пока не стал на голову населения самым низким во всей Калифорнии. Его поддержка Теофилуса Кроу – человека без всякого правоохранительного опыта – явилась настоящим сюрпризом для населения Хвойной Бухты, особенно если учесть, что оппонентом Тео был отставной лос-анжелесский полицейский с богатым наградным иконостасом. Однако население Хвойной Бухты не знало, что шериф Бёртон не просто поддерживал Тео – он с самого начала вынудил его баллотироваться вообще.
Теофилус Кроу был спокойным человеком, да и у шерифа Бёртона имелись свои причины, чтобы крохотный Северный район Хвойной Бухты не смел даже пикнуть. Поэтому когда Тео вошел в свою двухкомнатную хижину, его совершенно не удивила красная семерка, мигавшая на автоответчике. Он нажал кнопку и выслушал помощника Бёртона, настоятельно просившего Тео немедленно перезвонить, – и так семь раз. Бёртон никогда не звонил про сотовому.
Домой Тео зашел, чтобы принять душ и обдумать разговор с Вэл Риордан. То, что она лечила по крайней мере трех его бывших подружек, беспокоило Тео. Ему хотелось вычислить, что же именно они ей рассказали. Наверняка упоминали, что он время от времени балдеет. Но как и любого другого мужчину, волновало его другое: что они могли ляпнуть про его сексуальные способности – вот вопрос. Его почему-то не заботило, что Вэл Риордан будет считать его неудачником и конченным наркоманом, а вот если она решит, что он никуда не годен в койке, – это беда. Ему хотелось рассмотреть со всех сторон все возможности, усилием мысли отогнать паранойю, но вместо этого он набрал личный номер шерифа. Соединили сразу же.
– Что с тобой, к чертям собачьим, такое, Кроу? Совсем обдолбался?
– Не больше обычного, – ответил Тео. – А в чем дело?
– А дело в том, что ты изъял с места преступления вещественное доказательство.
– Правда? – Беседы с шерифом моментально высасывали из Тео всю энергию. – Какое доказательство? С какого места?
– Пилюли, Кроу. Муж самоубийцы сообщил, что таблетки ты забрал с собой. Я хочу, чтобы они вернулись на место через десять минут. Я хочу, чтобы мои люди свалили оттуда через полчаса. Судмедэксперт днем проведет вскрытие, и к ужину чтобы дело было закрыто, ясно? Заурядное самоубийство. Только на страницу некрологов. Никаких новостей. Ты понимаешь?
– Я просто проверял у ее психиатра, в каком она была состоянии. Не было ли суицидальных признаков.
– Кроу, ты должен бороться с соблазном изображать из себя следователя и делать вид, что ты служишь в правоохранительных органах. Эта баба повесилась. У нее была депрессия, и она решила покончить со всем разом. Муж ей не изменял, денежных мотивов не было, а мамочка и папочка никогда не ссорились.
– Они что – допрашивали детей?
– Конечно, они допрашивали детей. Они же детективы. Они ведут следствие. Теперь давай скоренько гони к ним, и пусть катятся из Северного района. Я прислал бы к тебе за таблетками, но мне не хочется, чтобы они обнаружили твой триумфальный садик. Я не прав?
– Уже иду, – ответил Тео.
– И чтобы я слышал об этом в последний раз. – Бёртон повесил трубку.
Тео тоже повесил трубку и закрыл глаза, превратившись в человеческий пудинг, размазанный по пластиковому креслу.
Сорок один год, а он до сих пор живет, точно студент. Его книги свалены стопками на полках из досок и кирпичей, кровать вытаскивается из дивана, холодильник пуст, если не считать позеленевшего ломтика пиццы, а весь участок вокруг зарос сорняками и колючками. За хижиной, в самой гуще ежевичных колючек стоит его триумфальный садик: десять раскидистых кустов конопли с клейкими макухами, ароматными, как скунсы и специи. И дня не проходило, чтобы ему не хотелось взрыхлить или стерилизовать под ними почву. Не проходило и дня, когда бы он не продирался сквозь колючки и любовно не собирал бы урожай липкой зелени, способной поддерживать его весь день.
Исследователи утверждают, что марихуана вызывает лишь психологическое привыкание. Все их отчеты Тео читал. Там мимоходом упоминались только ночное потоотделение и ментальные паучки отвыкания – так, словно они не противнее укола от столбняка. Но Тео пытался бросить. За одну ночь он выжал три простыни и, стараясь отвлечься, мерял шагами хижину, пока не понял, что его голова сейчас взорвется. После чего сдался, втянул в себя пряный дым “Трусишки Пита” – и только тогда обрел сон и покой. Исследователи, очевидно, этого не понимали – зато понимал шериф Бёртон. Слабость Тео он понимал очень хорошо и держал ее над головой констебля, как пресловутый дамоклов меч. То, что у Бёртона была собственная ахиллесова пята, от разоблачения которой он мог бы потерять гораздо больше, едва ли имело значение. По логике вещей, это Тео держал его на поводке, но эмоционально Бёртон оставался на высоте. В гляделках Тео всегда мигал первым.
Он схватил “Трусишку Пита” с кофейного столика, которым служил ящик из-под апельсинов, и ринулся к двери – возвращать таблетки Бесс Линдер на место преступления.