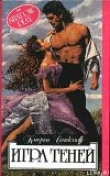Текст книги "Шедевр"
Автор книги: Кристина Тетаи
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Когда я приду в следующий раз…
Он резко повернулся:
– Ну да. Не если, а когда.
Я поджала губы и кивнула. Последовав его примеру, я тоже поднялась и стала расстегивать рубашку, которая была уже вся выпачкана краской.
– А в следующий раз мы снова будем что-нибудь красить? Мы так тебе ремонт сделаем.
Он громко рассмеялся:
– Если захочешь!
– Нет, не очень.
Просмеявшись, он еще некоторое время смотрел на меня и спросил, хочу ли я кофе.
– Ты его так много пьешь. Конечно, человека вдохновляют разные вещи, но я впервые вижу, чтобы вдохновение давал кофе.
Я задумчиво хмыкнула в ответ и подумала, насколько он прав. Чаепитие – это привычный ритуал в светских встречах, и я всегда пила чай в семье или при встрече со знакомыми, как с Николь, но, когда я оставалась одна, я всегда предпочитала кофе. Мне думалось с ним легче. Странно, что я раньше не обращала на это внимания. Вспомнив нашу первую встречу и мое раздражение на то, что Норин все замечает, как бы я ни старалась что-либо скрыть, я осознала, что сейчас я уже испытывала признательность за его удивительную проницательность и наблюдательность.
Он вышел в коридор и направился в кухню, и я последовала за ним. Вроде обычная небольшая кухня, по крайней мере, хотя бы она не приводила чувства в смятение своим интерьером, хотя некоторые вещи все же и привлекали внимание, как, например, холодильник, обклеенный снизу доверху фотографиями разных людей. Обычно люди любят хранить фотографии каких-нибудь местностей или стран, которые «нужно посетить в будущем», но коллекция Норина включала в себя исключительно человеческий состав. Пока он готовил кофе, я подошла ближе к холодильнику и стала рассматривать портреты.
– Кто это?
Он бросил мимолетный взгляд и просто ответил:
– Люди.
Не отвлекаясь от своего дела, он, чуть улыбаясь, добавил:
– Старики и совсем еще дети, люди в возрасте и подростки. Человек. Образ и подобие Создателя.
Я внимательно слушала его. Он улыбнулся еще сильнее.
– Некоторые фотографии делал я, некоторые – выкупал на фотостудии или вырезал из фотожурналов. Удивительно, столько лиц, и нет ни одного похожего. Все разные. Даже близнецы отличаются. Два миллиарда человек на Земле, и все разные… И у каждого свои мечты, стремления, свой характер. Господи, как подумаю…
Меня немного поразило, с какой любовью и восхищением он говорил о незнакомых ему людях. Конечно, тут можно возразить, что куда проще любить человека, которого ты совсем не знаешь. Попробуй-ка, полюби всем сердцем того, чьи большие недостатки и мелкие достоинства ты видишь каждый день. Но я могу с титановой уверенностью сказать, что безусловно Норин любил каждого человека на фотографиях с тем же, равным чувством, с которым относился ко всем своим знакомым. Я подумала о миссис Линн, учителе истории, или миссис Рэдфорд, преподающей философию, и о Кэтрин, и обо всех тех, кто попал под мое язвительное настроение за последние месяцы, и попыталась представить, как это – восхищаться ими равно с теми, кого я называю своей семьей. Сама мысль уже казалась смехотворной. Вернее, маловероятной.
Норин, не глядя на меня, но безусловно, чувствуя, произнес:
– Если хочешь о чем-то спросить – спрашивай.
Я провела пальцами по фотографии пожилой женщины с глубокими морщинами на щеках и подбородке, и мне стало немного грустно.
– Не знаю я, может, ты и прав. В некотором роде мне нравится моя жизнь, – я выдержала паузу, решаясь говорить еще откровеннее, и вдруг так ощутимо почувствовала, что у меня от Норина не может быть секретов: все, что я умалчиваю, он об этом догадается сам, и нет смысла что-то тогда пытаться держать в тайне или чего-то стыдиться. – Наверное, мне даже нравится находиться в центре внимания. В последнее время у меня этого внимания хоть отбавляй. Со мной стали хотеть дружить мои одноклассницы, мне льстит, что Николь приглашает меня на свои вечера, и что об этом знают другие, и что все завидуют, считая, что за мной ухаживает парень, старше меня на несколько лет. Пусть даже все это неправда. Ведь все это самообман. Никто не стал бы набиваться ко мне в друзья, не привлеки я к себе столько внимания через разговоры о дискриминации, и Николь пригласила меня к себе не из-за того, что мы подруги, а чтобы познакомить меня с тобой, и…
– Правда? – он удивленно перебил меня, и его лицо просияло улыбкой. – Извини, продолжай.
– Правда. Странно, что ты не в курсе. И зависть моих одноклассниц тоже обман, потому что никто за мной на самом деле не ухаживает. Но это неважно, потому что мне действительно все это льстит. Все это неожиданное внимание.
Мне вдруг стало тошно, глядя на описанный мною автопортрет. Норин вел себя спокойнее меня, внимательно слушая, и просто составлял чашки и кофеварник на стол. Когда он сел, он налил кофе и пожал плечами:
– Всем такое льстит. Кому не понравится внимание?
– Тебе.
– Да нет. Мне это просто не нужно. К ому-то это дает возможность самоутвердиться или добиться самоуважения. К то-то благодаря подобной славе способен сдвигать свою планку выше, так сказать, получать мотив для самореализации. И, по-моему, это хорошо. Мне такое внимание дает не больше, чем вот так сидеть с тобой на кухне и пить кофе. Может, тебе просто не нужно искать оправдания того, что ты – часть этого общества? Если тебе это что-то дает, тебе ничто не мешает пользоваться всеми привилегиями, включая и некоторую славу. Ну, тут, конечно, смотря, как ты будешь ими пользоваться. Твоя проблема состоит в другом.
Я немного поежилась в ожидании продолжения. Норин учтиво выждал момент, чтобы подготовить меня ко второй волне правды, и заговорил спокойным голосом:
– Лоиз, ты больше говоришь не о самом обществе, а об отдельных личностях. О преподавателях, об одноклассницах, о подруге, поддавшейся соблазну подсчитывать очки популярности. А я видел то, чего ты сама не замечаешь в себе: твое отличие не от бесчисленных Кэтрин, а от всего общества в целом. Я видел радиолу в твоей руке, и не потому, что никакая бы Кэтрин на твоем месте ее бы не заметила, а потому, что никакая бы Кэтрин не обратила на нее внимания.
– Не поняла разницы.
– Все замечают, что у них плавает в стакане или что лежит в тарелке – по еде и напиткам судят торжественность стола. Но никто не обращает внимания на это, вытаскивая цветок или пищу, чтобы их получше рассмотреть. И дело не в отдельных личностях, а в обществе в целом. Ты не позволяешь правилам всего общества ограничивать свою индивидуальную свободу. Ты ведь сегодня пришла ко мне домой, против всех правил общества, потому что это твой личный выбор. А ты пока не хочешь мыслить так глобально. Наверняка скажешь, что бы на это подумала моя подруга или что бы сказала мама, но никогда не посмотришь, как все общество воспримет твой поступок, что ты одна пришла домой к парню, чтобы покрасить потолок. Все потому, что идешь против отдельных личностей, а не общества в целом.
Я задумалась над тем, что ведь на самом деле учителя и одноклассницы не являют собой лицо светского общества, против которого я якобы выступаю. Ведь не преподаватели являются элитой общества, и уж точно не Кэтрин, своим семнадцатилетним разумом еще не испытавшая на себе реальности этого общества. А раз я еще толком не поняла, что во мне вызывают представители знати, как например, родители Николь, или отец Норина, которого я даже в глаза не видела, то как я могу выступать против всего общества?
Норин немного помолчал, дотянувшись до моей правой кисти, чтобы салфеткой стереть краску с моей ладони. Он не отпустил моей руки, когда снова посмотрел мне в глаза и произнес:
– Я бы хотел, чтобы ты больше думала о своем окружении в целом, а не об отдельных людях, с которыми ты в чем-то расходишься в интересах и мнениях. Иначе, как ты можешь понять свое место в обществе, этого общества совершенно не зная?
Норин меня ошеломлял. Всем своим умом, поведением, лишенным какого-либо осуждения или высокомерия, своей простотой и сложностью, непредсказуемостью и логичностью. Мне казалось, передо мной сидит самый разумный человек на всем свете, которого все принимают за сумасшедшего! Мне захотелось держаться за его личность, чтобы научиться всему, что он знает, и понять, как он мыслит. Словно раскрывая карты, он с легкостью дает мне ответы на все, над чем я так долго бьюсь в своих безуспешных попытках. Он дает мне так много! И что я могу дать ему взамен? Не задумываясь над тем, что именно я говорю, я спросила его:
– Почему я для тебя важна?
От того, что я долгое время смотрела прямо ему в глаза, я перестала замечать окружающей реальности. То ли дело было в их необычном зеленом цвете, то ли в полупрозрачности, при которой и поверхность, и глубина отсутствуют вообще, и я не знаю, делал он это специально или нечаянно, но в какой-то момент я была уже в полугипнотизированном состоянии, и он смог уйти от ответа, не произнеся ни слова. После я уже думала, что это был слишком личный вопрос, ведь что бы я ему ни давала своей компанией, это касалось только его, и с моей стороны было бестактно спрашивать о его отношении к моей личности. Эгоистично. Ведь он не спрашивал, как я отношусь к нему. Хотя вопросов задавал много. Как будто действительно интересовался моей личностью. Сейчас уже всей нашей беседы того дня не перескажешь, но не потому, что многое забылось, так как слова и поступки Норина все наделены странностью и глубоким смыслом, и это не забывается. Просто абсолютно все мелочи поведения и все слова Норина оказываются настолько важными, что не хватит времени для того, чтобы обо всех мелочах упомянуть на этих страницах. Но, пожалуй, я никак не могу не сказать еще об одном его поступке в этот день, тут думается, что чисто по личным причинам, ибо какой девушке не приятно, когда через пару часов (если быть точной, через три часа и тридцать семь минут) после расставания раздается телефонный звонок, и ты слышишь знакомый голос, и удивление захватывает тебя с головой:
– Где ты? Это который на Кингзвэй недалеко от моего дома?
Я тихо выбежала из дома на улицу. Он стоял недалеко от телефонной будки, у магазина чуть дальше по улице и рассматривал витрину. Когда он увидел мое отражение в стекле, он обернулся, не говоря ни слова. Я подошла ближе и потерла его лоб:
– Краска.
Норин улыбнулся, все так же храня молчание.
– Что-то случилось?
– Ты ушла.
– Я не могла остаться.
– Знаю.
Норин молча смотрел на меня, и я не могла даже понять по его лицу, о чем он думает. А потом он провел пальцами по моему лицу и снова улыбнулся какой-то опьяненной улыбкой. Наверное, мне бы свыкнуться с тем, что Норин никогда не говорит «до свидания» или «пока», а просто разворачивается и уходит, предварительно и обязательно одарив тебя улыбкой. Вот как сейчас. Спокойной ночи, Норин Уайз.
Как это странно иногда бывает, когда ты открываешь в самом себе качества, которых совсем не ожидал обнаружить, то просто теряешься. Читая книги и представляя себя на месте главного героя, часто думаешь, что точно знаешь, как бы ты поступил и что бы ты чувствовал. И наблюдая за примерами других людей, мы так часто ссылаемся к фразе: «Случись такое со мной!» с последующим перечислением всех действий со всей уверенностью, что даже тени сомнения не возникнет о твоих поступках и чувствах, ведь мы так хорошо себя знаем. И какая растерянность возникает в нашем сознании, когда в реальности мы ведем себя совсем не так, как предсказывали самим себе! Я ждала свою бурю, свой маленький переворот в общественной системе, свои революционные настрои посреди общей картины постоянных противоречий и была уверена, что с появлением Норина идеи воплотятся в конкретные шаги. Но вместо того, чтобы раздуть из искры пламя, Норин неведомым образом в противовес всем моим убеждениям и ожиданиям меня утихомирил. Я давно не чувствовала себя так спокойно, и, пребывая в полном равновесии настроения с окружающей обстановкой, я однажды утром осознала, что мне не хочется больше ни с кем и ни с чем бороться. И я знаю почему. И это знает любой, кто хотя бы раз в жизни был чем-то заинтересован больше, чем самим собой. Норин отвлекал мои мысли, привязывал их к своей индивидуальности, и в сравнении с его странностью и удивительностью проблемы общественного строя казались мне скучным размышлением о рутине типичной цивилизации. История повторяется, что-то приходит, что-то уходит, и великие империи время от времени гибнут от всемирных потопов, огненного града с небес и человеческой желчи и жадности – и что меняется? Человек начинает путь с нуля, рождается, развивается, познает и снова совершает те же ошибки, что в прошлом уже приводили к гибели могущественных государств. На какой-то период мне не стало до всего этого дела. Все мои мысли были теперь заняты реальным живым человеком, и все остальное превратилось в абстракцию и фантом. Я проводила с Норином все свое свободное время. И каждый раз он открывался в своем новом видении, каждый раз новый, другой. И при этом почти никогда мы не говорили о личном. По крайней мере до того момента, пока мое любопытство не перешло с «Норин, которого знаю я» к «Норин, которого знают другие». Мы встретились с ним однажды в кафе после моих школьных занятий. Кажется, это была среда. И Норин в то время размышлял о значении разновидностей. Он задавался вопросом, что если все насекомые играют одну и ту же роль в пищевой цепочке, то зачем природе нужно столько разновидностей, например, бабочек? Для чего столько форм и расцветок крыльев еще, если не для эстетического предназначения? Помню, я тогда ответила ему: «Для ассортимента», потому что и мы, люди, тоже любим выбирать в пекарне булочки из многообразного ассортимента. Всем в пищевой цепочке хочется разнообразия. Он на это нежно улыбнулся и принялся чертить на своем обжаренном беконе букву «з». А я пила свой черный кофе с сахаром и вдруг подумала, какой он, Норин, с другими людьми. Мне не хотелось отвлекать его от мыслей, но любопытство бывает сильнее здравого смысла, правда для собственной безопасности я начала задавать вопрос издалека.
– Это не похоже на «З».
– Еще как похоже.
– Петелька очень короткая, как цифра 3 получилось.
– Я ее почти съел, она длиннее была. Мой бекон знает, что я хотел написать.
Я не дала ему себя развеселить и сбить с мысли.
– Норин, можно тебя кое о чем спросить?
– Уже спросила.
– Не улыбайся, сделай умное лицо. Я хочу тебя спросить, – я выдержала небольшую паузу, чтобы подобрать слова. – У тебя вообще друзья есть?
– В смысле кто-то, с кем можно в кино сходить или в кафе в любое время?
– Ну…
– Или такие, на кого можно положиться в трудную минуту, пусть и видишься с ними крайне редко?
– И они…
– Или просто люди, через которых ощущаешь связь с миром? Совместные перерывы с одногруппниками между занятиями и разговоры с преподавателем вне тем перед лекцией?
– Господи, терпеть не могу, когда вот так все разбираешь подетально. Хоть какие-нибудь есть?
Норин поднял глаза и задумался, но не над ответом, а над тем, как лучше ответить: ответ он уже знал.
– У меня есть весь мир и никого одновременно.
Он уже хотел было вернуться к процессу поедания буквы «з», но я переспросила:
– Это как?
Он снова задумчиво взглянул поверх моего плеча. Он всегда был беспредельно терпелив в объяснениях и всегда почти умолял меня переспрашивать, если я что-то не понимаю, чтобы он мне объяснил как-то по-другому. Норина волновала мысль, что человек может выразить себя и свое мнение через слова, но останется непонятым до конца и даже об этом не узнает до самой своей смерти. И даже после нее.
– М-м… Это когда преподаватель может в любое время получить приглашение на дружеский неофициальный обед в семью любимчика, которого он особенно выделяет из всего класса. Но когда он относится ко всем своим ученикам одинаково, то лишается таких привилегий. Когда любишь всех равно, лишаешься любимчиков и их особо теплого отношения.
Я немного помолчала, чувствуя, что мое настроение перерастает в разряд угрюмого. Норин тоже ничего не говорил и просто смотрел мне в глаза, ожидая какой-то реакции. Было заметно, что он принимал свое одиночное существование как факт и совершенно из-за этого не расстраивался.
– У тебя нет никого, к кому можно прийти на ужин?
Своей улыбкой он указал на очевидное. Никого. В своей голове я уловила нотки другого вопроса:
– А кто же я тебе?
Он некоторое время смотрел на меня, не произнося ни слова, и я не могла понять по его лицу, о чем он думает. А потом он просто молча вернулся к своему обеду. Он никогда не умел играть или притворяться, и если не хотел отвечать на какой-то вопрос, а это – пока единственный, который я могу вспомнить, – то просто замолкал. Тогда, не дождавшись ответа, я ответила сама:
– Я для тебя тонкое деревце в бурю.
Норин улыбнулся, закусив нижнюю губу, и поднял глаза, как делал это часто. Сейчас с ним уже нельзя было говорить: он снова ушел в свои мысли.
Перед расставанием я спросила его, чем он занимается в следующее воскресенье.
– Я тебя хочу познакомить с одной женщиной. Она очень славная, уверена, она тебе понравится.
Глаза Норина засияли, хотя он и промолчал.
– Понимаешь, ее муж умер много лет назад, а она все равно продолжает ходить в их любимое кафе, вроде как вместе с ним. Все время носит с собой его фотографию и даже чай ему покупает. Как будто он с ней там сидит.
Норин тихо произнес:
– Скорее бы воскресенье.
Все последующие дни он постоянно мне напоминал о моем обещании. Он любил знакомиться с новыми людьми. Мы успели с ним сходить в кино на фильм Альфреда Хитчкока «Шантаж», который ему так понравился, что он решил посмотреть его второй раз; встретились пару раз после моих занятий в кафе, и каждый раз на прощание он говорил: «Не забудь про воскресенье». Забыть про него было сложно, учитывая, как часто мне про него напоминали, потому я встретила этот день с ощутимым облегчением, и подумала, что это будет последний раз, когда я что-либо обещаю Норину. Однако, не забыв про обещание ему, я напрочь забыла, что воскресенье – день ритуального выхода в свет нашего семейства. Я вышла к завтраку – позднее, чем это сделал бы Норин, потому как часы уже показывали пол-одиннадцатого утра, и то все благодаря маме, которая не допускает чрезмерно долгого сна, потому заботится о моем пробуждении не позже десяти – и без каких-либо дурных предчувствий присоединилась к ней в гостиной с чашкой чая и вафлями с повидлом. Именно там меня и ждала вполне ожидаемая, но не менее удручающая новость о наших семейных планах на этот день.
– Милая, я хочу, чтобы ты сегодня надела то бежевое платье, которое тебе прислала тетя Клара на день рождения.
– Зачем? – спросила я, прожевывая вафли и все еще не видя подвоха.
– Ну раз уж мы сегодня обедаем у Спенсеров, то мне бы хотелось, чтобы ты выглядела как моя дочь. Сейчас посмотреть, во что одевается молодежь, так в ужас приходишь! Спенсеры очень консервативны, и мне не хочется перед ними осрамиться. Что это ты ешь? Лоиз, крошки падают прямо на пол, давай-ка, перебирайся на кухню.
Я едва не поперхнулась своим тостом:
– Мы идем на обед? Когда, сегодня? О…
– Сегодня воскресенье, ты что? Дорогая, я же попросила тебя не крошить в гостиной.
Я лишь положила откусанную вафлю на тарелку и с ужасом посмотрела на маму:
– Я забыла, что мы сегодня приглашены, – не зная, как сказать с минимальной угрозой для жизни, я пробормотала столу, что вообще-то у меня уже были планы на этот день.
– Сегодня ведь воскресенье! – возразила мама, подчеркивая важность всех воскресений отсутствием дополнительных пояснений. – Какие еще планы у тебя?
– Мы хотели сходить в кино. Там идет «Гарри Фокс и его шесть американских красоток».
Это была правда, после встречи с миссис Фердж мы с Норином хотели доехать до «Капитола», чтобы попасть на этот фильм. Хотя он был снят в прошлом году, к нам в Новую Зеландию его привезли только сейчас.
– В кино, вот еще! – прыснула мама, собирая в стопку старые письма с прошлой недели. По воскресеньям она сортировала всю недельную корреспонденцию, и те письма, на которые уже были написаны ответы, либо просто уже прочитаны, складывались в одну стопку, перевязанную резинкой, и убирались в специальный ящик комода. Она всегда любила порядок во всем. – Я не одобряю этих развлечений нынешней молодежи. Правильно наше государство называет кино не cinema, а sin-ema, грехофильмы. Не знаю, если бы не департамент цензуры, который постоянно вырезает аморальные сцены из голливудских фильмов, чему бы вообще научились наши дети!
– Он вырезает сцены? Правда? – я даже забыла про свою проблему, как поделить воскресенье между семейными обязанностями и моим обещанием. Все те кинопросмотры, которые устраивали либо мы с Сесиль, либо мы с Норином, я про себя иногда задавалась вопросом, почему некоторые сцены перепрыгивают без логической последовательности с одной на другую. Теперь все становилось понятно. Мама, однако, не стала комментировать мой вопрос и продолжила тему вредного влияния Запада:
– Я уж молчу, как все стали одеваться и вести себя! Верно подметила «НЗ Правда», что теперь на улицах поздним вечером можно увидеть 15-летних девушек, которые должны быть давно дома в постели, а на деле вытанцовывающих ритм джаза! А тут еще эта организация YMCA подливает масла в огонь, утверждая, что танцы ничего общего не имеют с христианством, так что пусть танцуют! Как это не имеет!
– А во сколько обед? – перебила я ее сетования. Она действительно уже отвлеклась и, похоже, забыла про мои слова.
– Обед? В два, как всегда. Отец подъедет к тому времени, он с самого утра уже на фабрике. Никаких выходных!
– Тогда можно я до этого схожу с друзьями и вернусь до двух? Обещаю, я не опоздаю! И в кино не пойду, просто предупрежу, чтобы меня не ждали, ладно?
Она в полуразвороте внимательно посмотрела на меня, будто высматривая какую-то недоговоренность или скрытый смысл, но после непродолжительной паузы медленно произнесла:
– Думаю, да.
Мне пришлось наряжаться сразу, чтобы не терять время на переодевания после встречи с Норином, а быть готовой к обеду заранее. Он ничего не сказал, лишь окинул меня взглядом с ног до головы, когда я подошла к нему, и молча растянул губы в улыбке. Был ли это комплимент, которые он никогда не умел говорить, или усмешка, я не поняла, но решила пояснить, что платье предназначается для светского обеда, из-за которого, собственно, мы не можем пойти в кино после знакомства с миссис Фердж. Но и на это Норин ничего не ответил, лишь снова посмотрел на меня с загадочной улыбкой.
Мы дошли с ним до кафе в полном молчании. Он выглядел опять мечтательным, и глаза его сегодня казались ярче, чем в другие дни. Похоже, и он был рад дождаться воскресенья. Несколько раз мне пришлось остановить его, когда он собирался переходить дорогу, потому что он совершенно не смотрел по сторонам, когда на нас неслись автомобили. Потому я почувствовала значительное облегчение, когда мы наконец сели за столик в безопасности от автомобильного движения и стали пить кофе, дожидаясь появления нашей старушки.
Ожидания затянулись, и я в уме напомнила себе, что сегодня все же действительно воскресный день, и что время действительно полдень, даже уже практически час дня, а в кафе зашли пока только несколько молодых людей и две женщины, купившие кексы с собой, но старушка так и не появилась. Я перестала смотреть на дверь и взглянула на Норина. Его лицо мне ни о чем не говорило, я не знала, о чем он думает и что чувствует, но вдруг поймала себя на мысли, что за сегодняшний день он пока не произнес ни одного слова.
– Может, хотите что-то еще? – услышала я чей-то голос рядом с нашим столиком и перевела взгляд с Норина на официанта, стоящего рядом с нами.
– Нет, спасибо. То есть, да. Вы не помните тут одну женщину пожилую, она приходит сюда по воскресеньям?
– Миссис Фердж, да?
– Да, она! Не знаете, где она сегодня?
– А, я помню вас, вы как-то с ней сидели вместе, верно? Вы ее знакомая?
– Ну в общем…
– Миссис Фердж скончалась две недели назад, мне очень жаль. Мы сами только на прошлой неделе узнали. Ее соседи зашли сюда и рассказали. Так что…
Я вздрогнула от звука бьющегося стекла, и поняла, что Норин выронил свою уже пустую кружку. Он лишь посмотрел на разбитые осколки с некоторым удивлением, будто никогда не видел подобного явления.
– О, не переживайте, я сейчас уберу, – принялся успокаивать его официант, хотя Норин не извинялся и даже не шелохнулся. Он поднял на меня глаза, и мне показалось, будто кто-то снова только что погиб прямо на его глазах. Если я испытывала шок и печаль от неожиданной новости, то я не бралась сказать, что чувствовал он, потому что такого смятения чувств на лице я не видела ни у одного человека до этого момента.
Мы перебрались в небольшой парк и сели на скамью в тени под деревом. Некоторое время мы просто молчали, и я совершенно не знала, что сказать, однако Норин заговорил первым:
– Много в природе чудес, Но нет ни одного, чудесней человека. Он под вьюги мятежный вой Смело за море держит путь.
– Что? – не понимающе переспросила я.
– Софокл, – просто пояснил он, глядя чуть расширенными глазами куда-то в воздух. А потом заговорил в никуда, будто объяснял самому себе. – Это бабочка. Мерзкая красота. Смерть бывает такой красивой…
Я в шоке и недоумении открыла рот, но прежде чем что-то сказать, задумалась. Смерть, которая принимает в свои объятия людей, проживших должно быть в целом счастливую жизнь, успевших повидать многое и, может, еще больше оставить после себя, она вызывает… огорчение. Это где-то посередине между горем и восхищением. И она действительно вызывает уважение. Раз мы можем уважать достойную жизнь человека, почему нельзя уважать его достойную смерть?
Я взяла руку Норина в свою и тихо спросила:
– Ты снова потерялся? Где ты сейчас?
– Перекрашиваю стены. Я другой.
Он мне сказал, что когда умирает человек – любой человек, – то из мира уходит не его тело, не его имя, и даже не сам человек, а целый мир. Это как крушение целой Вселенной, наполненной мечтами, планами, стремлениями, провалами и достижениями, невообразимым диапазоном эмоций и чувств. Всякий человек несет в себе, в своей крови, историю многих поколений и после своей смерти сам становится частью истории, и это не просто смерть физического тела, это прекращение богатейшего мира, который никто из живущих не может описать словами, какие бы обороты и выражения ни подобрал. И ему было жаль, что он узнал смерть миссис Фердж, не узнав ее жизни.
Меньше всего мне хотелось сейчас покидать его ради какого-то обеда в кругу людей, которых я почти не знаю. И, собственно говоря, это он настоял, чтобы я не отказывалась от своих обязательств. Я все еще пребывала в состоянии отчужденности после новости о миссис Фердж, у меня не было даже возможности пропустить ее через себя и понять, что именно я чувствую. Потому, не представляя, как при таких смешанных чувствах возможно находиться в обществе людей, далеких от моего состояния, как Британия от зеленых островов Новой Зеландии, я сперва приняла решение никуда не идти. О последствиях моего решения как-то мыслей особых не было. Но именно в эту минуту Норин будто собрался мыслями, восстановив самоконтроль, и первый напомнил мне о планах моей семьи.
– Не пойду, даже можешь не говорить ничего, – упорно возразила я, энергично помотав для большего эффекта головой.
– Не стоит разрушать связь с миром из-за того, что ты отреагировала на одно из его проявлений.
– Какую связь, Норин? У меня сейчас ничего общего с этим миром нет.
– Ты сейчас опечалена, но ведь не из-за того, что что-то случилось непосредственно с тобой, и не из-за тех людей, к которым идешь с семьей. Так почему ты наказываешь реальный мир за то, в чем он не имеет вины? – он выдержал паузу и сжал мою руку крепче. – Почему ты сейчас выбираешь между живыми и мертвыми последних? Не становится ли нам печальнее как раз от того, что при жизни некоторых людей мы не всегда успеваем показать им, как много они для нас значили? Этот обед важен для твоих родителей, неужели они менее важны для тебя умершей женщины?
Его высказывание было как ледяная вода в жаркий день. Грубо, брутально, но правдиво. Не правильнее ли провести время с живыми людьми, чем запереться в себе, размышляя о смерти малознакомого тебе человека, мысли о котором ничего не изменят? Я посмотрела на его растерянное, но в то же время сознательное лицо и подумала, как так получается, что все мои поступки и желания имеют какое-то разрушительное действие, а Норин своими на первый взгляд непонятными действиями созидает, дополняет и сохраняет? Не в той же ли точке соприкосновения находимся мы с ним? Так почему у него выходит видеть красоту и правильность там, где я вижу только разочарование и несправедливость? Все еще не готовая к предстоящей встрече мило улыбающихся людей, я выбрала довериться Норину и согласилась пойти на семейный обед. Он проводил меня до такси и, будто не желая отпускать меня и вместе с тем подталкивая меня уйти, неожиданно коснулся моего лба своим и на какое-то мгновение с силой закрыл глаза. Это было впервые, когда он сделал что-то, отдаленно напоминающее прощание.
А я только прошептала:
– Завтра в библиотеке на Доминионе в три.
Я уже не успевала домой, потому направилась сразу к дому Спенсеров. Ждать пришлось недолго, и вскоре я увидела отцовский «Маркетт», направляющийся по улице навстречу ко мне. Мне не хотелось никак объяснять свое удрученное настроение, потому пришлось приложить усилия, чтобы скрыть горечь и замаскировать ее мнимым удовольствием и предвкушением от встречи. Это было совсем нелегко, но я заметила, что, если много говорить и, если это возможно, в идеале о несущественных мелочах, но как-то незаметно для себя отвлекаешься, и становится легче. Когда мы уже втроем подошли к парадной двери, я заметила маорийскую девочку в саду позади дома. Она подошла к забору, чтобы взять тяпку и ведро, и вновь скрылась за домом. Меня это очень удивило, но ничего прокомментировать я не успела, потому что дверь распахнулась, и нас уже встречала супружеская пара Спенсеров. Им было около пятидесяти пяти, и с самого первого взгляда я почувствовала, как моя нервозность нарастает. Они были от кончиков волос до носков туфлей сплошь англичане. Полная противоположность Сильвейторам с их гламурно-голливудским образом и излишней радужности настроения. Спенсеры были без сомнения воспитаны светским манерам в эпоху Георга IV. Не было ни объятий, ни громких восклицаний, только приветствие, сухое рукопожатие и вежливая сдержанная улыбка. Я их видела однажды у нас дома, но тогда мне не разрешалось спускаться на светские обеды. Собственно, если уж говорить строго по всем правилам, то я и сейчас не могла появляться на обедах, до тех пор, пока не буду официально представлена в свет. Только вот в Новой Зеландии о таких вещах вообще никто не слыхал, и родители как-то решили пропустить этот важный ритуал и перейти сразу к моему знакомству с миром взрослых.