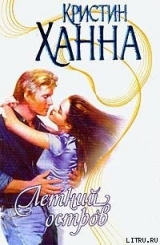
Текст книги "Летний остров"
Автор книги: Кристин Ханна
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Это было не совсем так, Руби говорила с матерью. Нора тогда сказала: «А я-то думала, что самое неприятное в сегодняшнем мероприятии то, что придется надеть розовое полиэстровое платье» – и ушла.
– Нам не нужны холодные факты и цифры, нас интересует ваше мнение, ваши мысли о том, что она за человек, какая мать.
– О, это легко. На пути к цели она не задумываясь наступит на горло собственной бабушке. Ее ничто и никто не интересует, кроме нее самой.
– Вот видите! – оживилась Джоан. – Это именно то, что нам нужно. Думаю, вы понимаете – мы должны опубликовать статью как можно быстрее, пока скандал не утих. Я привезла контракт – Вэл уже показывал его литературному агенту – и чек на двадцать пять тысяч долларов.
Она открыла портфель, достала чек и какие-то бумаги. Портфель был из змеиной кожи. Руби подумала, что в этом есть нечто символическое. Положив бумаги на стол, Джоан бросила чек сверху.
Руби уставилась на сумму с тремя нулями и сглотнула. У нее никогда не было столько денег за раз. Да что там, эта сумма превышала ее жалованье за весь последний год.
Джоан улыбнулась акульей улыбкой:
– Хочу задать вам один вопрос, Руби. Как вы думаете, если бы нужно было написать, такую статью о вас, то ваша мать отказалась бы?
На этот вопрос ответить было нетрудно. Однажды мать уже сделала выбор. Когда Норе Бридж пришлось выбрать между мужем с дочерьми и карьерой, она без долгих раздумий выбрала себя.
– Руби, это твой шанс, – снова подал голос Вэл. – Подумай о рекламе. Телестудии будут за тебя драться.
Руби покраснела. У нее возникло странное ощущение, словно она покинула собственное тело и наблюдает за происходящим со стороны. Так же, словно со стороны, она услышала свой ответ:
– Я хороший писатель…
Если Руби во что-то верила, то именно в это, и теперь знала, что в нее верит и Вэл. Она задумчиво пожевала губу. Если статья принесет ей известность, может быть, удастся этим воспользоваться, чтобы поставить свою комедию.
– Начало ее карьеры я знаю и догадываюсь, с кем она могла переспать, чтобы выбраться наверх, а с кем точно переспала.
Джоан улыбалась во весь рот.
– Мы заключили предварительную договоренность насчет вас с «Шоу Сары Перселл», которое состоится через неделю. Это создаст рекламу статье.
«Шоу Сары Перселл»…
Руби закрыла глаза. Ей так хотелось, чтобы все получилось, что даже голова заболела. Она столько времени прокладывала себе дорогу в жизни ногтями и зубами, столько времени была никем, ничем…
Руби подумала о причинах, по которым ей следовало сказать «нет», – моральных, этических, но ни одна из них не показалась ей достаточно убедительной. Затем она вспомнила эти проклятые фотографии… И ложь матери.
Она глубоко вздохнула и медленно протянула руку за чеком. Цифры расплывались перед глазами.
– Ладно, я согласна.
Глава 4
В машине Руби включила радио на полную громкость. Из черных динамиков ее «фольксвагена» оглушительно загремела «Металлика». Все тело Руби задвигалось в ритме музыки.
Пятьдесят тысяч долларов!.
Ей очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью. Будь у нее новый номер телефона Макса, она бы позвонила ему и рассказала, что он упустил, ведь немалую часть этих денег она могла потратить на него… на них…
От этой мысли Руби погрустнела и разозлилась на себя за свою грусть. Макс не заслужил ни цента из этого богатства.
Она повернула на Бсверли-Хиллз. Обычно Руби старалась не проезжать через этот район: слишком угнетало ее зрелище роскоши, которую она не могла себе позволить. Но сегодня она вознеслась высоко, чувствовала себя непобедимой. Заметив свободное место для парковки на Родео-драйв, Руби свернула с дороги и остановилась. Схватив сумочку, в которой лежал депозит на двадцать пять тысяч долларов, она вышла из машины и захлопнула за собой дверцу. В кои-то веки можно было не трудиться запирать «фольксваген»: если кому-то настолько необходимо транспортное средство, что он позарится на ее колымагу, – ради Бога.
Руби некоторое время просто побродила по улице, обходя стайки изысканно одетых дам. Никто не встречался с ней взглядом. В этой части света женщина двадцати семи лет, одетая как оборванка, – все равно что невидимка. Чтобы привлечь внимание этих дамочек, недостаточно даже пятидесяти тысяч долларов.
И вдруг Руби увидела в витрине магазина серебристо-голубое платье, отделанное бусинками. У платья был глубокий треугольный вырез, по боку шел разрез до середины бедра. Руби никогда не видела такого красивого платья и, уж конечно, мечтать не смела о том, чтобы его купить.
Прижав к себе сумочку, она толкнула стеклянную дверь. У нее над головой звякнул колокольчик.
В глубине магазина, за океаном белого мрамора и рядами хромированных вешалок, продавщица подняла голову и посмотрела на Руби.
– Одну минуту, дорогая, – сказала она хорошо поставленным голосом девушки из приличного общества.
Руби почувствовала себя неуютно: жалко, что у нее не написано на лбу, что она получила задаток в двадцать пять тысяч долларов.
Наконец продавщица подошла. Она была с головы до ног в черном, высокая и тонкая как тростинка, прическа – волосок к волоску. При виде Руби она чуть заметно хмыкнула, но произнесла довольно любезно:
– Чем могу быть полезна?
Руби робко махнула рукой в сторону витрины.
– Мне понравилось голубое платье.
– У вас прекрасный вкус. Хотите примерить?
– Руби кивнула.
– Отлично!
Продавщица провела ее в примерочную, которая оказалась больше спальни.
– Не желаете ли бокал шампанского?
Руби рассмеялась. Вот это шопинг!
– Да, пожалуйста.
Продавщица только подняла руку, и буквально через минуту перед ними вырос мужчина в черном смокинге и протянул Руби бокал искристого шампанского.
– Спасибо.
Руби сделала глоток, и у нее сразу закружилась голова. Казалось, пузырьки вина бурлили в ее крови.
Она опустилась на мягкую банкетку, стоявшую в примерочной. Впервые в жизни она почувствовала себя кем-то. В дверь постучали.
– Войдите.
Это оказалась продавщица.
– Вот, пожалуйста. Меня зовут Димона, если понадоблюсь, позовите.
Руби погладила легкую, как паутинка, ткань, потом быстро разделась и надела платье. Превращение было поразительным, она словно стала другим человеком, вступила в другую жизнь. Руби неуверенно выглянула наружу. Путь был свободен. Она боязливо подошла к высоким зеркалам в углу торгового зала.
При виде собственного отражения у нее захватило дух. Она была прекрасна… даже с короткой стрижкой, слишком ярким макияжем и в старых потертых кроссовках. Глубокий треугольный вырез подчеркивал ее маленькие груди, талия казалась поразительно тонкой, а бедра выглядели стройнее благодаря длинному боковому разрезу. Из зеркала на Руби смотрела именно такая женщина, какой она раньше надеялась стать. Как получилось, что она настолько отклонилась от намеченного пути?
– Вот это да! – восхищенно протянула Димона. – Великолепно! Его даже не нужно подгонять по фигуре. В первый раз вижу, чтобы вещь сразу так хорошо сидела.
– Я его беру, – сказала Руби охрипшим голосом.
По крайней мере у нее останется воспоминание об этом дне. Платье будет висеть у нес в шкафу как напоминание об идеале, к которому она стремится.
Руби выписала чек вместе со стоимостью подходящих туфель и налогами сумма составила почти три с половиной тысячи долларов. В машине она аккуратно повесила платье на крючок над задним сиденьем. Затем, включив музыку – на этот раз передавали песню группы «Степной волк», – поехала в сторону скоростной автострады. По пути ей попалась контора дилера «порше». Руби рассмеялась и нажала тормоз.
Нора лежала в затемненной гостиной, свернувшись клубочком на диване. Ди она давно отослала домой и отключила телефоны.
Через некоторое время она решила посмотреть новости и включила телевизор. Это была большая ошибка. Ее история попала на все телестудии, каждый канал показывал одни и те же кадры, снова и снова на экране появлялись сенсационные фотографии с зачерненными цензурой фрагментами, а затем звучали записи выступлений Норы, где она говорила о святости брачных уз и о супружеской верности. Недавние поклонники ополчились против нее, некоторые даже плакали, чувствуя, что их предали.
«Я ей доверяла» – такие слова повторялись чаще всего.
Как журналистке ей конец, никто больше не обратится к ней за советом, отныне люди не будут выстаивать длинные очереди под проливным дождем, чтобы лично встретиться с ней.
Нора знала, что творится внизу, она несколько раз звонила привратнику, и тот всякий раз отвечал одно и то же. Повсюду ждут репортеры с фотоаппаратами наготове. Стоит ей появиться, как они набросятся на нее, словно бешеные псы. Привратник, правда, утверждал, что в подземном гараже безопасно, прессу туда не пустили, но она боялась рисковать.
Нора села. Огни города отражались в огромных зеркальных стеклах, превращаясь в размытые пятна. Небоскреб «Космическая игла», казалось, парил в воздухе, зависнув над городом, словно инопланетный корабль. Нора подошла к окну. Ее нечеткое отражение в оконном стекле казалось маленьким. Она и чувствовала себя маленькой. Ощущение было знакомым, именно оно много лет назад определило ее судьбу. Какая ирония – чувство, что она никто, пустое место, когда-то подтолкнуло ее на путь, приведший к краху, и вот она оказалась там, откуда начинала.
Вот бы посмеялся отец, будь он жив. «Не такая уж ты теперь звезда, правда, мисси?»
Нора прошла на кухню и остановилась перед импровизированным баром, который держала для гостей. Сама она не пила так давно, что уже забыла, когда это было в последний раз. Однако сейчас ей совершенно необходимо выпить, ей нужно хоть что-нибудь, что помогло бы выбраться из этой дыры. Норе казалось, что она тонет.
Она налила себе полный стакан джина. Вкус напитка поначалу показался отвратительным, но после нескольких глотков язык онемел и спиртное пошло легче, обжигая холодные внутренности.
На обратном пути в гостиную Нора остановилась у рояля. На полированной крышке стояло несколько фотографий в позолоченных рамках. Обычно Нора на них не смотрела, во всяком случае, не задерживала взгляд – это было бы так же болезненно, как сжать в руке осколок стекла. Но сейчас одна фотография привлекла ее внимание. Это был семейный снимок – Нора, се муж Рэнд и две их дочери. Они стояли, взявшись за руки, перед своим домом на берегу моря и жизнерадостно улыбались в объектив.
Нора допила джин и вернулась за добавкой. Опустошив второй стакан, она едва держалась на ногах. Ей чудилось, что внешний мир отделен от нее слоем вощеной бумаги. И это было к лучшему, сейчас она не хотела сохранять ясную голову. Когда сознание было ясным, она понимала, что всю жизнь куда-то бежала и в конце концов наткнулась на кирпичную стену. Теперь правду о ней знает весь мир, в том числе собственные дети.
Нора пьяно покачнулась, глядя на фотографии. Здесь были снимки, сделанные на рождественских утренниках, на детских концертах, где девочки выступали в розовых балетных пачках. Были и фотографии, снятые еще тогда, когда они во время отпуска жили в старом брезентовом трейлере, который возили на прицепе за машиной.
Чуть в стороне помещались фотографии женщины, казавшейся одинокой даже в толпе. Выглядела она всегда прекрасно, за этим следил целый штат парикмахеров, визажистов и персональных тренеров, дорогая одежда сидела на ней безукоризненно. Часто она была снята в окружении служащих или поклонников.
Обожаема чужими людьми.
Нора, пошатываясь, отошла от рояля, включила телефон и, с трудом различая цифры затуманенным взглядом, набрала номер своего психиатра.
– Кабинет доктора Олбрайта, – ответил женский голос.
– Здравствуйте, Мидж, это Нора Бридж. – Нора надеялась, что говорит достаточно четко, не заплетающимся языком. – Доктор у себя?
В трубке раздался какой-то звук, очень короткий, но Нора его узнала: Мидж хмыкнула.
– Мисс Бридж, его нет. Ему что-нибудь передать?
– «Мисс Бридж». Еще недавно она была Норой.
– Он дома?
– Нет, ему сейчас нельзя позвонить, но я могу соединить вас с клиникой. Кроме того, он оставил телефон доктора Хорнби для экстренных случаев…
Нора с трудом держалась на ногах. В трубке запищал сигнал вызова. Замигала лампочка, показывающая звонок по другой линии.
– Спасибо, Мидж, в этом нет необходимости.
Нора подождала ответа несколько секунд, показавшихся ей бесконечностью. Когда молчание стало слишком тягостным, она повесила трубку и снова выдернула шнур из розетки.
Она смутно сознавала, что вязнет в болоте жалости к себе и может совсем в нем утонуть, но не знала, как из него выбраться.
Эрик!
Он уже должен быть на острове. Если она поторопится, то может успеть на последний паром.
Нора схватила с кухонного, стола ключи от машины и, пошатываясь, поспешила в спальню. Там она нахлобучила на свои темно-рыжие волосы светлый парик и надела темные очки, закрывающие пол-лица. На прикроватной тумбочке стоял флакончик со снотворным. Конечно, не стоит принимать таблетку прямо сейчас, Нора понимала это, даже будучи пьяной, но ей очень хотелось. А еще ей хотелось… Она положила пузырек в косметичку.
Из вещей она взяла только старую семейную фотографию, сделанную в Диснейленде, когда девочки были еще маленькими. Сунув снимок в сумочку, Нора распахнула дверь, даже не придержав ее, и вышла на площадку. Дверь громко стукнулась о стену, но Нора уже входила в лифт. В лифте она вцепилась в полированные деревянные поручни, моля Бога, чтобы никто не подсел на других этажах. Ей повезло: зеркальная кабина доставила се сразу в подземный гараж. Двери открылись. Нора с опаской высунула голову. В гараже никого не было. Она нетвердыми шагами поплелась к машине, наконец добралась до своего «мерседеса» и привалилась к черному блестящему боку. Вставить ключ в замок ей удалось только после нескольких попыток, но все-таки удалось.
Нора неловко плюхнулась на кожаное сиденье. Мотор завелся легко, в тишине его звук казался неестественно громким. Сразу же заработало радио. Бетт Мидлер пела что-то о ветре, надувающем ее крылья.
Нора посмотрела на себя в зеркало заднего вида. Лицо бледное, на щеках следы слез, нижняя губа распухла оттого, что она ее жевала.
– Что ты делаешь? – спросила она свое отражение.
Язык заплетался, голос звучал так, что Норе захотелось плакать. Горячие слезы заволокли глаза, мешая видеть.
– Господи, – шепотом взмолилась она, – сделай так, чтобы Эрик еще был там.
Нора дача задний ход и выехала из гаража, потом переключила передачу и нажала на газ. Взвизгнув покрышками, «мерседес» обогнул угол и понесся вверх по пандусу. Даже не посмотрев налево, Нора выехала на Вторую авеню и помчалась вперед.
Дин стоял на щелястой дощатой пристани. Гидросамолет, проскользив по голубой водной глади, взмыл в небо, развернулся над озером и полетел обратно в Сиэтл. Дин успел забыть, как здесь красиво, как спокойно.
Наступил отлив. Широкая полоса пляжа, которую Дин знал как свои пять пальцев, пахла раскаленным на солнце песком и водорослями. Подсыхая на солнце, водоросли превращались в темные кожистые полоски и скручивались. Дин знал, что, если спрыгнет на песок, его ноги провалятся по щиколотку, дорогих мокасин не будет видно и он снова станет мальчишкой.
Знакомый запах и плеск волн, ударяющих в обросшие ракушками сваи, – вот что перенесло его в прошлое. К нему пришли воспоминания, завернутые, словно в подарочную бумагу, в запахи прибрежного песка во время отлива.
Здесь они с Эриком строили песчаные крепости, закапывали сокровища (фишки для покера, обернутые в фольгу), здесь, припадая к земле и обдирая коленки о плавник, перебегали от валуна к валуну и искали маленьких черных крабов, живущих под скользкими серыми камнями. В те дни они с Эриком были лучшими друзьями, они были неразлучны, часто казалось, что даже разум у них был общим. Из них двоих Эрик был сильнее, он был многообещающим юношей, все, за что брался, он делал отлично и уме добиваться поставленной цели. Эрику было всего семь лет, когда он, увидев фотографии дедушкиного дома на острове Лопес, в тот же день потребовал, чтобы их туда отвезли. Именно Эрик уговорил мать, и она разрешила им остаться.
Дин до сих пор помнил те споры. Они, конечно, велись вполголоса. В семействе Слоун не было принято говорить вслух о своих внутренних разногласиях. Дину запомнился свистящий шепот и многозначительные паузы. Он сидел тогда на верхней площадке лестницы, прижавшись к перилам так крепко, что на теле потом остались следы, и слушал, как старший брат умоляет мать разрешить им ходить в школу на острове.
Сначала мать решительно заявила, что это абсурд, но Эрик все убеждал и убеждал ее, пока она не устала спорить. Ребенком Эрик ire уступал матери в силе воли и в итоге победил. Тогда им казалось, что одержана важная победа, однако с возрастом они стали мудрее. Истина заключалась в том, что мать была настолько занята фирмой «Харкорт и сыновья», что дети мало ее интересовали. Конечно, время от времени она пыталась делать «правильные веши», как она это называла, например, заставила их перевестись в колледж Чоут, но в конце концов обычно оставляла их в покое.
Дин закрыл глаза и тут же открыл их, неожиданно услышав смех. Однако звук лишь почудился ему. Дину было горько сознавать, что болезнь послужила причиной, вынудившей его вернуться к брату, вернуться домой. Но еще сильнее он ненавидел свои нынешние чувства к Эрику. С годами они очень отдалились друг от друга, и виноват в этом был только он, Дин. Дин это понимал, но ничего не мог поделать.
Это произошло в одно на первый взгляд ничем не примечательное воскресенье. Дин к тому времени уехал с острова и ходил в школу. Сердце его было разбито и причиняло такую боль, что иногда он не мог вздохнуть. Эрик учился в Принстоне. Тогда они все еще оставались братьями и каждое воскресенье говорили по телефону, их разделяло только расстояние. Все изменил один телефонный звонок.
«Я влюбился… братишка, если ты стоишь, сядь… его зовут Чарли, он…»
Впоследствии Дин смог вспомнить только это, ничего больше. Каким-то образом в тот роковой, переломный момент его сознание заблокировалось. У него вдруг возникло ощущение, что его предали, что брат, которого он знал и любил, вдруг оказался незнакомцем.
Тогда Дин сказал Эрику все, что полагалось. Даже пребывая в растерянности, в шоке, он знал, чего от него ждут, и подчинился этим требованиям. Но оба чувствовали, что за словами скрывается ложь. Дин не знал, как быть честным, в какие слова можно облечь правду, чтобы она выглядела приемлемо. В то воскресенье у него возникло нелепое ощущение, что он потерял брата.
Возможно, если бы они тогда встретились, поговорили обо всем, их отношения сложились бы нормально. Но они оба были молоды, оба стояли на пороге жизни, целеустремленно глядя вперед, только в разные стороны. Отдалиться друг от друга было нетрудно. К тому времени когда Дин закончил Стэнфорд и поступил на работу в семейную фирму, было поздно начинать все сначала. Эрик переехал в Сиэтл и стал преподавать английский в средней школе. Он долго жил с Чарли, и только несколько лет назад Дин получил от брата короткое письмо, где тот сообщил, что Чарли проиграл борьбу со СПИДом.
Дин тогда послал цветы и маленькую открытку. Он хотел позвонить и даже несколько раз снимал трубку, но всякий раз спрашивал себя, что он может сказать, и не находил слов.
Дин отвернулся от воды и побрел по причалу. На вершину песчаного обрыва вели ступеньки, сделанные из половинок бревен. Лестница была довольно крут и, поднявшись на самый верх, Дин запыхался.
Длинный викторианский дом выглядел точно так же, каким Дин его запомнил: дощатая, чуть розоватая, обшивка крыши с крутыми скатами и изящной резной отделкой, похожей на кружево. Столбики веранды увиты разросшимся клематисом, свисающим петлями с карниза. Лужайка по-прежнему ровная и зеленая, как сукно. Пышно цветут розы, из года в год их удобряют и подрезают.
О такой статье расходов, как содержание дома, мать никогда не забывала. Все ее обиталища содержались в порядке, но за этим ухаживали особенно тщательно. Мать догадывалась, что Эрик иногда приезжает сюда с «этим мужчиной», и не желала давать повод для упреков по поводу состояния дома.
Дин направился к дому, пригибаясь пол раскидистыми ветвями старого земляничного дерева. Вдруг он заметил краем глаза что-то серебристое, оглянулся и сразу понял, что это было.
Качели – забытые и поржавевшие. Ветерок с моря качнул сиденья, цепочки звякнули. Вид качелей напомнил Дину о том, о чем он вспоминать не хотел.
Руби… Она стояла на этом самом месте, прислонившись к металлическому столбу опоры и скрестив руки на груди. Именно тогда, в ту самую секунду, Дин понял, что его лучший друг – девочка.
Он шагнул к ней.
– Что, – спросила Руби смеясь, – у меня на щеке пятно?
Дин внезапно понял, что любит ее. Ему захотелось сказать ей о своей любви, но в тот год у него ломался голос Дин боялся, что голос прозвучит по-девчоночьи, и вместо этого поцеловал Руби. Для обоих это был первый поцелуй. С тех пор всякий раз, когда Дин целовал женщину, ему не хватало запаха моря. Он отвернулся от качелей и, не оглядываясь, зашагал к дому. У входа он помедлил, набрался храбрости, изобразил улыбку и только потом постучал в дверь.
Дверь распахнулась, на пороге возникла Лотти. Старая нянька раскинула пухлые руки:
– Дин!
Он переступил порог и оказался в объятиях, которые помнил с детства. От Лотти, как и раньше, пахло лимоном и мылом «Айвори». Он не видел ее больше десяти лет, но за это время Лотти почти не постарела. Седых волос, конечно, прибавилось, но она по-прежнему собирала их на затылке в узел размером с булочку. На ее румяном лице было на удивление мало морщин, зеленые глаза не потеряли своей яркости, это были глаза женщины, любящей жизнь.
Дин только сейчас осознал, как сильно но ней скучал. Когда-то Лотти взяли в дом кухаркой на лето, но постепенно она стала их постоянной нянькой. Своих детей у нее не было, и Эрик с Дином заменили ей сыновей. Она растила их все десять лет, что они провели на острове Лопес.
– Жаль, что я приехал не просто так, – сказал Дин.
Лотти посмотрела на него щурясь.
– Просто не верится, что прошло столько времени, кажется, только вчера я вытирала с твоей рожицы шоколад. – Она вздохнула. – Просто не верится.
Дин вслед за ней прошел через ярко освещенный холл в гостиную, где в большом камине уютно потрескивало пламя. Дом был заставлен мебелью, которую Дин помнил с детства. В гостиной помещались два бежевых дивана на резных деревянных ножках, между ними – овальный кофейный столик розового дерева. На его блестящей полированной поверхности стояла прекрасная ваза фирмы «Лалик».
Великолепно декорированная комната была выдержана в стиле, который никогда не стареет, потому что он вне времени. Каждая вещь свидетельствовала о безупречном вкусе хозяйки и ее неограниченном банковском счете.
Единственное, чего недоставало комнате, так это жизни. Детям не позволялось сидеть на роскошных диванах, на обюссонский ковер никогда ничего не проливали.
Дин кивнул па лестницу:
– Как oн?
Зеленые глаза Лотти затуманились.
– К сожалению, неважно. Оп плохо перенес дорогу. Сегодня к нам приходила медсестра из хосписа, она сказала, что ему должно стать немного лучше от нового лекарства. Не помню, как называется, что-то вроде коктейля от боли.
Боль.
Об этом Дин как-то не задумывался, хотя должен был.
– Господи, – прошептал он, взлохмачивая волосы.
Он долго внутренне готовился, думал, что готов ко всему, и только теперь, оказавшись на острове, понял, как был глуп. Невозможно подготовиться к тому, что твой брат медленно умирает.
– Эрик звонил родителям?
– Звонил. Они в Греции, в Афинах.
– Я знаю. Он говорил с матерью?
Лотти уставилась на свои руки, и Дин замер.
– С Эриком говорил секретарь вашей матери, ее самой не было. Кажется, она ушла в магазин.
Дин боялся, что если повысит голос хотя бы немного, то сорвется на крик, и потому заговорил тише обычного:
– Эрик сказал, что у него рак?
– Конечно. Он хотел поговорить с матерью лично, но потом решил что лучше просто передать ей через секретаря.
– Она ему перезвонила?
– Нет.
Дин выдохнул и только сейчас понял, что боялся дышать. Лотти подошла к нему ближе:
– Я помню, какими вы были в детстве. Друг за дружку в огонь и в воду.
– Да. Теперь я здесь и буду с ним.
Лотти ласково улыбнулась:
– Иди к нему. Он выглядит чуть хуже, чем раньше, но это по-прежнему наш мальчик.
Дин кивнул, поправил ремень сумки, висевшей на плече, и стал подниматься по дубовой лестнице. Ступени поскрипывали под его ногами, рука легко скользила по гладким дубовым перилам, отполированным ладонями трех поколений. От верхней площадки отходило два коридора. Правый вел в старое крыло со спальнями хозяина и хозяйки, пустовавшими почти пятнадцать лет. В левый выходили две двери, одна из них была слегка приоткрыта. Закрытая вела в старую комнату Дина. Он, даже не входя, отчетливо видел ее перед собой: голубой коврик на полу, кровать кленового дерева с покрывалом из фланелевой шотландки, запылившийся плакат с изображением актрисы Фарры Фосетт в ее знаменитом красном купальнике. Сколько раз он мечтал в этой комнате, представляя себе тысячи путей, по которым может пойти его жизнь, но ни один вариант не предусматривал того момента, что происходил сейчас.
Чувствуя внезапно навалившуюся усталость, Дин миновал свою комнату и оказался у двери Эрика. Здесь он помедлил, глубоко вздохнул – как будто, набрав в легкие побольше воздуха, мог тем самым что-то исправить – и наконец вошел в комнату брата. Ему сразу бросилась в глаза больничная кровать, заменившая ту, что стояла у стены. Новая кровать – большая, с металлическими перилами и раскладывающаяся, как шезлонг, – господствовала в маленьком помещении. Лотти поставила ее так, чтобы Эрик мог смотреть в окно. Сейчас он спал. Дин, казалось, увидел все разом – желтоватую бледность ввалившихся щек брата, темные круги под глазам, проплешины кожи между поредевшими черными волосами, болезненную худобу руки с проступающими голубыми венами, лежащей поверх накрахмаленных белых простыней. Бескровные, вялые губы Эрика казались жалкой пародией на рот, с которого когда-то не сходила улыбка. От прежнего человека осталась лишь бледная тень.
Потрясенный, Дин пошатнулся и ухватился за перила кровати. Металл задребезжал под его рукой. Эрик медленно открыл глаза.
Вот он, паренек, которого Дин когда-то знал и любил.
– Эрик…
Дину хотелось, чтобы голос звучал не так глухо. Он попытался улыбнуться.
– Не надо, братишка, не старайся ради меня.
– Не стараться… что?
– Не пытайся притворяться, что ты не шокирован моим видом. – Эрик протянул дрожащую руку, взял с прикрепленного к кровати подноса розовую пластмассовую чашку с соломинкой и стал медленно пить. Затем он поднял голову.
Глаза у него слезились, но Дина поразило их выражение: душераздирающая честность. – Не думал, что ты приедешь.
– Разве я мог не приехать? Тебе нужно было сказать мне… раньше.
– Как я когда-то признался, что я гей? Поверь, братишка, я давно понял, что мои родственники плохо воспринимают дурные новости.
Дин боролся со слезами, но проиграл и сдался. Это были слезы, которые проникают в самое сердце. Он почувствовал жгучий стыд. Раскаяние, сожаление, скука, предвкушение, целеустремленность – вот чувства, которые вели Дина по жизни. С этими чувствами он умел справляться, умел ими манипулировать и их компенсировать. Но чувство, которое Дин испытывал сейчас, было для него новым: тошнотворное ощущение, что он плохой человек, ведь он глубоко ранил своего брата, знал об этом и ничего не сделал, чтобы исправить положение. Эрик слабо улыбнулся:
– Но сейчас ты здесь. Этого достаточно.
– Нет, ты так долго болел… один.
– Не важно.
Дину хотелось убрать с влажного лба Эрика жидкие пряди волос, ободрить его своим прикосновением, но, когда он потянулся к нему, руки дрожали, и он опустил их. Он так давно никого не утешал, что даже не помнил, когда это случилось в последний раз.
– Нет, важно, – сказал он охрипшим голосом.
В эту минуту Дин отдал бы что угодно за возможность стереть прошлое, вернуться в то давнее воскресное утро, услышать от брата то злополучное признание и просто порадоваться за него. Но как это сделать? Как могут два человека вернуться в прошлое и развязать запутанный узел, который затягивали каждое мгновение своей жизни?
Эрик улыбнулся и сонно попросил:
– Братишка, просто поговори со мной. Просто поговори, как бывало.








