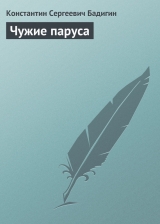
Текст книги "Чужие паруса"
Автор книги: Константин Бадигин
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Глава седьмая
ОБМАНУТАЯ
Ровно через час Петр Малыгин на паре серых откормленных лошадок лихо подкатил к дому вдовы Лопатиной.
– Эй, хозяйка, – затарабанил он кнутовищем в дверь, – выходи, лошади поданы.
– Остолоп неумытый, – сразу отозвалась старуха, выскочив на крыльцо. – Чего стучишь, двери поломать хочешь? Сама вижу, не слепая чать. Наградил бог дурака силой, а ума то и нет.
– Ну, ну… Вишь ты, – пятясь к саням, забормотал ошарашенный ямщик. – Ничего не содеялось твоим дверям-то.
Аграфена Петровна вынесла из дома два небольших узелка, позвала дочь, закрыла на тяжелый замок двери и, перекрестив дом, полезла в сани.
Хмурясь, Малыгин усадил поудобнее закутанную в две шубы старуху, помог Наталье, спрятал под сиденье узлы и, причмокнув, дернул вожжи.
Проехав почти весь город, Петряй остановил лошадей у небольшого, совсем еще нового дома. Здесь была лавка; на одном окне вместе с копченым сигом, выставленным напоказ, лежали гвозди и подковы, красовались цветистые платки. На другом – топоры вместе с косами и граблями. Сапоги и валенки окружали штуку черного сукна. Над окнами было выведено корявыми буквами: «Торговое заведение».
Малыгин покосился на старуху. Задремавшая было Лопатина очнулась и смотрела на него бессмысленными со сна глазами.
– Подковок купить надобно, – буркнул Петряй, резво слезая с передка. – Не в пример прочим, здеся подковы хороши.
Время шло, ямщик не показывался. Старуха стала терять терпение. Наконец дверь распахнулась, и в клубах пара показался Малыгин, держа за руку раскрасневшуюся толстую девку.
Увидев разгневанное лицо Аграфены Петровны, Малыгин заторопился.
– Прощайте, Марфа Ивановна, как ворочусь, перво-наперво к вам. – Он с неохотой выпустил руку девицы и, оправляя на ходу пояс, направился к саням.
– Ты что, тесто с хозяйкой ставил, а? – набросилась старуха. – Безбожник, подковки надоть купить, – передразнила она, высовываясь из саней. – Вижу, вижу, подковала тебя хозяйка-то. У, толстомясая! – Лопатина посмотрела на девку. – Постой, постой, парень, – спохватилась она, пробежав быстрыми глазками по дому. – А ну, скажи, молодец, чей дом-то?
– Чей? Марфы Ивановны Мухиной, собственный дом-с, – залезая в сани, ответил Малыгин.
– Мухиной… Марфутки? Ха-ха! – ехидно засмеялась старуха. – А не братца ли моего Аристарха, а? О прошлом годе строен… он самый… и петух на крыше. – Лопатина презрительно сжала губы. – Вот ужо в скиты придем, расскажу отцу нарядчику, кто к нему в огород повадился. Шерстка-то не по рылу, молодец.
Услышав занозистые речи Лопатиной, девка, подбоченясь и сверкнув глазами, собиралась вступить в бой.
– Мамынька, – вмешалась Наталья, – зачем зазря людей обижаете?
Малыгин, кинув испуганный взгляд на крыльцо, вскочил с маху на облучок и полоснул кнутом лошадей.
Застоявшиеся лошади рванули, санки, заскрипев на морозном снегу, помчались вперед.
– Воля ваша, а только понапрасну стращаете, Аграфена Петровна. – Ей-богу, говорить-то вашему братцу не о чем, – обернулся Малыгин к старухе. – Других легко судим, а себя забываем…
Закрыв глаза, старуха молчала.
По Петербургскому тракту ехали хорошо: дорога накатанная, санки легкие. Лихих людей бояться не приходилось: Малыгин то и дело обгонял длинные обозы, идущие в столицу, разъезжался с резвыми почтовыми тройками, встречал пустые розвальни с мужиками, возвращавшимися с базаров и ярмарок.
Весна этот год запаздывала. Несмотря на март, погода держалась морозная, ветреная. Однако в крытом возке Лопатиным было тепло: Наталью грело молодое сердечко, а старуха подбадривала себя любимой наливочкой.
В Каргополе Малыгин запряг лошадей гусем и снял войлочный верх саней. Сам он уселся верхом на передовую, пегую кобылку. Выехав из города, ямщик свернул с большой дороги и вез Лопатиных по зимнему пути. Там, где можно, дорога шла по замерзшим озерам и речкам, а больше – прямиком, в дремучем лесу. Ямщик часто нагибался, вглядываясь в едва заметною нить санного следа, узкая дорожка извивалась между деревьями, то теряясь из глаз, то вновь неожиданно появляясь.
Укутавшись в две овчинные шубы, обвязавшись пуховыми платками, Аграфена Петровна спокойно спала.
На заезжих дворах, пригубив любимой наливочки, Лопатина до хрипоты торговалась за каждый грош, ругала хозяев за нетопленую избу, за грязь, за тараканов, за клопов, беспокоивших ее по ночам. Но стоило Аграфене Петровне очутиться в санях, она, удобно примостившись в мягком сене, тут же безмятежно засыпала.
Прошло еще три дня в дороге. Как-то, остановившись на ночлег в деревушке, стоящей как раз на полпути от скита, Малыгин вошел в избу, где расположилась старуха.
– Дале одним ехать опасно, – вертя в руках кнут, сказал он, – не без лихих людей лес, за лошадей боюсь… ежели что – головы не сносить от Еремея Панфилыча. Волки опять-таки. Ехать одному не стоит.
– О лошадях печешься? – набросилась на него старуха. – А ежели время волочить будем, прознает Наталья, не захочет в скит ехать – тогда, мил человек, что запоешь? За Наталью Еремей Панфилыч вовсе тебя со свету сживет. Лошадей поминаешь, – презрительно сощурилась Аграфена Петровна, – а главное-то и забыл.
Малыгин долго чесал в затылке, переминался с ноги на ногу, но возразить бойкой старухе не смог.
Утром, поминая Аграфену Петровну черным словом, он надел тулуп, подпоясался, запряг лошадей и, посадив в сани Лопатиных, повез их дальше.
День был солнечный, светлый, ласковый.
– Мамынька, ах, мамынька, смотрите, как красиво! – то и дело вскрикивала Наталья, любуясь лесными великанами, покрытыми искрящимся на солнце снегом.
Но старуху Лопатину трудно было расшевелить. После крепкой наливки она отвечала мычанием да густым храпом.
– Мамынька, – вдруг встрепенулась Наталья, – скоро мы в обрат будем? Ванюшка-то по зимней дороге в город собирался. Пешком, говорил, пойду, а к егорьеву дню буду.
– Не заблудится без тебя Иван, – отрезала старуха, – подождет, не велика пташка. Вспомнишь мое слово – приедет, а денег-то нетути; опять свадьбу отложит. Насидишься в девках, милая, с таким женихом.
У Аграфены Петровны чесался язык с перцем вспомянуть Химкова, да боялась она: не дай бог Наталья догадается – все прахом пойдет.
– Ну и пусть, – горячо ответила девушка, – десять лет милого буду ждать, раз слово дала. Лишь бы он меня не забыл… Скучно без Ванюшки, мамынька, – пожаловалась она, – сердце изболелось.
Старуха сердито посмотрела на дочь.
– Сухая любовь только крушит, милая. Однако жди, дело твое, неволить не стану.
– Спасибо, мамынька, – Наталья с благодарностью посмотрела на мать. – И Ванюшка спасибо скажет, всю жизнь не забудем.
Петр Малыгин давно понял всю подноготную старухиной затеи. Он жалел девушку, но вмешиваться в окладннковские дела боялся.
Услыхав краем уха разговор Лопатиных, он в сердцах про себя стал ругать Аграфену Петровну.
«Ну и старуха, ведьма, – думал он, трясясь на жесткой спине кобылы. – А дочка несмышленыш – „мамынька“ да „мамынька“. Такой бы мамыньке камень на шею да в прорубь. Дите родное продает. Гадюка! И почему на свете так устроено, – рассуждал он, – где любовь, там и напасть?»
Наташа радовалась, глядя на закиданный глубоким снегом лес, на белок, скакавших с ветки на ветку, на всякую птицу… Все ее восхищало, все ей было интересно, куда и зачем она едет, Наташа не знала, Аграфена Петровна обманула ее, сказав, что дядя, старец Аристарх – нарядчик в выгорецких скитах, – болен.
– Видать, перед смертью братец повидаться захотел, – с тяжким вздохом говорила она, – годов-то много.
И Наталья, девушка с отзывчивым, добрым сердцем, не могла не согласиться навестить старика; она даже обрадовалась.
«Уеду подальше от проклятого купца. Пройдет время, вернусь, а тут и Ванюшка подоспеет», – думала она, собираясь в дорогу. О сватовстве Окладникова мать обещала больше не вспоминать.
На крутом повороте санки разнесло и с размаху стукнуло о дерево. Аграфена Петровна подала голос:
– Петька! Осторожней, дьявол, деревья считай, бока обломаешь… Верстов-то много ли до заезжего?..
– Десятка два будет, а может, и поболе, да кто их мерил, версты-то! Говорят, мерила их бабка клюкой да махнула рукой: быть-де так, – отшутился ямщик. – Тпру, милые! – вдруг остановил он лошадей.
Спрыгнув со своей кобылки, Малыгин долго ходил по снегу. Он нагибался и что-то рассматривал то в одном, то в другом месте, причмокивал губами и качал головой.
– Беда, – подойдя к саням, сказал ямщик, – волки недавно здесь были. – Не зная, что делать дальше, он старательно стал очищать кнутовищем валенки от налипшего снега.
– Поезжай скорей, дурак, – сказала старуха, – опять время тянешь. Господи царю небесный, и наградил же ты меня остолопом! Ну, чего ради ты на снегу топчешься, бестолочь… Тьфу!
Малыгин обиделся.
– Да ты вот так, а другой, поди, и не эдак… – не находил он слов. – Твоя воля, а мы тут, выходит, ни в чем не причинны. – Он нахлобучил шапку, для чего-то снял и вновь надел обе рукавицы.
– Дурак, прямо дурак! Охота мне твою гугню слушать, бормочет невесть что. Да поезжай ты бога ради! Тебе-то заботы много ли: расшарашил ноги да и покрикивай на лошадок.
Ямщик не сказал больше ни слова, взобрался на гнедую кобылку, и Лопатины снова тронулись в путь.
Незаметно кончился короткий зимний день. Наступил тихий вечер. Полная луна выплыла из-за облаков, разливая всюду спокойный серебристый свет. Вековые разлапистые ели, засыпанные сверкающим снегом, стояли неподвижно, словно придавленные тяжестью. В лесу ни звука, ни движения. Даже глухарь, одиноко сидевший на суку, нахохлившись, не шевельнулся, когда лошади пробегали под ним, а ямщик чуть не зацепил его шапкой.
В мертвой тишине далеко разносился назойливый скрип полозьев, бодрое пофыркивание лошадок. Изредка потрескивали раздираемые морозом деревья да с глухим шумом осыпался снег с отяжелевших ветвей.
Ямщик на передовой лошадке смешно дергал руками и попрыгивал. Иногда он, забывая пригнуться, задевал головою низко склонившиеся ветви, и снег, словно нарочно, осыпался в сани, вызывая недовольное бурчание Аграфены Петровны и веселый смех Наташи.
Но вот новые, незнакомые звуки нарушили лесную тишину, они слышались где-то далеко позади. Лошади прянули ушами и прибавили ходу. Звуки повторялись вновь и вновь. Ямщик испуганно обернулся.
– Волки! – крикнул он. – Слышишь, воют окаянные. Но-о-о! – задергал он вожжами. – Но-о-о, милые!
Почуяв зверя, лошади и без кнута бежали резво. Прижимая уши, они испуганно храпели.
– Мамынька, проснитесь, волки… Проснитесь же, мамынька! – будила Наталья мать. – Волки, мамынь-ка…
Аграфена Петровна испуганно оглянулась. Там, где слышался звериный вой, она увидела огоньки волчьих глаз; огоньки то зажигались, то гасли.
– Спаси и помилуй нас бог, страхи какие! – закрестилась старуха. – Погоняй, Петька! – взвизгнула она вдруг. – Погоняй! Погоняй!
Но ямщик ничего не слышал. Ругаясь и крича, он вовсю нахлестывал лошадей… Лошади понесли, не разбирая дороги. Сани с визгом кренились то на одну, то на другую сторону, каким-то чудом не переворачиваясь.
Обернувшись, увидев разъяренных зверей совсем близко, ямщик с новой силой принялся нахлестывать лошадей.
– Девонька, – словно во сне услышала Наталья его отчаянный крик, – топор… обороняйся!
Наталья очнулась. Огромный матерый волк, опередивший остальных, приближался к саням большими прыжками.
– Погоняй! Погоняй! Погоняй! – не переставая, визжала обезумевшая от страха Аграфена Петровна.
Поняв, что помощи ждать неоткуда, Наталья обрела решимость. Нашарив в сене топор, она, не спуская глаз со страшного зверя, приготовилась защищаться.
Распластавшись в погоне, волчья стая охватывала широким полукружьем лошадей и сани. Загнанные лошади из последних сил бежали по глубокому снегу.
– Миленькие, наддай! – подбадривал ямщик, дергая поводьями. – Миленькие, не выдай… Эх, родные, золотые! – вопил он срывающимся голосом.
– Погоняй! Погоняй! Погоняй! – отчаянно раздавалось из саней.
Вожак, огромный матерый волк, настигнув сани, высоко подпрыгнул. Наталья вскрикнула, не помня себя, ударила зверя в раскрытую дымящуюся пасть; волк, кувырнувшись в воздухе, тяжело рухнул в снег. Голодные волки, бежавшие сзади, тотчас окружили вожака и, словно сговорившись, дружно бросились на раненого зверя. В ушах Наташи дико отзывалось грозное, предсмертное рычание.
Остальные звери, обогнав сани, бросились на гнедую кобылку. Лошади круто рванули в сторону. Сани с ходу зацепились за торчавший из снега пень, затрещали и остановились. Рванувшись вперед, обезумевшая лошадь оборвала постромки и вынесла ямщика из кольца волчьей стаи. Гнедой в яблоках жеребец бился, издавая отчаянное ржанье, силясь освободиться от застрявших саней. Грозно рыча, волки скопом обрушились на беззащитное животное.
– Дурак, дурак, погоняй… погоняй… – шептала старуха, раскрыв в ужасе глаза.
Неожиданно раздалось четыре выстрела. Наталья видела, как два волка, вцепившиеся в лошадиную шею, мешками свалились в снег… Видела она, как огромная собака с лету сбила широкой грудью третьего волка.
Четверо мужиков в коротких малицах, гикая и размахивая руками, быстро приближались к саням…
Глава восьмая
ЗЕМЛЯКИ
Через неделю после отъезда Аграфены Петровны из Архангельска собрался в Питер Амос Корнилов. Малорослые крепкие мезенские лошадки быстро несли деревянные сани, лихо закатывая на поворотах. Зима разгладила дорожные ухабы и рытвины. На разъезженном пути санки встряхивало только изредка, да и то по вине дремавшего ямщика. Давно уж проехали старинный город Каргополь; позади осталось много деревень и сел, дремучие леса и бесконечные озера и реки.
Вот перед глазами возник небольшой городок Поле Лодейное, стоявший на реке Свири. А сейчас и Поле Лодейное позади; давно укрылись за лесом церковные колоколенки тихого городка; и снова снег да бесконечная лента зимней дороги…
Задремавшего морехода разбудил грозный окрик. Лихая тройка почтовых лошадей, звеня бубенцами, обгоняла санки Корнилова. Горластый ямщик из озорства полоснул кнутом по мезенским лошадкам. А лошадки оказались с норовом: рванули, санки понесло в сторону и зацепило за почтовый возок.
Пока ямщики обменивались «любезностями», разнимали постромки, Корнилов успел разглядеть закутанного в меха человека. Он узнал известного в Архангельске купца – англичанина Вильямса Бака.
Давно скрылась почтовая тройка за поворотом дороги, затих звон колокольчиков, и ямщик давно перестал ворчать, а Амос Кондратьевич не мог успокоиться. Неприятен был Вильямс Бак Корнилову.
В пасмурный мартовский день санки Корнилова миновали редкий еловый лесок и въехали в улицу, нечасто уставленную домишками. Ближе к Неве улицы стали оживленнее, дома наряднее и выше. Многочисленные сады и парки украшали город, над голыми вершинами деревьев стаями носились горластые вороны. Столица строилась: то там, то здесь высились кучи кирпича, горы леса, стояли кадки с известкой. По пути встречались розвальни, груженные бревнами и тесом. Наряду с роскошными дворцами, богатыми лавками и разодетой праздной толпой в столице со всех сторон глядела бедность и нищета. Корнилова поразило множество нищих: оборванные и грязные, они на всех углах протягивали руки прохожим.
Но вот загремела музыка. На широком проспекте показались всадники. Уступая дорогу, Амос Кондратьевич подогнал свои санки к обочине и велел остановить лошадей у табачной лавки с золотой трубкой вместо вывески.
Под торжественные звуки церемониального марша один за одним проходили эскадроны драгун. Корнилов с любопытством принялся рассматривать пышную парадную форму, сверкающее оружие, богатые седла с яркими попонами.
Посмотреть на занятное зрелище народу собралось много. По обе стороны дороги, ругаясь и толкая друг друга, толпились мастеровые с топорами и пилами, крестьяне в рваных шубенках, лакеи в разноцветных ливреях, мелкий торговый люд.
– Дрягуны, дрягуны, – кричали со всех сторон, – пруссаков бить идут!
– Весной запахло, – раздался чей-то скрипучий голос позади Корнилова, – зашевелились наши полководцы. Ежели государыня Елизавета Петровна, дай бог, не помре, летом о новой виктории услышим.
Мореход, закрытый высоким воротником бараньего тулупа, незаметно обернулся. Два господина в дорогих шубах стояли у дверей табачной лавки, посматривая на всадников. Один из них – высокий старик с бледным худым лицом, другой – молодой, краснощекий, дородный. Старик опирался на толстую трость с костяным набалдашником.
– Я не могу взять в толк, ваше сиятельство, – отозвался воркующий тенорок, – какое касательство имеет здоровье государыни к победам нашего воинства?
– Ах, мой друг, но сие так просто, – снова заскрипел старик. – Елизавета Петровна совсем плоха, мой друг… А будущий император Петр Третий почитает прусского короля Фридриха за первейшего друга; когда русские бьют пруссаков, наследник сходит с ума. От злости он готов уничтожить всю русскую армию. – Старик вытащил изящную, с картинкой на крышке, французскую табакерку. – Не угодно ли, мой друг, отменное средство против простуды? – (Молодой отказался.) Старик с наслаждением зарядил обе ноздри табаком. – Пока матушка Елизавета здравствует – это не страшно, – продолжал он, прочистив нос, – но… все люди смертны… Император Петр Третий сумеет отомстить русским полководцам за победы над королем Фридрихом. – Старик со злостью стукнул тростью по санкам Корнилова. – А понеже фельдмаршал граф Салтыков сие прекрасно знает, он не преминет подумать о будущем…
Корнилова взволновали речи незнакомца. Он слушал, боясь пошевелиться, боясь проронить слово.
– Неужто, ваше сиятельство? – воскликнул молодой. – Но ведь в прошлом году фельдмаршал одержал блестящую победу под Кунерсдорфом!
– О, слава всевышнему, мой друг, наши храбрые офицеры и солдаты не занимаются высокой придворной политикой, и когда встретят врага, то бьют его со всем старанием… Бедная армия! Когда я вижу солдат, у меня разрывается сердце… Мне тяжело говорить об этом, мой друг, – старик понизил голос, – но наши солдаты побеждают врага, несмотря на предательство и измену, гнездящиеся во дворце.
– Я слышал, ваше сиятельство, но это так чудовищно! – ворковал молодой голос. – Я не давал веры…
– Через час решения военной конференции, – не слушая, продолжал старик, – известны английскому посланнику, мой друг, а засим и прусскому королю. Сей хитрый англичанин сумел… – Старик нагнулся и что-то зашептал спутнику на ухо.
– Это невероятно, ваше сиятельство, я отказываюсь верить… наследник русского престола…
– Тсс, опомнитесь, сударь, – зашептал старик, бросая вокруг себя быстрые взгляды, – можно ли быть таким неосторожным!.. – Он закашлялся, помолчал, тяжело вздохнул. – Вот еще один славный полк ушел на поле брани. Дай бог хорошего здоровья нашей государыне.
Проводив глазами удалявшееся воинство, собеседники вошли в табачную лавку.
Тронулся в путь и Амос Кондратьевич. Он долго не мог прийти в себя от страшных слов старого графа.
«Неужто правда? – в смятении спрашивал он себя. – Нет, не верю, не может быть…»
У Зимнего дворца санки спустились к Неве. Переправу указывали шесты с пучками хвойных веток, воткнутые в лед. Не доезжая Васильевского острова, Корнилов остановил лошадей; у берега, вмерзнув в лед, рядами стояли громоздкие суда. Мореходу показалось, что он видит знакомые очертания большого корабля. Амос Кондратьевич подошел ближе. Высокая корма тяжелого седловатого судна горой нависла над ним. Снаружи корму обнимали вычурно изукрашенные галереи, а над ними возвышались, три огромных фонаря. Массивные, далеко выдавшиеся вперед щеки были украшены статуями. Вдруг Корнилов обрадовано вскрикнул, словно неожиданно встретил земляка: на корме блеснул полустертой позолотой знак судостроительной верфи.
– Петровский корабль, в Архангельске строен! – громко, с гордостью произнес Амос Кондратьевич. – Наши поморские руки ладили. – Он подошел к самому борту заснувшего гиганта и, словно живого, ласково похлопал его по холодным доскам.
– Эй, земляк, проходи, что копаешься тут! Вот ужо слезу да накостыляю по шее, – услышал мореход откуда-то сверху грозный голос.
«Охраняют корабль, молодцы», – не обидясь на угрозу, подумал Амос Кондратьевич, отходя в сторону.
– Недаром царь Петр уставы писал. Молодцы! – повторял он, влезая в санки.
Вечерело. Застучали в чугунные доски сторожа У богатых домов; в притихшем городе отчетливо раздавался лай перекликавшихся сторожевых псов. Где-то далеко на Выборгской стороне били в набат, виднелось большое зарево пожара. Санки Корнилова под яростный вой цепных псов въехали в просторный двор архангелогородца, теперь питерского купца Петра Семеновича Савельева – старинного дружка. Савельев жил в большом деревянном доме, построенном по-поморски – крепко и надежно. Скромный, неказистый с виду бородач ворочал большими тысячами и деловые связи в столичном городе имел обширные.
Приятели обнялись и расцеловались. После парной баньки с квасом и березовым веником Корнилова усадили за стол. Приветствовать редкого гостя выплыла из своих покоев дородная Лукерья Саввишна, супруга Савельева. Не утерпела Лукерья Саввишна, не однажды вступала она в разговор, выпытывая о своей родне. Хозяин сердито кряхтел и хмурил мохнатые брови.
– Пошла бы ты, Лукерья, на свою половину, – не выдержал наконец он, – у нас тут дела с гостюшкой. Мешаешь ты нам.
Лукерья Саввишна, недовольно поджавши губы, вышла из горницы, крутя подолом длинной обористой юбки.
Друзья остались одни. Дело пошло по-другому. Положив локти на стол, придвинувшись друг к другу вплотную, борода к бороде, купцы заговорили откровеннее.
– Ну и времена пошли, – косясь на дверь, понизил голос Савельев. – Вовсе заморские купцы одолели, везде дорогу перебивают, везде свой нос суют. При дворце им подмога большая, – доверительно сообщал Петр Семенович, – а наш брат не сунься – все равно не прав будешь. На своем ежели стоять – разор, затаскают по судам… Указов много на пользу русскому купечеству матушка царица написала… а на деле не так выходит. Иноземцы в обход идут, в русское купечество пишутся, а капиталы свои за море отправляют.
Корнилов не выдержал:
– Правильно говоришь, в торговых делах русскому человеку ходу нет. А ты посмотри, что в Поморье творится. Купчишка английский, Бак, мошенник и плут, да Вернизобер, шуваловский приказчик, всем делом крутят. Таким людям одна дорога – на каторгу, а они по столицам катают.
В ответ на слова Корнилова Петр Семенович вздыхал, соболезнующе покачивал головой.
– Жалобу привез. Матушке императрице писана. Может, и выйдет что? – и Корнилов вопросительно посмотрел на своего приятеля.
Савельев осторожно зацепил ложечкой мороженой ягоды в сахаре, медленно положил в рот, запил чаем и только тогда ответил:
– Что ж, попытаться можно, попытка не пытка. Да толк будет ли? Война, брат! Четвертый год воюем, и все конца не видно. Государыне по слабости здоровья для других дел времени вовсе не стало. – Савельев замолчал раздумывая. – Стонут мужики, что ни год, то хуже простому сословию на Руси жить. Невдосыт едят, в других местах и хлеба не видят: кору да мякину жрут. Все кому не лень шкуру с мужика норовят содрать. Помещики людей, аки скот, продают, императрица позволение, слышь, тому дала. Плетьми до смерти секут, в Сибирь самовольно засылают… тьфу! А тут война, новые поборы в казну тянут. А нам, Амос Кондратьевич, кто по старой вере живет, и вовсе конец пришел. Бывает, за крест да за бороду всем животом не откупишься.
– Оттого в народе смущение и соблазн. В наших лесах многие спасаются, – вставил Амос Кондратьевич. – Бунтуют мужики, бывает, и монастыри жгут.
– А во дворце что деется, – шепнул Савельев дружку, – послушать ежели по базарам да ярмаркам – уши вянут, всего наслушаешься… Гудет народ, будто господа сенаторы немцу продались. И сам будто престолонаследник, Петр Федорович, прусских кровей…
Савельев, встретив понимающий взгляд Корнилова, замолчал.
«Значит, правда», – болью отозвалось в сердце Амоса. Теперь он все больше и больше боялся за успех своего дела.
– А касаемо жалобы, – перешел на другое купец, – Ломоносова Михаилу Васильевича проси; захочет ежели, прямо в царские ручки жалобу передаст… Да в Питере ли он – слых был, не то в Псков, не то в Новгород уехал. Подожди, подожди, Амос Кондратьевич, – вспомнил Савельев, – друг у меня есть. Василий Помазкин, в истопниках у самого наследника престола. Наш помор, на фрегате боцманом был. Так вот, ежели его к делу пристегнуть, а? Как думаешь? Пусть Петра Федоровича слезно просит челобитную принять и передать императрице. Петру-то Федоровичу до государыни Елизаветы недалече, в одном доме живут. Ты не думай, – посмотрел в лицо друга Савельев, – что, дескать, истопник птичка-невеличка. И комар, говорят, лошадь свалит, коли волк поможет.
– Что ж, я не против, то верно, в другом разе истопник больше графа стоит, – ответил Корнилов. Дружки посидели молча, думая каждый о своем.
– Прядунов, купец наш архангельский, слыхал ведь, – снова заговорил Савельев, – в тюрьму посажен.
А за что? Каменное масло нашел и в Питер представил. Царь Петр за такие дела возвеличивал, а тут…
Слова хозяина прервали захрипевшие часы. В тишине прозвучало семь ударов. Почти тотчас же стали отбивать время на церковной колоколенке.








