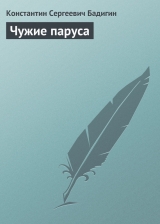
Текст книги "Чужие паруса"
Автор книги: Константин Бадигин
Жанр:
Морские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Глава семнадцатая
ПАУКИ И МУХИ
Река Безымянка выливается из самой что ни на есть глухомани онежских лесов. Сосны, ели вперемежку с густым березняком, рябиной, осиной и ольшаником образуют непролазную чащу. Шиповник и смородина, малина и можжевельник густо заполняют все тропинки, все полянки.
Кучи валежника, гниющие пни и стволы упавших деревьев на каждом шагу преграждают путь. Угрожающе наклонились, держась на ветвях собратьев, лесные великаны, поваленные ветром. Ноги путника утопают в гнилой, болотистой почве, хлюпают в сырых мхах. Несметными полчищами вьются комары… Топи, болота, озера и речки заполонили онежские леса. Проехать в таких лесах невозможно, пешему пройти трудно.
Озера, постепенно зарастая травами, камышом, водяными лилиями, плавучим рдестом, покрываются толстым, но дырявым ковром, сплетенным из болотных растений. Медленно наращивая толщину, мохнатый ковер превращает озера в зыбучие топи. Дыры в таком ковре, заштопанные зелеными травами и яркими цветами, – колодцы, уходящие в озерную глубь. Горе попавшему в такое болото: редко, очень редко удается человеку живым унести ноги.
Дремучий лес охраняет от нескромных человеческих глаз раскольничий скит Безымянный, построенный еще в петровские времена.
Одинокий колокол под дощатой крышей звонницы, моленная и два десятка деревянных строений окружены высоким частоколом. Скит строился по-старинному. Жилые дома, сбитые из толстых бревен, стайкой теснятся вокруг церквушки, все окнами внутрь, глухой стеной к забору. Тесовая стена делит скит на женскую и мужскую половины.
Все, в чем нуждалось общежительство – хлеб, кое-какая одежонка, инструмент, – подвозилось зимой по санному пути. Летом в скит люди пробирались по двум тропам, почти неприметным в болотах. Одна из них шла на восток к Данилову монастырю, другая на запад.
Но как найти эти тропы среди трясин и болот, знали немногие.
В глухом скиту спасаются от грехов старообрядцы-беспоповцы: полсотни сестер-инокинь, десятка два белиц да десятка два старцев. Они молятся богу, жгут свечи, кладут большие и малые поклоны и кадят ладаном. Вся черная работа лежит на спинах сотни трудников и трудниц – мужиков и баб, не имеющих иноческого чина.
Работный народ был темный, незнаемый, скрывавшийся в лесах бог весть отчего. В скиту они жили тихо, работали исправно и не выходили из повиновения большаков и большух.
Многие браться и сестры славились божественным письмом; переписывали уставом[13]13
Старинный почерк прямыми буквами.
[Закрыть] «Цветники» и «Сборники» и другие старопечатные книги, рисовали финики по бокам рукописей и цветные заставки. Славился скит еще мирским художеством: инокини и белицы множили чертежи морского хождения, что присылал из города знатный выгорецкин мореход Амос Корнилов. Они чертили землицу Грумант, Белое море, остров Колгуев, Печорские берега. Мурманский берег, Матицу.
Казалось, тихо – мирно шла жизнь в далеком раскольничьем скиту. Святая молитва, пост, божественное пение – вот и все, что должно было бы занимать умы иноков и инокинь. Но было не так: дремучие леса, топи и болота не укрыли праведников от мирских пороков. И здесь грозно бушевали человеческие страсти.
В старой пещере, едва на аршин глядевшей из земли, под двумя тяжелыми замками сидел прикованный цепью худой и бледный мужик. Три года назад, как раз в сочельник, его привезли на розвальнях из Данилова монастыря. Старцы шептались между собой, будто приехал он из заморщины, от самого прусского короля. А хотел будто прусский король от раскольников, чтобы признали они государем Ивана Антоновича, того, что заточен императрицей Елизаветой в Холмогорах, когда его, государя Ивана, освободят.
А случилось так.
Выгорецкий киновиарх, услыхав крамольные речи посольника, пребывал в большом страхе. Тайно собрались монастырские старцы на собор. Отец Серацион, древний инок, три десятка лет истязавший себя голодом и веригами, звал на крайние меры.
– Гнев и разорение будет на нас! – брызгая слюной, выкрикивал он. – Крамольника сей нощью из монастыря вон… Смерти его предать, пепел по лесам развеять.
Старцы совещались недолго. У всех на уме было одно – избавиться от страшного посланца. Однако смерти предать убоялись.
«Злоковарного мужа из рук не выпускать, – гласил приговор, – обманно увезти в дальний скит, посадить на чепь, держать тайно. Кормить не вдосталь, а буде умрет – похоронить на болоте, не оставя следов».
В скиту Безымянном крепко и грозно держали слово киновиарха. Посадили мужика на хлеб и на воду, горячее давали однажды в неделю. Однако узник, хоть зело удручен был телом, умирать не хотел.
Много слез и страданий, много людского безысходного горя хоронили от посторонних глаз крепкие стены скита. Непокорливых духом морили голодом и поклонами, сажали в темные сырые чуланы, ставили голыми коленями на острые кремневые камни, секли до полусмерти розгами… Но для избранных в скиту жилось привольно и сытно. В этом-то дальнем общежительстве Аграфена Лопатина оставила свою дочку.
В первые дни Наташа словно потеряла себя. Обман любимой матери все спутал в ее голове. Жизнь казалась ненужной и тягостной – впору было наложить на себя руки. Только боязнь страшного греха не дала ей покончить свои счеты с жизнью.
Потянулись дни, словно близнецы похожие один на другой. Покаянные молитвы с поклонами, заунывное пение в молельне, скудные трапезы, нудный труд, беседы стариц о спасении души – вот все, чем могла развлекаться Наташа. Только во сне, свидясь с любимым, забывала она свои горести.
«Помнит ли Ваня меня? – думала она, просыпаясь и вспоминая сон. – Почему не пришлет весточку? Нет, забыл, не помнит».
И снова начинался день – серый, неприветливый. Словно вовсе и не жила на свете Наташенька, а покоилась в холодной сырой могиле.
Не однажды непокорную звала к себе начальная матка Таифа.[14]14
Игуменья в беспоповском скиту.
[Закрыть] Старица издалека заводила речь о сватовстве купца Окладникова, об истинной древней вере, о проклятом табашнике Ваньке Химкове. В последний раз Наташа не выдержала.
– Матушка, – сказала она, дрожа от гнева, – не хочу ваших скаредных речей слушать Что хотите делайте, а над душой моей вы не властны. Неволить будете – удавлюсь.
– Ой, берегись, девка! – грозно прикрикнула мать Таифа. – Забыла, что в скиту живешь?! Ежели так – розгалей попробуешь, горячих всыплю!
– Удавлюсь, – повторила Наталья, протянув дрожащую руку к старинной иконе пресвятой богоматери, – ей говорю Пытливо взглянув на девушку, игуменья задумалась.
– Иди с богом, – наконец сказала она, махнув рукой.
И больше мать Таифа Наталью не призывала.
Наташа ушла в себя, затаилась, притихла. В свободное время она любила одна сидеть в своей горенке. Унылым, неподвижным взором часами глядела девушка в окно на дремучие леса, плотной стеной обступившие скит.
– Смирилась девка, – донесла старица Анафролия игуменье. – Не узнать. Речьми тиха, послушлива. А была – огонь огнем.
– Не тревожьте ее, – равнодушно зевая и крестя рот, ответила Таифа, – пусть живет как знает. Непонятна она, крученая, прости господи. Уж чего лучше в скиту жить! – добавила старуха. – Знай молись да душеньку спасай.
За Наташей перестали следить. Она будто утешилась, внешне казалась спокойной Но в душе ее все больше крепла решимость сдержать слово, данное жениху.
– Нет, не забыл меня Ваня, – повторяла девушка, – не забыл, не может он забыть.
Ни мгновения не переставала Наташа думать о своем милом.
Короткое северное лето кончилось Дни еще стоялитеплые, солнечные, зато ночи холодные и сырые. Желтели и падали листья.
В скиту торопливо готовились к зиме. Трудники возили с пожней душистое сено, ссыпали в закрома ячмень и жито. Один за одним подъезжали к воротам возы с сеном. У забора громоздились поленницы березовых дров. В ушах стоял неумолчный визг звонких пил, на многих козлах бабы пилили толстые поленья, мужики с уханьем тюкали топорами.
Отложив все работы, белицы под присмотром инокинь ходили в лес по грибы и ягоды. Старцы ловили в озере рыбу и заготовляли ее впрок.
Еще прошел день. Солнышко близилось к закату. В скотный двор пастухи пригнали стадо. Коровы шли медленно, отяжелевшие на тучном пастбище. Вернулись из леса девушки-белицы, возбужденные, проголодавшиеся. За плечами у каждой крошни[15]15
Корзины.
[Закрыть] с грибами и ягодами. Словно шумливая стайка воробышков, разлетелись по горницам умыться и переодеться к трапезе.
Наталья любила по вечерам заглядывать на скотный двор – там было все знакомо и просто. Коровы гулко топтались в стойлах и хрустели сеном. Пахло навозом и парным молоком. Так и сегодня, потрапезовав, она пробралась в хлев.
– Прасковьюшка, – тихо позвала девушка.
– Здесь я, – откликнулся звонкий девичий голос. Сирота Прасковья Хомякова попала в скит обманом, как и Наташа, по злому умыслу своего дяди. Задумав отобрать наследство у сироты, дядя-опекун подкупил игуменью, взяв с нее обещание навсегда оставить в скиту Прасковью. Девушку держали в черном теле, морили голодом, ставили на самые тяжелые работы, стараясь сделать ее жизнь невыносимой. Каждодневно большуха изводила ее разговорами об иночестве, расхваливая чистоту святой жизни. Но Прасковья не поддавалась. На все увещевания она либо молчала, склонив голову, либо упрямо отвечала отказом. Многие тысячи покаянных поклонов отбила девушка, неделями не выходила из темного чулана.
Но Прасковья Хомякова на редкость крепкая и здоровая девушка. Высокая, краснолицая, с необъятной грудью и широкой спиной, она играючи управлялась с тяжелой работой и легко переносила все лишения.
– Славно в лесу было? – спросила Прасковья, разгребая вилами навоз.
– Хорошо, Прасковьюшка, а сколь грибов, ягод!.. Ну, а ты как? – осеклась Наталья, заметив грусть на лице подружки.
– Тяжко, Наташа, ой как тяжко, – жаловалась девушка. – Всю душу вымотали чертовы угодницы… Сбегу, как бог свят, сбегу. – Губы у нее чуть заметно вздрагивали, словно вот-вот заплачет. – Седни, – вдруг вспомнив, встрепенулась она, – иду я у хлева задами, там погреб пристроен. Живет в погребе мужик, головою скорбен.
– Знаю, – наклонила голову Наталья, – двумя замками закрыт, в окне решетка… Давай, Прасковьюшка на сеновал залезем.
Девушки забрались наверх, на свежее душистое сено.
– Иду я, – продолжала Прасковья, – слышу, будто плачет кто-то, да так жалобно, славно младенец. Подошла я к оконцу, гляжу, мужик. Лицо бледнехонько, зарос волосьем, словно леший, глаза, как у волка, горят… Встала я как вкопанная, ногой двинуть не могу, не могу глаз от него отвести. А он молвит: «Не бойся, подойди, девонька! Безвинен, пожалей… выслушай…» Тут я опомнилась да как брошусь в бег. Посейчас вспомнить страшно.
Наталья задумалась: ее взволновал рассказ подружки.
– А что, Прасковьюшка, – накручивая на палец сухую травинку, сказала она, – может, и правда вины на нем нет? Матери да отцы святые куда как хитры. Божье у них на языке только, а на уме… мирское да скоромное. Послушать бы тебе мужика… – Голос у нее оборвался.
– Страшный он.
– От жизни анафемской страшен. Пойдем, Прасковьюшка, – вдруг решила Наталья, – пойдем к нему.
– Боязно мне, узнает большуха – ощетинится, тогда…
– Ништо. Молчи да ухо востро держи. Подружки сползли в хлев и, таясь, стали пробираться к клетушке узника.
– Девоньки, – услышали они, приблизясь к пещере, тихий умоляющий голос. Сквозь железные прутья решетки на них глядело страшное волосатое лицо. – Подойдите к окну, девоньки, продолжал умолять узник. – Здоров я, умом светел. Безвинно сижу. Старцы ради корысти своей заточили.
Наталья смело подошла к окошку.
Три года сижу, помоги бежать. Нет больше моего терпенья, спаси. – Мужик заплакал.
– Как я спасу тебя, сама в скиту поневоле. – В голосе девушки прозвучало отчаяние.
– Напилок бы, девонька, чепи, решетку распилю, тогда никто не удержит. Дорога мне ведома, в лесах жизнь прожил.
Наталью вдруг осенила мысль. Она приблизила свое лицо вплотную к решетке.
– Я достану напилок. Вместе бежим. Давно сама собираюсь, да боюсь в болоте сгибнуть. Согласен? – Она заглянула прямо в глаза узнику.
Глаза мужика зажглись надеждой.
– Бежим, девонька, родная… – Слова перешли в бессвязный шепот, снова раздались всхлипывания.
На мостках послышались чьи-то шаги. Девушки прянули от погреба и мгновенно скрылись. Назавтра Наталья раскопала в чулане, где хранился кузнечный инструмент, три напилка и в тот же день передала мужику.
Через неделю, как было условлено, Наташа снова подошла к окошку.
– Готово, девонька, – радостно сказал узник. – И чепь и решета порушил. Завтра уйдем в полночь.
Глава восемнадцатая
ЧУЖИЕ ПАРУСА
В капитанской каюте царил полумрак. Слабый свет, пробиваясь сквозь бархатные занавески окон, тускло отсвечивал на стенах полированного красного дерева. Оставленная открытой дверца настенного шкафчика назойливо скрипела, поворачиваясь в такт покачиванию брига. Недопитая бутылка рома и круглый тяжелый стакан с шумом катались по каюте.
Из угла, где виднелась койка, полузакрытая зелеными шторками, раздавался протяжный громкий храп. Томас Браун спал не раздеваясь Его грузное тело шевелилось, сползая то в одну, то в другую сторону.
Снаружи послышался шум. В каюту глухо донеслись слова команды. По палубе затопали тяжелые башмаки. Бриг, вздрогнув, стал валиться на борт.
Караул! Грабят! Черная падаль! Негры! – раздался пронзительный крик.
Шкипер вздрогнул и заворочался. Очнувшись, он свесил с койки толстые короткие ноги. Воспаленными глазами бессмысленно уставился на большую карту западного берега Африки, висевшую напротив. Потом его взгляд упал на модель небольшого старинного судна, потом на дверь… Браун не мог понять, почему он проснулся.
– Черная падаль! Негры! – повторил тот же голос.
– Проклятая птица, – произнес капитан. Теперь он окончательно пришел в себя и, зевая, потирал заплывшие глаза.
– Черная падаль! Деньги! Негры! – продолжал выкрикивать зеленый попугай, висевший под потолком в большой позолоченной клетке.
– Замолчи, Марго! Вот глупая птица! – заорал Браун.
Но в его грубом голосе слышались нежные нотки. Попугай плавал с Брауном скоро тридцать лет и был единственным живым существом, к которому привязался старый шкипер.
В дверь постучали. Стук повторился; видимо, стучавший хотел доложить о чем-то важном: на корабле Томаса Брауна не было в обычае беспокоить капитана по пустякам. Из глотки шкипера вырвался сердитый звук, который с трудом можно было принять за разрешение войти… В дверях показалась встревоженная физиономия штурмана Вилли.
– Простите, сэр! На горизонте паруса. Я повернул навстречу судну. Русское судно, сэр! Идет курсом на Землю Короля Якова. Как прикажете поступить дальше, сэр?
Штурману Вилли долго пришлось ждать ответа.
Старый Браун не раз участвовал в морских сражениях. Много кораблей разных наций потопил он на своем веку, еще больше загубил человеческих жизней… Но сейчас он чувствовал себя неспокойно. Если раньше он видел в противнике прямого соперника в погоне за наживой, то теперь было не так. Браун не собирался соперничать в морских промыслах с русскими мореходами.
Подавив внезапно обуявшую его робость, он сполз с койки, натянул ботфорты и, напялив на голову помятую шляпу, вышел на палубу. Молча взял из рук штурмана длинную подзорную трубу и долго водил по горизонту, стараясь трясущимися руками направить ее на замеченный парус.
– Да, парус. Это русская лодья. Проклятье, я вижу еще парус… второй… третий… Да тут целый флот!
Вся команда брига вылезла на палубу. Вид у матросов был необычный. Одеты все были по-разному, кое-как – рваные и грязные. Многие из них были по-бабьи повязаны платками. Матросы брига «Два ангела» были самыми настоящими пиратами – охотниками за рабами. Матросы с любопытством наблюдали за парусами, появившимися на горизонте.
Шкипер с презрением взглянул на свою команду.
– Джентльмены! – сказал он. – Десять гиней получит каждый из вас за потопленное русское судно. Половина груза – ваша добыча… Русские суда не вооружены. Это жалкие посудины, идущие на промысел морского зверя.
Лодьи приближались. Попутный свежий ветерок надувал поморские паруса. Лодьи шли, переваливаясь с волны на волну, разбивая гребни своим крепким носом.
– Сэр, я насчитал уже двадцать судов! – перебил штурман Вилли. – Какие приказания, сэр?
– Приказания… – захрипел шкипер. – Пусть они пройдут подальше, за всеми не угонишься. Но последнее судно будет нашей добычей. Для него мы устроим маленький маскарад. Хе-хе-хе, рыбка клюнет на приманку. Хе-хе-хе!
Русские суда одно за другим прошли мимо брига и стали скрываться из виду. Осталось одно запоздавшее. Его-то и наметил Браун своей жертвой.
– С палубы все долой, – снова раздался его голос, – наверху остаться только двоим, будете просить у русских хлеба. Эй, Джим! Останься и ты, Майкл! Сделайте рожи попостнее, будто давно не жрали, – командовал шкипер, продолжая рассматривать в трубу русскую лодью. – Боцман, будь с ребятами наготове. По сигналу – наверх!
– Эге-ге, на мачтах золоченые кресты, – ухмыляясь, сказал он, опустив трубу, – удача. За этот корабль мы получим двойную цену. Стоит постараться, Вилли, – обернулся он к своему помощнику.
С этими словами Браун стал размахивать большой белой тряпкой.
Лодья «Святой Варлаам» старалась догнать остальные русские суда, ушедшие далеко вперед. Не потому отстал «Святой Варлаам», что был тихоходней других, нет, он мог поспорить в скорости со многими судами в Архангельске. Лодью задержал случай. Любимец команды, пес Дружок, резвясь на палубе, свалился за борт. Исчезновение корабельного пса было замечено не сразу, и когда кормщик Иван Химков вышел на палубу, жалобный лай собачонки был едва слышен где-то далеко в волнах. Пока возились с парусом, пока спустили карбас, пока он добрался до собачонки и вернулся обратно к судну, прошло немало времени. Лодьи ушли далеко вперед.
Обласкав перепуганную, дрожащую собачонку, Химков осматривал горизонт. Лодейных парусов он уже не увидел, зато немного к югу показалось незнакомое судно.
– Смотри, Егорий, чьи паруса, не признаешь? – показывал кормщик на далекое судно.
– Чужие паруса, Иван Алексеевич, – ответил носошник, – заморское судно. – Он помолчал, всматриваясь в приближающийся корабль. – К нам повернул. С чего бы?
Прошло немного времени. Корабль быстро приближался.
– Иван Алексеевич, да ведь это аглицкий корабль, в Архангельске стоял, – признал Ченцов. – Корпус зеленью покрыт… две мачты… Он и есть… Шкипер с него все дни пьяный ходил.
Несколько минут все молча рассматривали подходящий бриг. Вдруг Ченцов удивленно вскрикнул:
– Галанский флаг, смотри, Иван Алексеевич! Ведь сам видел, аглицкий флаг был. С командой говорил – англичане все… Смотри, Лексеич, смотри, машут белым – видно, помощи просят.
– Твоя правда, Егор Петрович. Раз просят, надо помочь. Ребята, роняй паруса! – крикнул промышленникам Химков и налег грудью на румпель, поворачивая лодью навстречу иноземному судну.
– Иван Алексеевич, – обратился подкормщик. – Прикажи ребятам карбас готовить. А еще дозволь, Иван Алексеевич, Федюшку, внучка моего, на карбас, – спросил старик у кормщика, – пусть привыкает, впервой на море-то… в охоту ему.
– Пусть идет малец, – кивнул головой кормщик. – Посмотрим, каков моряк в деле.
– Федюшка, слазь быстрея! – крикнул Ченцов сидящему на рее мальчугану.
Рыжий веснушчатый Федька, мальчуган лет десяти, узнав, что идет на карбасе, раскраснелся от радости и побежал помогать мореходам.
– Ну, Егор Петрович, – сказал кормщик, – тебе ехать, ты по-аглицки понять и обсказать умеешь…
С брига хорошо был виден народ, появившийся на палубе лодьи; кто-то ответил, замахал руками – видно, сигнал бедствия был замечен. Нос русского судна стал поворачивать к бригу. На палубу упали паруса передней и задней мачты. Несколько человек спускали карбас. Слышны были веселые голоса дружно работающих людей.
Браун, не переставая, размахивал тряпкой, выкрикивал по-русски:
– Вода нету, хлеб нету!
С брига видели, как в прыгающий на зыби карбас погрузили бочку и несколько больших мешков, спрыгнули люди в высоких сапогах, вязаных фуфайках, и карбас под дружными ударами четырех пар весел птицей полетел к бригу.
Браун бросил тряпку и обернулся.
– Вилли, – тихо сказал он, – приготовь пушки с левого борта, заряди картечью… Эй, на руле! Держать на судно!..
Карбас подошел к бригу. Молодой белобрысый парень с курчавой бородкой ловко взобрался на борт и быстро привязал карбас за стойку на палубе. Браун невольно залюбовался его ловкими движениями. Вслед за первым помором стали взбираться и остальные. Они вытащили мешки с хлебом и объемистый бочонок с водой.
Ченцов, седой старик с открытым добродушным лицом, подошел к Брауну.
– Что с вами, капитан? – обратился он к шкиперу, медленно подбирая английские слова. – У вас не хватило запасов? Но я видел совсем недавно ваше судно в Архангельске. Да, бриг «Два ангела», зеленый корпус… Мы доставили вам хлеб и воду.
Браун был так ошеломлен английской речью, что в первую минуту потерялся.
– Спасибо, сэр! Да, мне необходимы припасы, – неожиданно для самого себя ответил он. Но в то же мгновение глаза его злобно сверкнули. – Куда идет ваше судно?
– На Грумант, капитан.
– Оно не дойдет до Груманта! – Браун с ругательством выхватил из-за пояса пистолет и в упор выстрелил в русского морехода. – Сигнал, Вилли! – заревел он.
Раздался удар в гонг. Из кубрика на палубу выскочили вооруженные головорезы и бросились на поморов. Произошел неравный бой. Мореходы, выхватив ножи, яростно сопротивлялись. Но что могли сделать поморские ножи против огнестрельного оружия? Пираты попросту расстреляли русских из мушкетов.
Зуек Федюшка, стоявший рядом с дедом, как кошка, бросился на шкипера, но второй выстрел Томаса Брауна размозжил мальчику голову.
Бриг в это время был совсем близко от лодьи «Святой Варлаам». Примерившись глазом, шкипер рявкнул:
– Картечью по судну! Сбивай паруса! Грянули выстрелы. Картечь свалила трех из оставшихся на судне мореходов. С брига «Два ангела» на лодью разом прыгнуло несколько матросов. Одного из них огромный помор разрубил почти пополам ударом топора. Другой матрос упал, сраженный поморской спицей. Еще двух зверобои уложили выстрелами из пищалей. На этом сражение кончилось.
Как вороны, слетелись пираты на палубу лодьи и мигом обшарили все судно. Груз оказался небогатый. Это был запас харчей на долгую зимовку и промысловое снаряжение. Разбойники не брезговали ничем. Нагруженный добычей бриг медленно отошел от лодьи. А на поморское судно матросы привезли большой бочонок пороху, с хохотом подожгли фитиль и бросились наутек, бешено загребая веслами. Громыхнул взрыв; с хрустом ломая палубу, свалилась грот-мачта, лодья накренилась и села на корму.
– Плохо положили порох, сволочи, – ругался шкипер, – такая огромная бочка, а судно не тонет. Дьявол его раздери! Порох подмочили, сукины дети!
– Бочку в надежном месте положили, сэр! – ответил боцман. – Порох сухой, это русское судно оказалось очень крепким, сэр!
– Проклятье, – рассвирепел еще больше Браун, – хорошее английское судно потонет и от половины этой порции пороху. Эй, Вилли, прошей ему борт ядром! Потяжелее!
Грянул выстрел, еще один… На борту «Святого Варлаама» зияли дыры, но он не хотел тонуть.
– Вот вам путь на Грумант! – хрипел Томас Браун. – Довольно, Вилли, слишком много пороху на одно судно. Эй, там, – крикнул он в рупор, – прибавить парусов! На руле – два румба вправо!
Почти тотчас раздался свист дудки и рев боцмана:
– Пошел все наверх прибавлять парусов! Матросы бросились по своим местам. Заскрипели блоки, захлопали паруса.
Нос брига послушно покатился вправо. Томас Браун долго стоял на шканцах и грозно хмурил брови.
Многое казалось ему непонятным: русские моряки отчаянно защищались, никто не просил пощады, не сдался в плен. Русский корабль и тот не хотел тонуть, несмотря на все усилия шкипера. Даже мальчишка бросился на него. Шкипер запомнил его глаза – гневные, отчаянные…
«Если бы я не размозжил ему череп, он, как бульдог, вцепился бы в меня», – оправдывался перед собой пират, невольно вспоминая рыжие вихры и две крупные слезинки, застывшие в уголках детских глаз.
– Когда будем хоронить убитых, сэр? – прервал размышления Брауна подошедший боцман. – Все готово, трупы зашиты в парусину, груз привязан, доска у борта, сэр!
– Что, хоронить? Кого? – не понял сразу шкипер, но тут же спохватился: – Сколько их, Чарлз?
– Четверо, сэр! Пятый скоро отдаст богу душу, сэр!
– Зови людей на похороны, нечего держать падаль на судне.
Через пять минут Браун появился на палубе с молитвенником в руках.
На широкой длинной доске, лежащей одним концом на фальшборте, белела фигура, зашитая в саван. К ногам был привязан груз – тяжелое чугунное ядро. Вокруг молчаливо толпилась вся команда брига.
Подойдя к мертвому, Томас Браун открыл молитвенник и пробормотал что-то невнятное.
– Да успокоит бог его грешную душу, – громко закончил он короткую панихиду.
Двое матросов приподняли доску за один край, и зашитое в парусину тело, скользнув по гладкой доске, шлепнулось в воду… Четыре раза бормотал Браун молитвы, четыре раза падали мертвые тела в море.
Закончив, шкипер сунул молитвенник под мышку и важно удалился в свою каюту. Подавленные мрачным зрелищем, не проронив ни единого слова, ушли матросы в кубрик.
Закрыв за собой дверь, шкипер тут же хлебнул спиртного.
«Четверо убитых, – появились в голове обидные мысли. – Это слишком много для безоружного русского судна». Томас Браун в ярости стал ходить по каюте.
– Проклятый Бак, – припомнил он разговор в Архангельске. – «Вы возьмете их голыми руками», – насмешливо повторил шкипер слова английского купца. – Дьявол тебя раздери, попробовал бы сам брать их голыми руками…
– Черная падаль! Негры! – послышалось из клетки.
– Молчать! – замахнулся на попугая Браун.
Грозен был хозяйский голос, птица замолкла и, нахохлившись, уселась на жердочке.
Томас Браун тяжело опустился в кресло и задымил трубкой. Понемногу он стал успокаиваться.
«В конце концов, – рассуждал он, – я ничего не потерял. Убитые матросы мне не стоят ни пенса. Пусть они сами заботятся о своих шкурах… В первом порту я найду новых. Зато больше золотых гиней сохранится в моем кармане».
Двое суток крейсировал бриг по просторам Студеного моря. Томас Браун не выходил на палубу. Уединившись в каюте, он валялся пьяный на койке или, вынув из тайника заветную шкатулку, долго звенел золотыми монетами.
Но вот погода изменилась.
Ухо старого шкипера стало улавливать тревожные звуки, доносящиеся снаружи. Явственно был слышен свист ветра, усилилось скрипение мачт, то и дело раздавались всплески воды, падающей на палубу. Качка заметно усилилась. Мощный удар волны потряс корпус брига. Бурными потоками зашумела вода. Томас Браун вскочил на ноги. Чтобы удержать равновесие, ему пришлось схватиться за круглый столик, привинченный к полу.
– Проклятье! – выругался Браун. – Ну и погодка в этом море! – Он открыл дверь и, пошатываясь, вышел на палубу.
Студеное море вздыбилось. Грозные седые волны с шумом наступали на бриг, захлестывая палубу. Порывистый ветер рвал паруса и завывал в снастях, мачты зловеще гнулись, трещали. Несмотря на штормовой ветер, бриг нес все паруса. Браун посмотрел на шканцы. К битеньгам у штурвала привязаны два матроса в непромокаемой одежде. Они крепко держат в руках концы от румпель-талей. Третий, долговязый Майкл, ворочает рулевое колесо.
– Направо борт! – орет он. – Налево борт! Матросы торопливо выбирают то один, то другой конец талей.
Впившись в поручни, на рубке стоял штурман.
– Вилли, – взревел шкипер, – всех наверх, паруса долой, оставить только стаксели! Дьявол тебя раздери. – Он сплюнул попавшие в рот соленые брызги.
Штурман что-то кричал в ответ, показывая то на паруса, то на нос брига, но порывистый ветер относил в сторону слова.
С трудом пересиливая порывы ветра, цепко хватаясь за все, что попадало под руки, Браун поднялся к штурману.
– В чем дело, Вилли? – Он грозно выпучил глаза на своего помощника.
– Команда не хочет выходить наверх, сэр! Боцман пошел за матросами, сэр, и не возвратился. Боюсь, не случилось ли с ним несчастья, сэр, – испуганно докладывал штурман.
Не слушая больше, Браун ринулся вниз. Большими прыжками, не обращая внимания на потоки холодной воды, он мигом проскочил палубу и загрохотал вниз в матросский кубрик.
– Наверх, скоты! – заревел Браун. – Все наверх убирать паруса, дьявол вас раздери! Или вы хотите кормить рыб?! – С пеной на губах он топал ногами, осыпая всех проклятиями.
– Капитан, – прервал злобные выкрики шкипера худой высокий матрос и, отделившись от остальных, стал медленно приближаться к Брауну.
– На месте, мерзавец… – Браун со свистом втянул воздух. – Стоять на месте, не то я продырявлю твою пустую башку! – Он выхватил пистолет.
Матрос остановился. По его угрюмому, изуродованному оспой лицу проползла усмешка.
– Спрячьте ваше оружие, сэр. Когда разговаривают свои люди, оно неуместно. Вы забыли, что мы не в Африке. Мы решили, – повысил голос матрос, – объявить вам, сэр, что не хотим кормить рыб, а поэтому не согласны нападать на суда русских. Четверо убитых в одной схватке. Джо Паркер умирает от страшной раны… Сэр, просим высадить нас в любом порту… Мы не хотим умирать. Это наше последнее слово, сэр!
Шкипер обвел глазами тесный кубрик. Матросы, сбившись в кучу, хмуро слушали, что говорит их вожак. В то же время двадцать пар глаз внимательно следили за каждым движением капитана, напоминавшего хищного зверя, попавшего в ловушку.
Томас Браун понял: настаивать опасно. Нужно смириться. Браун знал много случаев, когда команда по-своему расправлялась с капитаном. Затаив злобу, он спрятал пистолет.
– Что ж, ребята, в порт так в порт. Я, пожалуй, согласен с вами. С русскими ладить трудно. Мне тоже не нравится эта затея. Вот мое условие: еще одно русское судно пустим на дно, и тогда в порт. А сейчас, – и, повысив голос, шкипер скомандовал, – пошел все наверх!
Переглянувшись, матросы нехотя стали подниматься по трапу. Кубрик опустел. На палубе, заглушая свист ветра, гремел голос боцмана. Слышались громкие возгласы матросов, топотня, ругань.
Шкипер прислушался. Наверху все шло как надо. Тогда он подошел к узкой деревянной койке, где умирал Джо Паркер. Хриплое дыхание вырывалось из груди раненого, кровавая пена запеклась на губах. Глаза были закрыты.
– Эй, Джо! – окликнул умирающего шкипер. Он нагнулся, прислушиваясь к прерывистому дыханию.
На мгновение глаза матроса открылись. Узнав капитана, он пересилил боль и приподнялся, упираясь руками в борта койки.
Умирающий с ненавистью, широко раскрытыми глазами смотрел на Томаса Брауна. Он хотел что-то сказать, но, задыхаясь, только беззвучно шевелил губами. Собравшись с силами, матрос плюнул в лицо шкипера и тяжело свалился на жесткий матрац. Шкипер вытащил из кармана платок.








