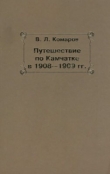Текст книги "Подлипки (Записки Владимира Ладнева)"
Автор книги: Константин Леонтьев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
К грусти одиночества, к страху наказания за гробом, к надежде на помощь в жизни примешивались и другие чувства. С одной стороны, память о картинах детства жила неразрывно с молитвами и надеждами; в воображении я видел тетушкин кивот с лампадой... Как вспомнишь об нем, о ней самой, о ее спальне, о коврике, о беззаботном счастье, так и потянет душу и домой, и на небо! Когда случалось мне уйти прежде срока из церкви или рассыпать на пол крошки просфоры, я казался сам себе грубым оскорбителем чего-то невинного и снисходительного. Любил я также иногда читать священную историю. Когда, под конец ветхого завета, становилось, в последних главах книжки, как-то пусто и мирно, и строгие римляне были уже тут, чувство чуть слышного, едва заметного, сладкого ожидания шевелилось во мне. Заря лучшей жизни как будто ждала весь мiр... И не было еще света, а было грустно и легко. Вот родилось бедное дитя в Вифлееме... Как хорошо в этих сухих пустынях, где растут только пальмы и люди ходят босые в легких одеждах! Вот уже и Петр плакал ночью, когда пел петух, и я плакал с ним; все стемнело – камни расселись, мертвые встали из гроба и пошли в город, раздралась завеса во храме... Передо мной картинка... Христос является на минуту двум ученикам, шедшим в Эммаус. Какой-нибудь бедный городок этот Эммаус; трое небольших людей спешат из какой-то долины; на них развевается платье; с боку скалы, а вдали куча мелких домов с плоскими крышами... Как опустело все! Точно после обеда, когда уже не жарко, войдешь в большой зеленый сад, которым никто не пользуется, и где только тени деревьев становятся все длиннее и длиннее... Как будто самый близкий человек уехал из дому и из сада этого, по которому он мог бы гулять, если бы хотел. И уже начинается что-то новое, чуть брезжится... А что? И тогда не умел я сказать, не умею и теперь.
Мелькнет такая мысль, явится чувство на миг – и опять влачатся простые дни: классы, прогулки с Ревелье, обед, за которым и дядя, и тетка, и я просидим почти все время молча. К несчастью, я не мог даже скрыть своей набожности, и слова Александры Никитишны: "что это Владим1р наш в святость ударился?" способны были одни уже запятнать прелесть моих тайных ощущений. В 17 лет наконец бежал я от дяди в Подлипки, и главной причиной моего побега было что-то вроде любви.
X К этому времени я уже решился быть статским. Самый гражданский костюм стал мне нравиться. Я слил в одно смутное представление множество образов, особенно французских: Родольфа "Парижских тайн", каких-то умных и смелых людей, управляющих на Западе, в модных фраках с бакенбардами или бородами, с сияющим бельем, Байрона, Онегина, даже порочного, но непобедимого Сципиона из "Мартына-найденыша", артистов в острых шляпах, с длинными волосами, смелых студентов в широких клетчатых панталонах... Все это составило одну величественную, переливающуюся из образа в образ идею; все это шептало мне о чем-то высшем, чего я тогда назвать не умел и в чем позднее узнал гения свободной гражданственности, новой мысли и изящных нравов, гения, открывавшего себе дорогу в тщеславное и неопытное сердце одеждами, прическами и всеми соблазнительными внешними правами на общественный успех. Все это совершалось постепенно в течение четырех-пяти лет; все было неясно, отрывочно, не сознано... Сначала, только что приехав, я любил брать у дяди большой портфель с раскрашенными рисунками всех гвардейских мундиров, переводил их старательно на стекле, тушевал, разрисовывал и думал долго тогда: кто счастливее – гусар ли на серой лошади, в красном ментике и голубых брюках, или этот кавалергард в белом колете с
красным воротником, или конный гренадер, у которого развевается сзади пунцовый язык на мохнатом кивере, когда он несется во весь опор? Когда дядя, увидав эти рисунки, сказал мне, что "о мундире я мечтаю напрасно", я просто ужаснулся. Не зная, что сделать, чтоб смягчить его и доказать, как он не понимает моего призвания, я силился заплакать. Но дядя снисходительно спросил, отчего мне так противна статская служба.
Я долго боялся сказать настоящую свою мысль, но наконец преодолел страх.
– На статских в свете, mon oncle, не смотрят, даже дамы и те... Дядя засмеялся и перебил меня:
– Каков ловелас! в четырнадцать лет! Какой же ты свет-то видел? Ты видел свет плохой. Ныньче совсем не то... И если б мне пришлось начинать теперь... Тут дядя как бы с грустью кивнул головой, потом дружески взял меня за ухо и прибавил:
– Ничего, не плачь. Что за баба! Будешь образованный человек. А я тебе подарю тогда брильянтовые запонки на рубашку.
Запонки и ободрение дяди успокоили меня, и через сколько-то времени, не помню, уже окрепший карандаш мой чертил эскизы нового рода из головы. Вот дуэль. Молодой человек безбородый, кроткий, с длинными волосами падает на руки секунданта; он ранен в грудь шпагой соперника. Сопернику уже тридцать лет (я смотрел на этот возраст враждебно); у него густые бакенбарды и длинные усы. Женщина в шляпе стоит на коленях... Там плантации, лианы, пальмы и бананы. Молодая американка вышла замуж за прекрасного индийца; у нее уже дети. Там чорная маска; все юноши торжествуют. Романы в эскизах на полулистах длятся-длятся без конца; мне жаль покинуть моих героев. И они все французы, англичане, американцы, все во фраках, в жакетках, в пальто, с бичами; русская жизнь не представила мне тогда ничего приблизительного; мужчины, которые по четвергам собирались у дяди играть в карты, возмущали меня своей прозаичностью, ухарством или тупостью. Насилу-насилу удалось мне встретить на одном вечере двух молодых людей в белых жилетах и таких фраках, какие мне были нужны. Я упивался своими героями, упивался и женщинами, упивался сам собою. Однажды весной сидел я под цветущим кустом черемухи и с бешеным восторгом читал Гомера. Когда я дошел до того места, где Ахиллес, оставив у себя на ночь старика Фенокса, ложится спать с наложницей, а около Патрокла тоже возлегает девушка тонкая станом, я бросил книгу.
Для чего эта весна? Зачем эта черемуха в цвету, если нет настоящей жизни, нет подруги молодой, сверстницы Виргинии, или Manon Lescaut? Я и на то и на другое согласен. А лучше всего и то и другое вместе. Но не брак ли это? Да, если б жениться теперь втайне, встречаться здесь под черемухой, любить друг друга до исступленья, до бешенства, до боли... Потом говорить, читать... вместе. А то что брак в тридцать или тридцать пять лет? Как это пошло, обыкновенно! И что хорошего находят девушки в этих загрубелых лицах, в этих изношенных сердцах?.. Неизящное, простое не соблазняло меня. О, нет! такого я боялся, хотя уже давно в душе развязал клятву о безбрачии до брака. Была у дяди в доме высокая, белокурая девушка Лена (я после узнал, что тетка имела право не любить ее); эта Лена, не знаю почему, любила шутить со мной. Так как внизу было много пустых комнат, и она жила недалеко от меня, то нам случалось встречаться нередко. Она бросалась за мной, загоняла в угол, смеялась, цаловала, щипала меня; она была сильнее меня, и я с трудом от нее отделывался. Я не решался ни ответить ей грубо, ни оттолкнуть ее сильно, потому что здесь дорожил всяким вниманием, всякой лаской, а она готова была всегда услужить мне с добродушием и веселостью. Но я смущался и избегал ее, потому что она напоминала мне – годами ли своими, разговором ли, или ростом и дородством – непостижимые по своей грубости грехи взрослых. Нет, не того мне хотелось. Я желал бы найти милую сверстницу, невинную, чистую, страстную, как я, стыдливую для всех, кроме меня; чтоб она, в локонах и фартучке, с книжкой в руке, гуляла где-нибудь в лесной стороне под липами, около старой колокольни, поросшей мохом.
Вполне такой я не нашел, но встретил Людмилу Салаеву, дочь одного советника, и убедился на время, что я не хуже Онегина, потому что она сделала первый шаг сама.
Советника дядя любил и звал его Фабием Кунктатором за то, что он очень долго обдумывал ходы в преферансе. Однажды он завез меня случайно к Салаевым, и тут я в первый раз увидал Людмилу. Она еще не носила длинных платьев и стриглась в кружок. Такая прическа доставляла ей случай очень кстати взмахивать головой, и при этом движении голубые, немного выпуклые глаза ее взглядывали искоса и вниз как нельзя лукавее. Она сама заговорила со мной в зале, села на стол, около которого я стоял, и спросила, люблю ли я театр. Я отвечал, что люблю, но бываю в нем редко.
– Как это можно редко бывать! Театр... это блаженство! Мстиславского трагика знаете?
Но тут гувернантка отозвала ее. Немного погодя нас очень сблизил детский маскарад, который дал губернатор для меньшой своей дочери. Советник упросил дядю отпустить меня, и дядя не только отпустил, но даже дал денег на костюм. Я знал, что я буду в паре с Людмилой, и мне хотелось, чтоб нас одели Гамлетом и Офелией. Я предлагал надеть на Людмилу белое атласное платье со шлейфом, украсить ее голову венком из белых роз, а сам хотел быть весь в чорном бархате, в ' берете с длинным пером, с золотою цепью на шее. На такую одежду недоставало дядиных денег, и замужняя дочь советника, которая заведывала всем, сказала, что маленькая Людмила со шлейфом будет точно мартышка. Тогда решили ее одеть Розиной, а меня Фигаро; костюмы вышли очень хороши. Вязаные, красные с золотом колпаки, ее короткая юбка с чорными кружевами, мои атласные панталоны и бархатная куртка, перчатки, духи, платки наши – все было великолепно. Когда мы вошли под руку в гостиную, где ждало нас семейство советника, все вскочили и начали хвалить нас. Отец обнял дочь и посадил с осторожностью, любуясь ею, к себе на колени, а замужняя сестра Людмилы начала цаловать меня, называя персиком и настоящим южным смуглым красавцем.
– А он будет со временем иметь успех, – сказала она, обращаясь к отцу, – у него вся наружность как у героя романа. Посмотрите, папа, какие у него чорные волосы и огромные чорные глаза!
– Еще бы! – отвечал отец, – держи ухо востро! Каково мне было это слышать? Я не могу уже теперь
ясно представить себе моего блаженства. Ожидание торжества, гордость, какие-то страстные движения к Розине, карета, в которую мы сели, ночь, мороз и освещенный дом губернатора, наше вступление в залу, хвалебные восклицания старших, кучи гимназистов, которые смотрели с почтением и вниманием на меня, когда я, заложив за жилет руку в палевой перчатке и напрягая икры, проходил мимо них... Вот как была полна жизнь в этот вечер!
Первую кадриль я танцовал с Розиной; вторую с меньшой дочерью губернатора, которая была слегка коса, но в высшей степени грациозна и миловидна; потом с старшей ее сестрой, мазурку опять с Розиной. В разговорах я был небрежен и оригинально-насмешлив, отчасти вспоминая манеру брата Николая.
– Посмотрите, – говорил я, – как этот путейский офицер похож на орангутанга.
– Quelle idee!
– А кто эта девица в платье небесного цвета? Какие У нее сонные глаза...
– Это моя кузина.
– Ah, pardon! Как эти гимназисты стучат сапогами! Я Давича думал, что это лошади взошли.
Когда мы с Людмилой пошли польку и делали pas de majeste, все аплодировали нам. Такого упоенья я долго не Испытывал после и едва ли испытаю еще раз в жизни. Весь следующий день я еще не мог прийти в себя и написал Марье Николаевне огромное письмо с раскрашенными виньетками собственной работы; главные костюмы были тут, и сам Фигаро. Я называл себя царем бала, а Людмилу царицей. Тетушка, говорят, прослезилась над этим письмом; недавно, перебирая ее бумаги, я нашел этот грустный образчик тщеславного саморастления и разорвал его в клочки. После этого вечера дядя стал позволять мне иногда по субботам ездить к Салаевым. XI
Александра Никитишна, замечая иногда, что я грущу, говорила:
– Э, да сегодня суббота! Ну, постой, я пойду попрошу у дяди для тебя сани. И всякий раз почти выпросит. Тогда-то торжество! Я обращаюсь в Онегина: Уж поздно. В сани он садится. Поди! поди! раздался крик. Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник... И воротник у меня даже был бобровый.
Где я найду такое гостеприимство? Любезности моей изумлялась вся семья. Там я становился до того разговорчив и развязен, что не уступал ни одному из взрослых молодых людей, служивших у нас в городе, в остроумии, насмешливости и говорил иногда такие французские фразы, что до сих пор, вспомнив об них, сгораю от стыда. Я даже помню некоторые из них, но не повторю их здесь ни за что. Кроме пятнадцатилетней Людмилы, у советника было еще трое детей: сын моих лет -Митя, очень грубый повеса, и две дочери: одна замужняя, другая девушка лет восемнадцати, довольно свежая и простенькая, по которой вздыхал высокий гимназист Юрьев.
Домом Салаевых управляла старшая, замужняя дочь, г-жа Дольская. Женщине этой было не более двадцати пяти лет; пять лет назад она пленила мужа своего, человека скромного, смирного и богатого, своим сценическим, истинно замечательным талантом. Все лучшие роли в благородных спектаклях исполняла она превосходно; роль Софьи Павловны, Кетли, молодой причудницы в пьесе "В людях ангел, не жена" всегда предлагались ей. Она самой бесцветной роли переводного водевиля умела придать жизнь и привлекательность. К тому времени, как я познакомился с нею, лицо ее уже поблекло; кожа на нем была красновата, под глазами были небольшие мешки, как у полнокровного отца, но сами глаза еще были хороши, и стан еще был гибок и строен. Держала она себя с ленивым достоинством, танцовала хорошо, умела из немногого создать красивый и своеобразный наряд, говорила об искусстве с живою, хотя и одностороннею ловкостью, потому что вкус ее воспитан был, конечно, только французскими пьесами. Девицей она была необыкновенно тонка, никогда не перетягивалась. Талья ее пережила свою славу, и муж ее хвалился, что он когда-то мог обхватывать ее обеими руками. Тот, кто полагает, что для семейного мира необходима строгая нравственность, очень удивился бы, узнав это семейство. Отец никогда не бранил дочерей, а гувернантку, смуглую и еще не старую девушку, ласкал как Дочь и звал ее Настей. Настя только изредка и робко пыталась останавливать меньших дочерей. Дольский содержал все семейство и почти не жил дома.
В красиво убранной и веселой гостиной была в углу плюшевая беседка, и там на эсе с г-жею Дольской поочередно сиживали сам губернатор, молодой прокурор с энергическим подбородком, приезжие из Петербурга, военные, жандармский полковник, белокурый двадцатилетний красавец инженер и даже, как говорят, одно время сам Петр Николаевич. Тетка Александра Никитишна не раз, возвращаясь откуда-нибудь, говорила при мне своим грубоватым языком:
– Эта противная Дольская опять губернатору вешается на шею. Давно ли, кажется, она с Федоровым возилась... какая дрянь!
– Такой умной, ловкой женщине все позволительно, – возражал ей иногда дядя.
– Не знаю, – ответит тетка и пойдет, бывало, наденет огромный платок и ходит "расхлебесьей", как выражалась про нее Марья Николаевна. Я, разумеется, предпочитал г-жу Дольскую дешевым добродетелям Александры Никитишны. Часто, когда после обеда отец Салаев спал, садились мы с Юрьевым около наших девиц и дельно беседовали с ними.
– Мне ваше лицо с первого взгляда понравилось, – говорила мне моя подруга, – оно неправильно, но очень приятно. Я тотчас почувствовала к вам дружбу. Конечно, это не страсть. Я знаю, что такое страсть... Вы видели актера Мстиславского в Гамлете? Как он дивно хорош!
– Да, он хорошо играет, – говорил я, жалея, зачем она ставит меня ниже этого взрослого Мстиславского.
– Хорошо? Только?.. Подите; я не хочу с вами говорить. И Людмила вставала; потом тотчас же возвращалась снова и продолжала:
– Если вы не будете говорить, что он дивно играет, я с вами навсегда поссорюсь...
– Не сердитесь; я буду говорить, что он дивно играет, – отвечал я без особого страха, потому что любил больше картину моих сношений, чем самую Людмилу.
– Ну, смотрите же. Я вам скажу, как я его любила. Когда раз мы уезжали из театра, он стал подсаживать нас в карету и взял меня за руку повыше локтя... У меня были короткие рукава. Знаете, что я вся задрожала! Я молчал обыкновенно, никак не понимая, что она находила в этом 40-летнем великане, который ревел на губернской сцене... Пока мы говорили с Людмилой, Юрьев и Маша сидели в углу и тоже шептались. Иногда по вечерам Дольская играла нам на фортепьяно, и мы танцевали. Я предпочитал всегда мою Людмилу, а Юрьев, почтительной рукой издалека обвивая полный стан Маши, опускал глаза и, улыбаясь, галопировал с другой стороны. Высокий, бледный, уже давно брившийся Юрьев казался платоническим мечтателем. Он судил о жизни по старым русским книжкам, и идеалом человека для него были Рославлев и Леонид г. Зотова. Когда взаимная помощь, которую и мы друг другу оказывали по сумеркам у Салаевых, сблизила нас, я узнал, что он боготворит женщину, но женщин боится.
– Они коварны, – говорил он и рассказывал мне об одном Владимiре и графине. Владимiр любил графиню страстно и безумно. Графиня любила тоже Владимiра, но изменила ему. Владимiр, затаив на время злобу, пришел ночью в ее роскошный будуар и раздавил над лицом ее стклянку с такой едкой жидкостью, что она уже никому не могла после этого нравиться. В другой раз он прочел мне свои стихи: Когда блеснет востока луч
И, грустный путь мой озаряя, Прогонит сонм зловещих туч,
К тебе тогда, о грудь младая! Я припаду, желаний полн .
О, прочь сомнения, тревоги! Средь холода житейских волн
Мы счастливы, как боги... И что прелестнее отрады -
Душа с душой слиясь тонуть .. Прочь, света гнусные преграды,
Прочь, терние замкнувши путь! Но жди еще в тоске бесплодной!
Минута счастья не близка, И голос разума холодный
Грозит тебе издалека. Я покровительственно хвалил стихи, и скромный гигант дал мне списать их; я тоже сочинил стихи для Людмилы на французском языке, и у меня остались в памяти только два стиха:
Та taille legere Comme une mince fougere...
Я пробовал читать их Юрьеву, но он сказал:
– Ничего нельзя понять; это не по-нашему, – потом, вздохнувши и взяв меня за руку, прибавил:
– Не женись, Володя, на француженке; у них все фальшивое – и душа и тело. Возьми лучше русскую, добрую. Господи, как подумаешь, какая это счастливая тебе достанется! А мы-то, мы-то...
– Отчего же, – возражал я, – и ты можешь нравиться женщинам. Надобно иметь только манеры. У тебя вовсе нет манер, но ты можешь их приобрести.
– Нет, уж без манер-то мы, благодаря Создателя, проживем! Людмила не всегда кокетничала; иногда делала она за меня переводы или немецкие спряжения и приготовляла красивую тетрадку из голландской бумаги, сшивая ее голубым шолком, так что мне оставалось только переписать и подать учителю. Я мог бы долго так блаженствовать, если б не увлекся и не вздумал обманывать дяди. Иногда не в субботу и не в праздник приходил я к Ревелье и уверял его, что дядя меня отпустил к Салаевым. Ревелье говорил, что ему нет до этого дела, puisque votre oncle est assez fou, pour autoriser la debauche; однако это скоро дошло до дяди; меня кликнули к нему в ту минуту, как я только разоделся впрах и хотел идти.
Дядя осмотрел меня с ног до головы.
– Что ты это думаешь, что ты, в самом деле, какой-нибудь денди? Ты этого, любезный мой, не воображай. Дурак дураком! Булавку еще вздумал в галстух втыкать! И где ты видел, чтоб порядочный человек стал носить бронзовые булавки? Пожалуйста, брат Владимiр, оставь подобный вздор. Посмотри на меня: я встаю в семь часов и не разгибаючи спины сижу над бумагами.
– Помилуй, Петр Николаич! – земетила тетка, – разве ты не знаешь, что он влюблен в Людмилу? Сама Дольская говорила мне об них...
– Что-о-о?
– Ах, ma tante, что вы это? Какой я влюблен; неужели бы я лучше ничего не нашел! Дядя презрительно засмеялся и встал.
– Каково? Браво! Да ты, я вижу, Дон Жуан! – кричал он, подступая ко мне, – а? говори, ты Дон Жуан?
Он смотрел мне прямо в глаза, точно смотрел на Терентия в день моего прибытия в его дом.
– Нет-с, я не Дон Жуан...
– Ну, как же нет! я теперь буду звать тебя Дон Жуан подлиповский, слышишь? А ходить туда и не смей. Ступай, денди, разденься. Булавки этой чтоб я не видал, Митрофан!
Целые полгода я не бывал у Салаевых. XII
К весне тетушка Александра Никитишна занемогла смертельно. Сначала она не выходила из комнаты и кашляла, а потом перестала вставать с постели. Дядя все свободное время посвящал ей, читал громко, ухаживал за ней и на меня не обращал почти внимания. Однажды, в добрую минуту, великим постом, он уступил мне свой билет в концерт. В зале дворянского собрания было довольно много народа, а я давно не выезжал никуда; глаза у меня разбежались – я заслушался музыки и не заметил сначала, что в трех шагах от меня сидели Салаевы. Обернулся... Людмила! В розовом кисейном платье, подросшая и созревшая, она сверкала глазами. Она навела на меня лорнет и улыбнулась. Я робко подошел к ней и объяснил, что не мог бывать, потому что... потому что...
– Оставим это, – сказала Людмила, играя лорнетом, – когда вы к нам будете?
– Право, я не знаю.
Дня через два пришел ко мне Юрьев и принес записку; я прочел в ней следующее: Я вас люблю; чего же боле? Что я могу еще сказать? Теперь, я знаю, в вашей воле Меня презреньем наказать.
Я спросил у Юрьева, знает ли он содержание записки; он отвечал, что не знает, что, отдавая, она сказала ему: "Надеюсь на ваше благородство". Я показал ему записку и не знал еще, радоваться ли мне или смеяться. Юрьев, кончив, грустно взглянул на меня и сказал, покачав головой:
– Зачем ты мне дал прочесть, Володя? Девочка любит тебя, а ты глумишься!
– Я ведь дал тебе только...
– Эх, Володя! Ветер, Володя! Больше ничего не сказал Юрьев об этом. Я решился ходить к ней тайно от дяди. Весна приближалась, и я уже не раз и не два, а три и уже более раз в неделю спешил спуститься с горы, где, на углу небольшой площадки, стоял, почти на конце города, трехэтажный купеческий дом и где свет из окон бельэтажа уже издали обещал мне блаженство.
Юрьев, напротив того, около этого времени поссорился с Машей и, несмотря на то, что его в доме принимали очень хорошо, несмотря на то, что сам старик Салаев звал его всегда "муж разума и чести", стал ходить к ним гораздо реже.
– Отчего тебя не видать? – спросил я его однажды на улице.
– Все это дребедень. Я хочу написать стихи с припевом: Дребедень, дребедень, Твержу целый я день.
– Неужели ты мог так скоро разлюбить? Любовь такое отрадное чувство...
– Не знаю, – отвечал Юрьев.
– А платок?
– Какой платок?
– Помнишь, ты сам мне рассказывал, что раз в сумерки ты стал перед ней на одно колено, а она заплакала и уронила платок. В это время кто-то вошел, ты встал, поднял платок и подал ей.
– Ну-с, это я, должно быть, для форсу вам сказал. Поди-ка с вами! Ведь вы, шутка, вице-губернаторский племянник... Надо ж вам понравиться. Причудливая Людмила теперь стала гораздо нежнее. Никто не препятствовал нам беседовать. Гувернантка Настя вздумает заметить ей иногда, зачем она слишком долго сидит со мной, но Людмила с полуулыбкой и косым взглядом посмотрит на нее и скажет:
– Что с вами? вы злы сегодня? Оставьте нас. Так что ж вы говорили, pardon... Она не будет больше злиться, продолжайте.
– Я говорю, что в мои года мужчины больше всего заслуживают любви.
– Почему это? Вы так молоды. Какая у вас славная цепочка! Покажите.
– В эти года все чувства свежее и сильнее. Eugene Sue говорит...
– Разве вы недовольны? Чего ж вам еще? Ах, кстати, отдайте мне то... Вы знаете...
– Что такое?
– То, что я вам писала.
– Право, со мной нет. Я принесу вам в ту субботу.
– Как! Вы осмелитесь мне принести? Вы расстанетесь с ним? Подите прочь – у вас нет сердца! Вы лед. Я не хочу с вами сидеть... Паша! сыграй нам Анну-польку... Митя! пойдем.
– А со мною? Не хочу! Иногда она бывала гораздо грустнее.
– Будешь ли ты верен? – спрашивала она шопотом, пожимая мне руку.
– Еще бы!
– Будь! Не забывай меня. Я без тебя жить не могу. Согласитесь, что это было приятно. Но Митя отравлял все мои удовольствия. Я никогда в жизни не видал ничегоотвратительнее его. Отец принужден был взять его из корпуса, потому что там беспрестанно наказывали за лень и шалости. Жирный, краснощекий, курносый, маленький, он совался везде в курточке и с отложным воротником, ездил везде в собранья, лез ко всем взрослым, вмешивался в разговоры. Дома затеивал шутки одну грубее другой; перепортить работу сестрам, нагрубить снисходительному отцу, зажарить живую кошку в печке, индюшке ни с того, ни с сего отрубить голову – вот его любимые дела. Бедной старой француженке, гостившей у них одно время, он насыпал на голову целую коробочку с такими насекомыми, которых я назвать не хочу. Мне он всегда старался досаждать, хотя и говорил, что очень меня любит, звал меня Володей и подольщался иногда ко мне с гадкою улыбкой. Входишь, бывало, в гостиную... так славно идешь... На столе лампа, ковер. Старик сидит на диване с трубкой, такой красный, седой, почтенный; Маша и Людмила работают около него или читают громко; Дольская с кем-нибудь на эсе... Идешь разодетый, причесанный, поклонишься – а он вдруг выскочит из угла и схватит за ногу, которую отставишь, чтоб шаркнуть. Раза два я чуть-чуть не упал. Иногда так ловко отстегнет штрипку, что я и не замечу, и хожу – а штрипка болтается. Были у меня на одной курточке рельефные бронзовые пуговицы с кабаньими, оленьими и собачьими головами; я их очень любил, а он измарал их мне потихоньку каким-то составом. Однако я был сильнее его, и он боялся меня, несмотря на всю свою наглость. Начнет рассказывать что-нибудь, непременно развратное, грязное, грубое: о том, как поступили офицеры или приказные с какой-нибудь несчастной женщиной, как жена мужа надула и что из этого вышло; показывает самые грязные картинки, которые называет почему-то соблазнительными... Меня никогда ничто подобное не могло соблазнить; я слишком высоко ставил чувственные наслаждения; я дорожил своею невинностью не для невинности, которую вовсе не ценил, а для того, чтоб быть достойным чего-нибудь изящного. И какие-нибудь пьяные стихи, особенно наши русские, какое-нибудь непристойное сочинение XVIII столетия, где мать, дочь и гувернантка предаются самой необузданной жизни – все это возмущало меня и все это нравилось Мите. Вероятно, он и сначала в душе не жаловал меня. Отец, сестры, зять, все ставили меня ему в пример, даже при мне беспрестанно говорили, что я умен, образован, так хорошо одет, так скромен и любезен... Он, вероятно, чувствовал ко мне то, что я чувствовал к Петруше дома. Это была зависть и досада более буйной натуры против сверстника более приличного, сдержанного и благоразумного. Но Митя не старался с намерением вредить мне, пока не приехал из Москвы погостить на лето к Салаевым двоюродный брат их, Березин. Он был годом старше меня; бледное лицо его было довольно красиво, но постоянно выражало каприз и гордость. Родители его имели состояние и очень хорошо образовали его. Он слыл за дельного ученика; по-французски говорил не хуже меня, а по-немецки гораздо лучше, выписывал сам на карманные деньги русские журналы, много читал, а еще больше разрезывал листы и ставил книги на полку. Встретившись в первый раз, мы робко наблюдали друг друга и разговор начали так:
– Очень приятно познакомиться, – сказал я. – Очень приятно.
– Вы в Москве живете?
– В Москве.
– Какие вести с Запада?
– Бюжо разбил мароканцев при Исле.
– А! Бюжо! я очень рад.
– Вы что теперь читаете?
– Les trois mousquetaires.
– Французская литература пуста! – воскликнул он. – Вот Шиллер, Гете, наш Гоголь...
– Кто это Гоголь?
– Как, вы не знаете Гоголя? неужели? Это великий поэт; это молодой человек, красавец собой, с черными кудрями до сих пор. Ни одна женщина не может устоять против него, когда он посмотрит... вот так... Он теперь в самых близких сношениях с графиней Неверовской.
Как не взять поэта, против которого и графиня не имеет сил! Быть может, он научит меня, даст мне в руки неслыханное орудие! Березин дал мне Гоголя и указал на статьи Белинского. Благодаря ему, я вдруг погрузился в совершенно новый для меня поэтический мiр, где о высоком говорилось таким своеобразным языком, где смех был неслыханного рода, но как-то непостижимо знаком и близок самым недрам моей души. Белинского я каждое после-обеда с педантической честностью клал на вышитый пюпитр и читал его, местами наслаждаясь, местами только уважая себя за способность смотреть на такие строчки. Бывало, в голове потемнеет, а на душе легко и пройдешься раза три гордо по комнате или отворишь окно и показываешься прохожему: пусть; мол, знают, какой человек тут живет! В связи с этими драгоценными ощущениями во мне быстро вырастало расположение к начитанному сверстнику, и беседы с ним стали мне тем более дороги, что Юрьев, Бог знает почему, около этого времени стал отдаляться от меня. Ко мне он вовсе не ходил; у Салаевых был всего раз; когда я протянул ему руку, он осторожно дотронулся до нее концами пальцев, сжал губы, закрыл глаза, вежливо поклонился, пробыл несколько минут и ушел. Другой раз я встретил его на улице и остановил его; он улыбался и молчал.
– Ты не поверишь, как мне это больно, – сказал я ему. – Помнишь, как мы славно проводили время, гуляли по вечерам или у меня сидели на широком диване с сигарами! Приходи...
– Знаете ли, кого ныньче называют образованным человеком? – спросил он.
– Кого?
– Вот стихи: Над всем смеяться кто умеет, Кто по-французски говорит, Карманы пухлые имеет, И к тому же сибарит...
– Прощайте, успехи вас ждут везде! Опять коснулся пальцев и с холодным спокойствием лица ушел в своей длинной шинели. Волей-неволей я должен был оставить его и спешил наполнить пустоту сердца дружбой с Березиным. Мы читали вместе Купера, разговаривали о лианах и бананах, о молодых негритянках, о том, что какая-нибудь пышная креолка лежит теперь в кисейном платье на пестром диване и обмахивается веером... А нас-то нет там, где мы должны были быть. Не всегда, однако ж, мы были согласны. Он слишком высоко ценил ловкость, смелость и успех; когда прочтет книгу, только и слышишь от него: "А каков молодец! как он ему закатил! как он ее надул!" А я всегда жалел тех, кому не везло. Любезничать с дамами он считал делом презренным и дружескую выпивку предпочитал самому нежному свиданию, а рассказы о буйных и грубых приключениях любил не меньше Мити. Несмотря на это, я беспрестанно приглашал его к себе и еще чаще прежнего стал ходить к Салаевым, чтоб встречать его. И при нем стыдился слишком долго сидеть с Людмилою. Но в его душе уже зрела ненависть. Не знаю, что заставило его строить против меня ковы: предпочтение ли дам возбудило его зависть, желание ли куда-нибудь направить жажду таинственной, романтической деятельности, которая его пожирала, досада ли за то, что раз я поборол его при всех, а Другой раз выиграл пари о том, кем написан "Цинна": Корнелем или Расином... не знаю...