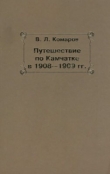Текст книги "Подлипки (Записки Владимира Ладнева)"
Автор книги: Константин Леонтьев
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
– Маменька хочет меня опять к тетеньке увезти. – Зачем?
– Не знаю. Маменька скучает одна ездить.
– Это скверно. Пожалуй, тебя отдадут там за какого-нибудь противного замуж. А я бы еще раз хотел бы тебя поцеловать, как тогда под платком. Я, кажется, влюбился в тебя...
Паша покраснела и молчала. В эту минуту вошел мой камердинер Андрей, и я отскочил от пяльцев.
– Экие вы прыткие, погляжу я на вас! – заметил он, погладив усы. – А Ольги Ивановны здесь нет?
– Ты видишь, что нет. Однако Ольга Ивановна пришла и вовсе помешала мне продолжать. Дня два после того не было случая наедине поговорить с Пашей. По утрам я иногда немного занимался. Я пробовал переводить кой-что прозой из Шиллера назло одному зрелому московскому знакомому, который уверял меня, что в 20 лет невозможно понять ни Шиллера, ни Гете.
Возвышая себя этими трудами перед строгими вопросами, которые задавало мне мое же самолюбие, я немного отводил душу, слишком полную нетерпения для однообразия окружающего ее быта. Человеку, понимающему Шиллера, казалось, можно было извинить многое.
Немецкая поэзия, к несчастию, действовала на меня в 20 лет точно так, как в 17 и ранее набожность, внушенная теткой. Бывало, помолишься усердно, постоишь у ранней обедни, попостишься, положишь поутру несколько земных поклонов, сочтешь себя квитом с совестью и ободришься после этого до того, что нагрубишь кому-нибудь, или разругаешь слугу, или даже побьешь какого-нибудь мальчишку. Тетушка с Ольгой Ивановной собиралась ехать в гости за 10 верст, а я переводил "Der Abend" из Шиллера. Тетушка уехала, и я уже кончил перевод. Час, должно быть, был 9-й в исходе, когда я решился взбежать наверх, пользуясь тем, что люди ужинали. Сначала я в темноте не мог ничего разобрать. Паша перевесилась на окне, отворенном в сад, и была прикрыта занавеской. Когда я отыскал ее и молча обнял одною рукою, другой облокотясь около нее, она сказала: "А тетушка, верно, скоро уж будет?" – Какой вздор! Она ночует там. – Мне она ничего не сказала.
– Ночует. Вроде этого был весь разговор. Еще помолчав, я поцеловал ее в лоб; но милая девушка сама протянула мне губы и, улыбнувшись чуть видной в темноте улыбкой, спросила:
– А что, если б Ольга Ивановна увидала? – И след за этим поцаловала меня так крепко, что я вышел из себя.
Я просил ее прийти на садовый балкон, когда все улягутся. Боясь ее обидеть, я прибавил, помнится, что ночь будет месячная, что мы только посидим, погуляем и поговорим.
Паша согласилась. Вы, может быть, не поверите, что вечер был лунный, однако было так... Я встретился с нею еще раза два до ночи.
Я оставил ее в первый раз наверху и долго ходил по двору взад и вперед. О чем я тогда думал, не знаю, но, вспоминая свою беспокойную судьбу, полагаю, что недоумение боролось во мне с надеждой. Однако она еще прежде срока сошла на заднее крыльцо и, севши на ступеньки так, что розовый длинный фартук ее был виден издали, стала петь...
Я продолжал ходить и слушать, пока она не удалилась. После, когда уже пробило половина 11-го в зале, я был готов сойти, потому что лег на постель в сапогах и халате.
Я вышел, перешагнул через Федьку, который ночевал в хорошие ночи на переднем крыльце, и пробрался в сад к балкону.
Паши не было, но над навесом балкона было открыто окно в спальне Ольги Ивановны, и я ждал недолго.
Паша сперва повисла на окне, посмеялась тихонько оттуда, сделала какие-то знаки и, скрывшись, скоро явилась из-под сирени сбоку. – Откуда это ты? – В лазейку пролезла, около заднего крыльца.
– А через калитку отчего не прошла?
– Как можно! У калитка Егор Иваныч спит – знаете, на чем он спит?
– На чем?
– На щиту на соломенном.
– Так что ж?
– Так это я говорю... Где ж мы сядем? На балконе я боюсь, – продолжала Паша,
–пойдемте на траву за балкон.
На траве было очень сыро, и крапивы набилось много в углу, между балконом, концом стены и сиренью.
Мы хотели сидеть долго и спокойно. Паша вспомнила о щите, который лежит иногда для караульщиков на балконе.
Мы его взяли и, разостлав его, сели в сыром углу, на который из-за высоких груш светил полный месяц.
Мы много цаловались и говорили о житейском. Паша жаловалась на мать.
– Она всегда бранит меня. Господи Боже мой! И что это я сделала ей? Вот тятенька, когда еще был жив, так очень любил меня. Мне не хотелось жалеть Пашу, потому что хотелось не любить ее, а повеселиться с ней. Я спешил переменить разговор, и время до часу ночи прошло в переливании из пустого в порожнее. Да мне все равно было, о чем ни говорить. Даже, чем дальше от нас предмет разговора, тем лучше, правдивее и свободнее. Дело было не в том, чтоб говорить о любви, которой нет, о наших чувствах, для которых язык у нас был разный: дело было в том, чтоб сесть поближе друг к другу, чтоб завернуть ее в халат, чтоб она не озябла, гладить рукой по ее чуть-чуть пушистой руке, по щекам, по волосам, причесанным за уши; надо было целовать друг друга в губы, долго, не переводя дыхания.
Я хвалил ее невинную прическу, ее глаза; она говорила, что этот черный фланелевый халат с кистями идет ко мне, упрекала, зачем остриг волоса, и тому подобное.
Пора и спать, однако! Повторения этой ночи не было.
Тетушка, во-первых, после уже не отлучалась никуда. Паша спала с Ольгой Ивановной; я было и предложил ей раз ночную прогулку, но она и слышать не хотела о такой смелости. Иногда пройдешь мимо нее, тронешь ее тихонько – она улыбнется и не скажет ни слова. Впоследствии я узнал, что чувством можно было довести ее до всего, но мне не говорилось тогда страстно. В таких отношениях прошли еще недели две, и я, возбужденный препятствиями, стал думать не шутя о том, как бы обольстить ее.
Вы, конечно, не думаете, что сердце мое к двадцати годам было, как белый лист бумаги. Изо всех девушек, которые мне нравились в старину, Паша более всех неразлучна с Подлипками: здесь я встретил ее, здесь и расстался с ней. Но я не могу сделать шага без оглядки. Я не могу продолжать о Паше, пока не скажу о неизвестной вам Софье Ржевской... О Софье Ржевской не могу говорить, не сказав ни слова о домашних наших девицах. Самое наслаждение тишиною Подлипок в лето моего сближения с Пашей не имело бы смысла, если бы перед этим не было множества мелких бурь. Прощайте! Теперь ночью все страшно молчит в вымершем доме...
V Я еще не в силах рассказывать вам все по порядку, а писать хочется; самые воспоминания мои идут не так, как дело шло в жизни, а следуют за моими настоящими размышлениями и путаются с ними. То помню я себя как в глубокой мгле... Ни дома, ни деревьев не вижу перед собою, а только перила балкона и на балконе трех девушек. Я же – должно быть, еще очень маленький – вхожу на этот балкон и пускаю изо рта пузыри. Лиц этих девушек я не помню в ту минуту, но пестрый ситец одной мне знаком – дикий, с красными узорами. Девушки вскрикивают и приказывают мне оставить неопрятное занятие пузырями. И на все снова задергивается завеса... Потом улыбается мне свежий молодой родственник в коричневой венгерке – улыбается, а на него ласково прыгает борзая собака... Двор вокруг зеленеет, солнце блестит, собака весело лает; корыто с кормом около меня, и молодой родственник манит меня рукой: "Володя! Володя!" ...И снова тотчас за этим призывом закрылась жизнь, разверзшаяся на минуту перед непрочным детскими чувствами.
Молодой родственник, хотя ходил в коричневой венгерке тогда, но на самом деле был военный, офицер путей сообщения, и слыл за благонравнейшего человека в нашей семье; удивительно клеил он коробки, корзинки, рамки, прекрасно рисовал акварелью, еще лучше служил, а всего дороже было для меня то, что первые памятные дни мои украшены его снисходительной лаской. Еще будучи в Петербурге кадетом, хаживал он к нам по воскресеньям в отпуск (тетушка в старину способна была и в Петербурге провести зиму!), и хотя для меня все еще было очень смутно кругом, но Сережа был ясен. Он любил сидеть за столиком у окна и рисовать по моей просьбе карандашом разные виды. То корабль плывет по океану, а я смотрю через борт вместе с тетушкой Марьей Николаевной – матросов мы не рисовали; а навстречу нам из Подлипок едет лодка, и в лодке Олинька, Верочка и Клашенька, наши барышни, сухорукая Аленушка, и ключник Егор Иванович гребет... Случалось, что на берегу моря мыла прачка белье, а по небу сверкал зигзаг молнии и мчались облака; другой раз изображался большой дом, корпус, жилище Сережи и Сережа у окна; от Подлипок к нему шла длинная аллея, и по аллее ехали мы с тетуушкой в коляске; а над зданием парил огромный орел, унося ягненка... Подобных рисунков было много; не знаю куда они делись. Сережа, в знак дружбы ко мне, на всех свободных местах – например, на столбах ворот, на краях крыш, на притолках дверей, на борте корабля, на парусах и флагах – надписывал мелкими буквами: Володя, Володя, Володя.
Сообразив время, я вижу, что кадет предшествовал коричневой венгерке, а человек был все тот же. В свою очередь, коричневая венгерка была только временной о6олочкой, и скоро настал веселый день, когда с утра съехались в Подлипки гости; с утра, надев замшевую перчатку на правую руку, завивался Сережа горячими щипцами в два кока перед маленьким зеркалом на антресоли, а я, не отходя от него, любовался на лицо его то так, то в зеркало. Небольшого роста был наш Сережа, но строен, почти брюнет, но бел. Лет десять спустя я нашел, что он всегда был похож на тех алебастровых девиц с розовыми щеками, которых продают в лавках; прибавьте только чуть пробившиеся темные усы, два кока, один небольшой, другой совершенно a la coque marine, да мундир с известными отличиями путейской формы – вот Сережа – жених. Но тогда он был мил для меня, и его радость меня радовала Едва выпущенный из корпуса, приехал он к нам и гостил более года. Он по-старому продолжал рисовать для меня все на свете. Воображение мое требовало пищи, и он насыщал его.
Воображение было у меня всегда необузданное. Мадам Бонне, старая моя гувернантка, поддерживала его деятельность географическими занятиями, рассказами о путешествиях Кука и других, картинками детских музеев, где гигантские каракатицы низвергали корабли, львы боролись с колонистами, райские птицы распускали желтые хвосты и т. п., более же всего "Вечерними беседами в хижине" Дюкре-Дюмениля. Все вырастало тогда вокруг меня: камин, топившийся в зале, был для меня горящим древним замком, зала – огромной пустынею, душники печей -отверстиями ада, а члены сборной семьи нашей и знакомые – мифологическими богами, с которыми я познакомился по одной французской книжке. Эта книжка принадлежала мадам Бонне: я знал, что картинки в ней были плохи, грации были гораздо хуже наших деревенских девок, с которыми случалось мне кататься с горы на масленице, а Юпитер с бородой нисколько не величественнее Егора Ивановича. Текст был зато приятен: "Qui etait Vulcain?" Следовал ответ... Все читанное и слышанное старался и воплотить в окружающем меня. Таким образом Палемон, отец "Вечепних бесед", слился у меня в одно с старым лесником Пахомом, который издавна жил за садом в молодой роще, поднимавшейся на прежних порубках. Патриархального в нем было достаточно: седая борода, клюка, избушка крошечная, на крошечной лужайке в глуби орешника; одного я не понимал: как мог Палемон, или Пахом, при такой жизни драться на шпагах; а в книжке сказано, что он дрался, если я не ошибаюсь?..
Однажды переделывали залу; половицы были подняты, изображая для меня глубокие пропасти. Едва мужики уходили обедать, как я уже прокрадывался туда и, отстегнув с гвоздя угол старого плетеного ковра, которым была забита дверь из мрачного коридора в волшебную пустыню, шел твердою ногою искать руду в неизвестных горах. Часто случалось, что я не признавал своих умерших родителей и уверял, что мать моя была американская царица и что мы ехали с ней в колеснице по берегу моря; лошади понесли – мы упали, меня унес орел, но потом уронил в море; здесь я, как Иона, был проглочен китом и, наконец, выброшенный им на берег Испании, попал, как воспитанник, в Подлипки.
Нужно было найти приложение и для мифологии. Кроме душников – отверстий ада, были у меня другие соображения: высокий толстый сосед Бек, приезжавший к нам на Святой и даривший мне всегда яйцо, раскрашенное разными ситцами, стал Юпитером; Юноной была сама тетушка; Сережа то Марсом, то Аполлоном; мадам Бонне была Минервой, а бледная, стройная Олинька – Венерой. Надо сказать, что последнюю считали у нас чем-то напоминающим резец Фидия. С течением времени, когда своенравные требования личного вкуса заговорили во мне сильнее, такие лица перестали нравиться мне; но в детстве я любил эту картинную девушку, высокую и тонкую, с природною восковой бледностью строгого лица, с томным и скромным взглядом, в бедном ситцевом платье, танцующую гавот перед заезжим танцмейстером.
Но надо поскорее покончить историю свадьбы Аполлона и Венеры. Оба кока завиты, талия в рюмочку. Я сбегаю вниз, В угловой комнате, в той самой, где пылала по вечерам печка и звучала с лежанки чародейка Аленушка, вижу таинственно полурастворенную дверь, и эта щель обличает особый род приготовлений, не виданный мною никогда. Боже! Что за прелесть! Балдахин не балдахин кисейный, оборки не оборки; розовый цвет белья... Стараюсь вспомнить, что пришло мне в голову тогда, и не могу; кажется – я удивился: "Зачем же это вместе? неужели не стыдно?"
Гостей было немного, и я не помню их лиц; но из смутного представления движущихся фигур мне ясно виден воздушный образ небогатой невесты в белом платье с черной бархаткой на шее. Доримедонт с усами докладывает что-то; все шумят. Тетушка три раза входит и уходит в разных чепцах и даже все боком, потому что коридорная дверь узка, а чепцы широки. Первый чепец огромен, и лиловые ленты стоят во все стороны. Вероятно, ей сказал кто-нибудь, что цвет слишком печален, только она в другой раз вошла с оранжевыми лентами, опять ушла и вернулась с белыми.
Все гудит в прихожей; белый призрак наклоняется ко мне и горячо целует меня; лицо мое омочено ее слезами. Все умолкает... Тетушка сидит одна у окошка на высоком вольтеровском кресле, играя табакеркой, и не отводит глаз от окна. У ног ее, на скамейке, Федотка-дурак в оливковом сюртуке и белом галстуке пилит что-то задумчиво на скрипке, а я, схватив обломок сабли, в исступлении ношусь и воюю по зале.
Еще виден мне, после, угол желтой комнаты, ряд стульев, молодая в розовом капоте на одном из них и Сережа в вицмундире, цалующий ее руку. Вечером Аленушка кладет меня в постель; я долго слышу звук органа и смутные возгласы родных, веселящихся в больших комнатах.
Удивительная была парочка! Они уехали скоро; но долго еще после этого хранились в душе моей их примерные личности. Жил я у дяди потом, возвращался к тетушке, рос, учился – но все в неприкосновенной чистоте сохранялось вокруг меня предание о достоинствах этой четы, выпущенной на жизненное поприще из благодетельных Подлипок. Вот их простая история, собранная из разных источников. Инженер наш приехал в отпуск, влюбился и посватался. Тетушка написала письмо к дяде; дядя написал к какому-то генералу; генерал достал место Сереже. Тетушка не ограничилась этим: она сшила Олиньке подвенечное платье из кисеи, купленной еще прежде у разносчика, подарила ей бархатку на шею; другие знакомые дали вуаль. Тетушка колебалась, говорят, несколько, сшить ли наволочки с оборками или нет и вообще приготовлять ли все, что следует, в том розовом виде, в каком предстала мне таинственная спальня из полурастворенных дверей; но приезд дяди Петра Николаевича поправляет все дело. Приезд этот я помню. За несколько дней до описанных мною свадебных картин на дворе уже было темно; я, помолясь Богу, ложился спать под надзором Аленушки, как вдруг дверь растворилась и кто-то сказал: "Петр Николаевич приехал!" Аленушка, стоявшая на коленях перед моею кроватью, вскочила. В других комнатах поднялась беготня. Мигом я одет и бегу в залу. По зале идет дядя в косматом черном пальто, а тетушка ведет его под руку в гостиную, другие беспорядочно толпятся сзади и спереди, но кто и как – не помню. Дядя – лицо немаловажное: он был у нас представителем всего того, что могло пробуждать в Подлипках честолюбие; он был начало всякого блеска, золота, крестов родни московской, вороных шестериков, запряженных в карету (не нашей чета!)... Взгляд открытый и строгий, легкая лысина на благородном лбу, и завитки слегка седеющих темных волос; Георгиевский крест всегда на модном статском платье, а в случае парада – мундир военный и целый ряд отличий на груди; белые большие руки и благоухание от волос, одежды, даже от гладко выбритой щеки, которую он мне и на этот раз, как всегда нагнувшись, подставил. На заднем плане его жизни виднелись толпы турок в чалмах и кривые сабли, рубящие головы наших солдат. Эй, казак, не рвися к бою,
Делибаш на всем скаку Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку!.. Голова у него была разрублена в одном месте; левая рука прострелена; в груди две раны. Когда тетушка, всегда экономная, покупала у разносчиков стираксу для куренья и на коробке, чтобы указать на восточное происхождение аромата, было изображено и подписано: "Стражение между семью турками и двумя казаками", я вспоминал о грозном и вместе милостивом родственнике. Впереди несчастный мусульманин, верхом, в зеленой чалме, хватался за бок, пронзенный пикой воинственного Дона; другой турок лежал ничком на земле; от третьего остались только куски: там рука, там голова, там нога в туфлях торчали из дыма, обвившего двух главных бойцов. Подальше за холмами рубился против четырех маленьких неприятелей маленький казак, а горизонт замыкался рядом елей, в которых воображение мое привыкло подозревать дядю с полком: он спешил выручить героев. Сама тетушка имела в спальне своей прекрасный абажур с раздирающими военными сценами – но здесь уже гибли бедные французы в медвежьих шапках и синих мундирах. Тетушка говорила, что брат сам прислал ей этот абажур из-за границы, и так как он тогда был ранен, то она не могла видеть перед собою кровавых рисунков, которым свет свечи по зимним деревенским вечерам придавал так много выражения.
– Такой сумасшедший! – говорила она,– выдумал, что прислать! Как, бывало, ни погляжу, так дурнота и сделается!
Хотя я никогда не допускал, чтобы тетушка могла упасть навзничь в обморок, потому что она очень плотно стояла на толстых ногах и упорно сгибалась вперед на ходу, но впечатлению абажура сочувствовал.
"Поди-ка, попробуй,– думал я даже гораздо позже Сережиной свадьбы: – Поди-ка! Ведь это здесь, в зале, легко рубиться или амбар брать приступом; а как настоящий турок? Вот человек-то дядя!"
Он недавно еще представлялся государю и разговаривал с ним. В Подлипках шептали, говоря о нем; ему отводилась лучшая комната. На столе камердинер раскладывал тысячи туалетных безделушек: серебряные коробочки, хрустальные и пестрые баночки, щетки в богатой оправе, перед которыми жалки и нечисты становились складное зеркальце, роговой гребень и старая щетка бедного Сережи! "Уж не он ли Марс-то?" –подумал я однажды.
И Сережа был раз навсегда разжалован в Аполлоны. Так как Грецию я тогда знал по словам мадам Бонне и Гомера не читал еще, то и не знал, что у него Марс прост и Минерва его бьет... Минерва, ученая женщина,– мадам Бонне. При ее накладке, при лице ее, блестящем и сморщенном, как те моченые яблоки, которые по вечерам подавал нам Доримедонт, – можно ли поверить, что она бьет воинственного Петра Николаевича? Поди сообрази все это!..
С. приездом дяди дело свадебное приняло иной оборот и при нем тетушка не смела отказаться от приличных издержек. *
В каретном сарае, от которого теперь остались одни кирпичные столбы, была у нас простая крашеная бричке Ее выкатили к пруду, и кучер мыл и сушил ее. Потом подвезли ее к крыльцу, и молодые влезли в нее с немногочисленными пожитками и горничной девочкой. Плакали ли они или радовались – не знаю, но, говорят, тетушка дала им двести рублей да дядя триста ассигнациями – вот и все! Загремела бричка по двору, свистнул Агафошка: "Ну, ворочайся!" – и мигом скрылись надолго-надолго да стрижеными акациями изгороди мои дорогие мифологические существа! Десять лет не видал я их потом – десять лет для меня, ребенка!
Они жили в трехстах верстах от нас и не приезжали ни разу. Олинька раза три в год писала тетушке, иногда вспоминая и меня. Тетушка сначала всякий раз сокрушалась о бедности их, сделала им широкое одеяло из разных ситцевых лоскутков, все шестиугольниками, раза три посылала им по сто рублей ассигнациями, а потом стала радоваться, что они поправились... да так поправились, что тетушке прислали, зная ее религиозность, из серебряной проволоки красивыми цветами выделанную лампаду к образам ее спальни. Тетушка заплакала и сказала мне:
– Вот видишь, Володя, что значит, мой голубчик, воспитание хорошее. Посмотри, голубчик, какая лампадка – это он, конечно, трудами рук своих приобрел. Да!
– Что же они, ma tante, разбогатели?
– Он место имеет хорошее; к начальству был почтителен, искателен был, трудолюбив
– я всегда старалась внушить ему набожность. Отец его был большой приятель моему покойнику, они вместе служили – они ведь троюродные братья были, на одной квартире жили и все делили между собой. Видишь, мой друг, все награждает Бог в правосудии Своем. Кто к Нему прибегнет, тому всегда хорошо. Я помню раз, кадетом еще оскоромился он Страстную – уж я ему голову-то мыла, мыла!.. Скромный, почтительный был мальчик! "Что, батюшка, стервятники покушал?" А он: "Ах, ma tante, я понимаю свой грех, это в последний раз!" И сам плачет в три ручья. Вот ему Бог и послал. А кто не верует, тому одно наказанье и в этой жизни бывает и в той. Помнишь ты, у дяди Петра Николаевича, в Троицком, на антресолях есть портрет – красивый такой мужчина, с большим жабо... такое лицо... (тетушка сделала такое лицо). Помнишь?
– Помню.
– Это был граф Короваев. Что же ты думаешь? Этот человек имел все от Бога: и красоту, и богатство, и жена у него была красавица... Ведь нет, подгадил-таки, поехал Париж, начитался Вольтера и вернулся таким безбожником, что ужас. Волос, бывало, дыбом становится, как он начнет говорить. Мой муж сам читал Вольтера: бывало, сидит вот в этих креслах и читает. II aimait la lecture. У него были всегда прекрасные пеньковые трубки, и он курил на кресле и нарочно читал Вольтера – почитает, почитает и вдруг вскрикнет: "Ах, какая скотина!" Непоколебимой был веры человек!.. А тот ничего священного не знал: перед причастием кофе со сливками пил; в церковь и калачом не заманишь ни за что! Как же он кончил, ты думаешь? Жена у него умерла давно, он жил в Москве. Домина у него огромный был около Арбата. Только вот у него стали делаться какие-то припадки: вдруг упадет в обморок и трепещется весь, и пена у рта – просто ужас! Вот дворецкий, его фаворит, и вздумал одну странницу привести отчитывать его... Она клала ладонку небольшую на грудь больным и молилась, и, говорят, всегда помогало. Сколько раз она приходила, не знаю; только, видишь, дворецкий, как он станет приходить в себя, сейчас и уведет странницу: боялся его. Стало ему лучше; Друг он и увидал ее – не успела уйти. "Это что такое? – закричал. Вон, говорит, побродягу отсюда! я, говорит, покажу вам!..." И понес ахинею. Ну, что ж? Сделался с ним обморок раз, упал лицом вниз да об стол подбородком – язык прикусил. Люди все разбежались, кто за лекарем, а кто от страха. Мой покойник, как нарочно, входит к нему. Представь себе, мой друг, язык до того распух и вытянулся изо рта синий, что он так и задохся. Глаза налились, смотрят на мужа, а сказать ни слова не может. Тот бегом с лестницы и без содрогания вспомнить не мог... Вот тебе пример!.. Сережа озарился в моих глазах новым светом благонравия. Недоставало только видеть его блаженство в настоящем; но и на это представились случаи. Однажды в Москве, семнадцати лет, я скучал один после обеда, как вдруг вошел в комнату военный денщик и спросил, я ли Владимир Александрович Ладнев, и подал мне записку.
Вот она: "Если вы не забыли ваших родных, бывших для вас когда-то Аполлоном и Венерой, то приходите к нам сегодня на стакан чая, в шесть часов вечера. Мы стоим в такой-то гостинице, в 17-ом номере. Жена моя ждет вас с нетерпением... Ваш Сергей Ковалев".
Бегу, бегу в 17-й номер – шестой час, насилу пришел. Любопытство отнимает у меня ноги; я беру извозчика и скачу.
Это свидание не показало мне ничего особенного. Mы обнялись, улыбались друг другу с Сергеем Павловичем, он говорил, что я вырос; я говорил, что он ничуть не по старел.
Олинька по-прежнему хороша отвлеченно, но уже совершенно не в моем вкусе. Прошло десять лет: ей было двадцать семь, ему двадцать девять – в самой поре!.. Шестилетняя дочка показалась мне слишком жирна и скучна; номер не совсем опрятен; открытые погребцы и ящики, разбросанное платье, посуда где попало... Чай плохой, но прием радушный. Чтобы не отвечать сухостью на изъявления их родственных чувств, я принялся говорить о прошедшем детстве, о Подлипках, думая, что это будет приятно им. Самовар шипел; дочка дремала на скверном диване; Сережа курил трубку и слушал, как я рассказываю. Олинька прервала меня вопросом:
– А что тетенька? все такая же скупая? Я с изумлением взглянул на бледную нимфу. Где же эта глубокая, нравственно-религиозная связь между благодетельницей и восхваляемой ею четой? Разве может близкий нам человек быть скуп, зол и т. п.? Или если так, так пусть он не будет близким отныне. Стоит ли говорить о нем? Вот благодарность!
– Чем же тетушка скупа? – спросил я. ,
– Ну уж так скупа, как нельзя хуже,– сказал Сережа, – хорошо он нас отпустила тогда! Я скажу при ней (он указал на жену), что, не будь ее прекрасный характер, я бы с ума сошел. Ведь у нас ни ложки не было, ни чайника – ничего ровно. Я должен был ходить на службу на другой конец города по морозу, по слякоти, по дождю; возишься там целое утро, а придешь домой – перекусить нечего! Олинька тихо засмеялась, устремив на меня томные глаза.
– Я, знаешь, всегда старалась все ему в забавном виде представить... Зачем отчаиваться?.. Он, бывало, придет усталый, злой, а я и представлю ему какую-нибудь штуку, палочкой или щепочкой чай ему мешаю... Он рассмеется. Нет, любовь и хороший, веселый характер не заменишь ничем! Сергей Павлович взял проснувшуюся дочь на колени и начал ласкать ее; потом присовокупил:
– Конечно, все надо судить по средствам. Тетушка, не забудь, имела более 1000 душ и в то время не выезжала из этих Подлипок. Какие там расходы? Смешно! Ни тебя, ни других наследников она бы не ограбила, если бы помогла нам хорошенько. А тут ребенок родился – каково это!.. То-то... Все эти ханжи так... черт бы их побрал!
Олинька захохотала.
– Полно, что ты бранишься! – сказала она.–Не все бывают щедры на свете; у всякого свой недостаток. Тетушка все-таки очень добра. Помнишь, она одеяло нам сшила, которым наша Авдотья одевается... Ты смотри, Володя, не скажи тетушке... Я был смущен. Мне рисовалась бедная, душная квартира в губернском городе, усталый труженик, неопытный отец нового семейства... А там, у нас в Подлипках, большие, чистые и широкие комнаты, цветы, старинная, но прочная и удобная мебель, тетушка с наставлением на устах и спокойным взором, а пуще всего – ящики ее туалета, всегда запертые... Там-то хранились сокровища, достаточные для услаждения жизенной муки двух десяток семей... О Боже! Как это ново все!..
Отчего эта похвальная жизнь Ковалевых так чужда мне теперь? Родного сердцу уже нет в них ничего!
Грустно покинул я 17-ый номер. Года через три судьба снова сблизила меня с Ковалевыми; но чем ближе подходили они ко мне в действительности, чем живее становились наши ежедневные встречи, тем более немело сердце... Еще год или два, и они для меня не существовали. VI
Жить мне было хорошо у тетушки. Хотя права наследства после нее я делил с старшим братом моим, с дядей Петром Николаевичем и с его сыном, Петрушей, но я был Веньямином родства. Петрушу, двоюродного брата, Марья Николаевна видела редко; брат мой был уже велик,
двенадцатью годами старше меня, и учился в петербургском корпусе; он занимался порядочно, но часто огорчал тетку своими шалостями, и, сверх того, мать моя, вторая жена покойного отца, была любимой невесткой тетушки. Мать старшего брата была женщина легкомысленная и гордая и, по словам Марьи Николаевны, изменяла мужу.
– Слава Богу, – говорила мне тетушка, когда я уже был большой, – что она подобру-поздорову скоро убралась... Такая пустоголовая бабенка! Она бы мужу года в три шею свернула... Вообрази себе, мой друг, что она сделала: вздумала раз с своим возлюбленным вечером в санях кататься! Уверила твоего отца, что у него жар, уложила в постель, напоила липовым цветом, навалила на него целую медвежью шубу – и была такова: "Не смей вставать без меня; если ты заболеешь, я не перенесу!"
Моя же мать была иного рода, и отец женился на ней, когда ему было уже под сорок лет.
– Он много страдал от раны около того времени, – сказывала Марья Николаевна. -Бывало, сидит в халате на беличьем меху. Куда уже тут с молодой женой! Раз вышла она в газовом платье, вся юбка вышита белым шолком, на голове брильянтовая нить, жемчуги на шее: на бал в Москве собралась. Она была прелесть как хороша! Что ты ее на этом портрете видишь, mon cher? Локоны одни белокурые чего стоили! Бывало в мазурке несется, головку набок, еще девушкой – просто загляденье! Ну, вбежала, платьем шумит, а брат и вздрогнул. "Что ты, говорит, Саша, так шумишь? Если ты хочешь плясать и мужа бросаешь больного, по крайней мере не пугай его". Она сейчас глаза опустила. "Если тебе, говорит, неприятно, я платье сниму и с тобой останусь". Ну, смягчился, знаешь. "Ничего, ангел мой; это я так сказал. Поезжай, дружок, веселись, пока весело". Она чмок его, чмок меня – и помчалась. Брат вздохнул и рукой только показал ей вслед. А я ему говорю: "Помилуй, Александр Николаич, возьми ты ее года в расчет! Разве ты можешь в чем-нибудь ее винить?" -"Ни в чем, ни в чем, – говорит, – кротка, кротка как ангел!" А сам закашлялся и слезы на глазах. Взял меня за руку... "Маша! Маша! – говорит – хотел бы я с вами еще пожить!" Да нет, через полгода скончался... Мать моя тоже умерла на руках у тетушки, и всю дружбу свою к отцу и к ней, все свое врожденное чадолюбие, которому, по бездетности ее, не было прямого исхода, обратила она на меня. До десяти лет спал я в ее спальне; сама она заботилась о моей одежде, о моем ученье, насколько умела; учила сама меня читать "Отче наш", "Богородицу" и самую любимую мою молитву, в которой я как бы запросто и детски разговаривал с Богом: "Господи, дай мне счастья, здоровья, ум, память и доброе сердце! Избавь меня от всех болезней и спаси меня от всех бед!" Володя был кумиром Марьи Николаевны. В большой спальне ее висели портреты всех родных. Акварели, большие портреты в рамах, силуэты: я же был изображен в нескольких видах. Над большим креслом ее парил крылатый херувим без тела: это был я, едва рожденный на свет. В другом месте я в локонах сидел на ковре, в третьем – скакал на деревянной лошадке...